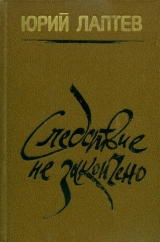
Текст книги "Следствие не закончено"
Автор книги: Юрий Лаптев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 49 страниц)
1
Несмотря на то что житейский стаж Митьки Небогатикова был невелик, иной человек и за полвека не повидает и не переживет столько, сколько успел повидать этот парень, уже с шестнадцати лет оказавшийся, по его собственному выражению, «на воробьином довольствии»: то тут, то там присядет пронырливая птаха, сидит и поклевывает, воровато вертя головкой, опасаясь даже того, кто не желает хлопотливому летуну никакого зла. Правда, приходилось Митьке и битым быть, не всегда жизнь – родная мать, иногда и мачеха!
Но такого поистине сокрушающего удара, какой нанесла Небогатикову в этот так празднично начавшийся для него день судьба, Митька еще не переживал.
Впрочем, судьба ли?
Сам. Сам во всем виноват. Вот этими руками безжалостно смял, раздавил свое собственное, еще только наметившееся и потому хрупкое счастье.
«…Только тебе я могу теперь рассказать все. И только ты не скажешь мне того слова, которое я снова услышал сегодня. Самого тяжелого для меня, бывшего вора, слова – «врешь!».
Да – бывшего!.. Может быть, и ты не веришь?
Еще когда меня впервые заперли в подследственную, мамашка моя, Анна Прохоровна Небогатикова – портниха она отличная, на весь город Сапожок славится… О чем это я?.. Да, да, именно мать сказала мне такие слова: «Я, говорит, перед всеми людьми гордилась, что вырастила такого красавчика сына! А оказалось… Тряпка ты, Дмитрий! Половая тряпка: намочили тебя злыдни водкой и тобой же стали вытирать грязь! И меня ты обманул, и отца своего – солдата, которому памятник поставлен у самой Кремлевской стены!»
Вот какие слова сказала мне мамочка. Очень сердечные слова.
Мне бы не только ушами их надо было воспринять!
А я…
Через два года я обманул сразу трех народных судей. Чуть не до слез разжалобил их чистосердечным признанием. Правда, в тот момент я и сам своим словам поверил.
И даже, помнится, слезу пустил.
И вот снова…
А ведь еще утром – и Михаил Иванович, и этот сердитый башкиренок Ярулла, и братья Малышевы – два сапога на одну ногу, и… она!..
Да и сам я был уверен, что не только навсегда выкарабкался из зловонной ямы, но и заслужил, как теперь понимаю, самое уважаемое на советской земле звание – рабочий человек!
Если бы ты видел, как твой приятель топал сегодня утречком по улице Победы, шел и, поверишь ли, сам себе завидовал: словно не какой-то Митюха вырядился в новый костюмчик и вышагивает по бульвару, а Герой всего Советского Союза Дмитрий Никонович Небогатиков!
А сейчас время к ночи. Ну и слава богу: кончается самый позорный в моей жизни день. Нет и не было сегодня никакого праздника! И друзей таких хороших больше никогда у нас с тобой не будет.
Живучим оказался Митька-свистун.
Сволочь!
Только недолго осталось ему смердеть…
«Не в лицо ты всем нам плюнул, а в самую душу!» – разве можно пережить такое обвинение?
И она – милая, милая, милая Машенька…
Если бы ты видел, какими стали у нее глаза. Нет – такие глаза не прощают!
Ты, конечно, спросишь: почему я, вместо того чтобы высказать им все, что говорю сейчас тебе, вдруг словно огадючел?
Думаешь, не поверили бы?
Ну конечно! Ведь не поверил же Михаил Иванович тому, что я украл эти проклятые деньги в доме, где проживает его ненаглядная Катюша. Словно черт мне их подсунул, как голодной собачонке сосиску!
«Врешь, мерзавец!» – сказал Михаил Иванович. Лучше бы ударил.
И сейчас: ведь сколько времени прошло, а никто из них даже не заглянул сюда.
Ясно: не верят и… презирают!
Ждут, очевидно, чтобы я сам от них ушел.
А куда?
И, наверное, только ты всю свою кошачью жизнь будешь вспоминать добром непутевого хозяина.
Ведь теперь ты единственное живое существо, которому еще нужен Митька Небогатиков.
Да и характер у нас с тобой одинаковый: тебя ведь тоже много раз пытались перевоспитывать – и уговорами, и ремнем.
Эх, и тяжело тебе будет, Баптиша, друг ты мой мохнатенький!»
Митька бережно прижал к груди, где отчетливо и тревожно билось сердце, растроганно мурлыкавшего кота.
И заплакал…
2
Знал бы Митька, какие не менее горькие слезы неудержимо текли и текли из глаз девушки, которая еще недавно звала его «мой цыганчик» или «Митюнька».
Да и трем здоровенным парням, безуспешно пытавшимся успокоить своего комсомольского вожака, впору было прослезиться.
– Между прочим, Машка, ты совершенно напрасно думаешь…
Глеб Малышев не закончил столь уверенно начатой речи: откуда парню знать, о чем могла думать девушка в такую минуту.
– Вот и главное, – столь же туманно поддержал брата Борис.
И только Ярулла высказался определеннее:
– Мой дед Мустафа Уразбаев говорил, что даже совершенно глухой человек может услышать, если ему говорят хорошие слова.
– Это ты к чему? – разом спросили братья Малышевы.
– Люди мы или нет? Интересно.
– Тю!
– А раз ты человек, должен и поступать по-человечески!
– Да, да, ребята! – Доселе безучастная Маша-крохотуля встрепенулась, словно вспомнила что-то очень важное. – Какой бы он ни был, но то, что вы оставили… – девушка чуть было не сказала «Митюшу», но вовремя спохватилась, сказала: – Небогатикова…
Как это ни странно, но настоящую, а точнее сказать – действенную чуткость проявил в первую очередь «сердитый башкиренок». Странно, потому что из всех громовцев только Ярулла с первой же встречи не то чтобы невзлюбил Небогатикова, но относился к нему настороженно. А после признания Митьки сказал, негромко сказал, но все услышали: «У нас в Салавате говорят: кто украл хоть гривенник, тот совести продал на сто рублей!»
…Сначала Ярулла шел медленно, понурившись. Словно сам себя пересиливал. Бормотал невнятно.
Неожиданно остановился. Вскинул голову. Огляделся.
Пробиваясь сквозь цветущие липы, солнечные лучи пахучими кажутся. Детишек много. Пенсионеров тоже порядочно. Спокойно и празднично на бульваре.
Но Ярулла встревожился еще больше. Пошел, ускоряя шаги.
Потом побежал.
И хорошо поступил комсомолец Ярулла Уразбаев, как верный товарищ. Опоздай он на какие-то считанные минуты, и до конца своих и без того горестных дней солдатская вдова Анна Прохоровна Небогатикова оплакивала бы своего непутевого, но все равно родного сына.
Когда Ярулла еще на лестнице услышал жалобное мяуканье, он, не раздумывая, одним ударом ноги сорвал с крючка до того почти никогда не запиравшуюся дверь и даже не вбежал, а ворвался в общежитие.
Небогатиков, какой-то неестественно выпрямленный, лежал на своей кровати безжизненно, свесив левую руку, из которой змеилась в подставленный таз пурпурная струйка.
И хотя парень был уже без сознания, а его лицо казалось алебастровой маской, Ярулла успел, туго перетянув руку Митьки полотенцем, удержать в обескровевшем теле едва-едва теплившуюся жизнь.
ГЛАВА ВОСЬМАЯВолга!
Наверное, не рождалось на русской земле писателя, не воспевшего или хотя бы не упомянувшего в своих произведениях это дорогое сердцу каждого россиянина название реки.
И не найти в русском языке такого славословящего эпитета, которым не наградили бы Волгу поэты – как именитые, так и оставшиеся безымянными.
А тот, кто был лишен поэтического дара, воспевал древнерусскую реку чужими словами, но собственным басом или тенорком: «Есть на Во-ол-ге утес…»
И безголосые при случае ухитрялись вытянуть: «…на простор речной волны…»
А сколько славных имен вписалось в многовековую летопись великой русской реки: Степан Разин и Кузьма Минин, Максим Горький и Федор Шаляпин, Яков Свердлов и Валерий Чкалов. Десятки, сотни имен!
И как правофланговый всех возвеличивших свое отечество сынов России —
ВЛАДИМИР ЛЕНИН
Несмотря на ранний час, многие пассажиры, еще задолго до прибытия теплохода «Русь» к пристани «Ульяновск», начали выбираться из кают на заметно посвежевший за ночь воздух. И первыми, как только выплыло из-за щетинистых увалов левобережья еще не жаркое, словно запотевшее солнце, заняли удобные для обозрения плетеные кресла на верхней носовой палубе два немолодых человека.
Вообще-то их можно было бы и к почтенной старости приписать, поскольку оба готовились разменять восьмой десяток, но Ивану Алексеевичу Громову сохраняла мужественность строевая выправка, явственно проступавшая даже сквозь партикулярный костюм мешковатого покроя, а Петра Петровича Добродеева друзья не зря прозвали «Спаренным Петей»: просто неподвластной годам могутностью наградила мать-природа этого человека. И только седина почти не поредевших волос да расчеркавшая крутолобье насечка морщин свидетельствовали о не столь уж долгом – до сотни-то лет еще жить да жить, – сколь тернистом перегоне жизненного пути, по которому твердо и никуда не сворачивая прошагал коммунист ленинского призыва Петр Добродеев.
– Вот оно, сердце России, земля, породившая двух братьев-богатырей – Александра и Владимира!
Таким прозвучавшим с искренней приподнятостью возгласом нарушил созерцательное молчание Добродеев. Еще помолчал, напряженно всматриваясь в как бы затушеванную туманной дымкой заволжскую даль, а заговорил уже иным, похоже, стеснительным тоном:
– До сплошной седины я дожил, всю страну нашу да и половину Европы исколесил по земле, по воде и по поднебесью, а вот приближаюсь вторично к этим… да что там говорить, конечно, священным для нас местам – и снова волнуюсь, как мальчишка!
– Да, да, да, – в тон Петру Петровичу отозвался Громов.
Помолчали.
– Непостижимо громаден он, этот человечнейший из людей! – снова заговорил Добродеев. – Ведь скоро полвека минет от трагической годовщины, второе поколение коммунистов заняло октябрьские рубежи, а основным партийным лозунгом до сих пор остается: вперед – к Ленину!
Теплоход обогнул поросший мелколесьем отрог берега, и впереди сквозь кисейную завесь тумана начали проступать прибрежные строения Ульяновска, расплывчатый купол собора.
– А вот я никогда себе не прощу, – на этот раз нарушил молчание Громов. – Ведь была – вы понимаете, была! – у меня возможность лично повидать Владимира Ильича, услышать его голос, когда он на съезде комсомола давал молодежи свой ленинский наказ… А я…
Иван Алексеевич не договорил, потому что мимо прошествовали, дробно постукивая каблучками и возбужденно переговариваясь, две голоногие девицы.
– Розина, милая, ну как ты не понимаешь, что мы с тобой уже вышли из того возраста, когда им веришь! И что ты будешь делать в этом Ульяновске, если Мартына и там не окажется?
– Подумаешь! – вторая девица презрительно фыркнула. – Нужен он мне, твои Мартын!
Громов и Добродеев переглянулись.
– Розина спешит к Мартыну! – проводив осуждающим взглядом девиц, заговорил Иван Алексеевич. – Нет, дорогой Петр Петрович, плохо, плохо мы воспитываем нашу молодежь!
– Кто это – мы? И какую молодежь вы имеете в виду?
Вопрос прозвучал настораживающе, но Громов не обратил на это внимания.
– Даю голову на отсечение, что отцы этих «разинь» – товарищи заметные. И преуспевающие!
– Вроде нас с вами?
– Возможно. Уверяю вас, что у дочери слесаря или колхозника не найдется ни времени, ни денег, чтобы… гнаться вниз по матушке по Волге за каким-то огарком, тоже, очевидно, импортного облика.
Добродеева даже удивило все более нараставшее раздражение Громова.
– Простите, Иван Алексеевич, но ведь, наверное, и у вас есть дети?
– Сколько угодно! Две дочери и сын.
– Ну, тогда понятно.
– Что понятно? – теперь насторожился Громов. – Да, хотите знать, моя младшая дочь в двадцать три года закончила медицинский институт и сразу же укатила в населенный пункт, который, наверное, еще и на карте не обозначен. А старшая, Нина… эта действительно, как говорится, просто мужнина жена. Но тоже… старательная: к Новому году мы с Алевтиной Григорьевной четвертого внука ждем!
Иван Алексеевич и сам не заметил, как при воспоминании о дочерях исчезло раздражение.
– Ну вот видите. А сын?
– Сын?.. Сын…
Видимо, для того чтобы обдумать ответ на затруднительный вопрос, Громов вытянул из пачки сигарету, неспешно закурил и, неожиданно для собеседника, задал ему встречный вопрос:
– Ну, а вы, Петр Петрович, как полагаете: кем может быть единственный сынок генерала Громова?
– Очевидно, пошел по стопам отца, – не задумываясь ответил Добродеев.
– Черта с два!
Громов тонкой струйкой выпустил моментально тающий на речном ветру дымок, откашлялся. А сказал с хрипотцой и явно не по существу:
– Да-а… бросать надо курить.
– Безусловно, – испытующе покосившись на Громова, поддакнул Добродеев. – Тем более что наши медики установили, что…
– Бригадир какой-то строительной бригады он, мой Михаил Иванович, – даже не дослушав, что именно установили медики, снова вернулся к разговору о сыне Громов.
– Ну да?
– Не верите?
– Нет, почему же. У меня ведь тоже парни начинали с ФЗУ. Правда, в какой-то степени вынужденно, поскольку… оба со школьных лет оказались, можно сказать, на сиротском положении. Но не дрогнули пацаны! А главное – веры не потеряли… В отца.
– Позвольте. А почему, собственно… – Иван Алексеевич взглянул сначала в лицо Добродеева, потом невольно скользнул взглядом на лацкан его пиджака, украшенный депутатским флажком. – Полагаю, что таким отцом сыновья должны гордиться.
– А я ведь не всегда был такой… представительный! – не поворачиваясь к собеседнику, отозвался Петр Петрович. – Но, как мои сыны ни на минуту не усомнились в моей честности, – в отличие от некоторых друзей! – так же и я… Даже в самые трудные и, больше того, самые обидные для меня часы, дни, месяцы и годы не поколебали моей веры в партию! А значит, и в справедливость! И поверьте, Иван Алексеевич, что это не просто красивые слова.
– Да, счастливый вы человек, Петр Петрович, – после явно затянувшейся паузы, как-то приглушенно заговорил Громов. – А вот мне и семье моей хотя и не пришлось пройти сквозь такое испытание, однако… – Иван Алексеевич зябко повел плечами, достал пачку сигарет, но, не закурив, снова опустил в карман. – Уж, кажется, как мы с женой оберегали своего сынка: не так от сквозняков, как от дурного влияния. И вот…
– Позвольте! Но ведь вы только что говорили, что ваш Михаил… Или и вы считаете, что сыну генерала самой судьбой предначертано стать военным?
– Ничего я не считаю! И считать не хочу!..
…А закончился этот начавшийся рано утром и взволновавший обоих отцов разговор уже после того, как теплоход «Русь» отчалил от пристани и, попрощавшись на развороте с родным городом семьи Ульяновых продолжительным гудком, лег на фарватер.
Выслушав несколько бессвязный от волнения рассказ Громова, Петр Петрович сказал:
– В этом случае вы, дорогой Иван Алексеевич, поступили именно как отец! Я тоже на вашем месте не потерпел бы… Нет, это нельзя назвать легкомыслием!
Добродеев умолк, как бы собираясь с мыслями. Затем доверительно положил свои руки на плечи Громова и произнес с какой-то приглушенной торжественностью:
– Да разве не такие, как мы с вами, – солдаты партии! – не только Российскую империю, а и всю нашу старушку-планету, можно сказать, омолодили! А для кого?
– Да, да, да, – в тон Добродееву отозвался Громов. – Мне что обидно: ведь когда я рассказывал моему Мишуньке – он еще пионерчиком тогда был, – через какие жестокие и славные испытания прошло наше поколение, люди, с юношеских лет утверждавшие и отстаивавшие вот на этой земле свое подлинное человеческое право, – честное слово, мне самому иногда прошлое казалось… ну, легендой, что ли. А сколько наших с вами, Петр Петрович, сверстников… да что там говорить!..
Спускается вниз по Волге-реке теплоход «Русь». А по обе стороны вспучиваются и убегают к далеким берегам пологие волны: бегут и бегут, словно пытаются догнать одна другую…
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ1
Случается, что человеку, иногда еще и подлинной зрелости не достигшему, кажется, что наконец-то он твердо встал на ноги: сам, своим умом и характером, добился уважения, дружбы, любви. Словом, красиво зажил молодой человек!
А судьба – изменчивая фея – ухватит добра молодца за шиворот, как слепого кутенка, да и ткнет его горделиво вздернутым носиком вместо молока в какую-нибудь неблаговонную жидкость.
Бывает.
Вот и тут: даже в тот день, когда у Михаила Громова произошел разрыв с отцом, парень не пережил столь угнетающего чувства потерянности, какое испытал, когда скрылись за дверями общежития носилки, на которых унесли еле живого Небогатикова.
Страшно!
И в поразившем всю молодежную бригаду скорбном происшествии сам Михаил был повинен только в том, что сначала высказал Митьке жесткие слова: «Не в лицо ты всем нам плюнул, а в самую душу!» – а затем несправедливо обвинил Небогатикова во лжи. Правда, еще подлецом назвал. Но кто бы на его месте сдержался!
«Очень я провинился перед вами, бывшие друзья мои. Самые дорогие друзья. Настолько виноват, что не осмеливаюсь даже просить прощения. И все-таки я не раскаиваюсь в том, что не скрыл, – а ведь мог бы скрыть! – эту свою последнюю и случайную кражу. Последнюю и случайную! Думаю, что теперь-то вы, Михаил Иванович, мне поверите. А значит – и подлецом больше не назовете.
Последняя просьба: напишите моей матери как-нибудь поласковее и позаботьтесь о Баптисте: боюсь, что ни за что пропадет и котик.
Прощайте…»
Как бы чувствуя последний наказ своего друга, кот сначала доверчиво потерся о ногу Михаила, сидевшего на кровати Небогатикова, затем, просительно мяукнув, вскочил на кровать.
– Баптишенька!.. Если бы я знал…
Михаил неловко погладил рукой кота, чего с ним до сих пор не случалось. И снова замер, искоса поглядывая на подушку, где еще сохранилась вмятина от Митькиной головы.
В таком состоянии горестного оцепенения и застала его Катюша.
– Миша! Родной! Какой ужас!
Михаил поднял голову, взглянул на Катюшу. Но как-то безучастно.
– Сейчас я встретила твоих. Они все пошли в клинику, давать Небогатикову кровь на переливание. Я тоже хотела, но… родной ты мой, Мишенька!
Катюша отодвинула кота, присела на кровать, погладила Михаила по плечу.
Михаил не отозвался на слова и ласку. А заговорил, не глядя на Катюшу:
– Слушай, Екатерина…
Помолчал.
– Только очень прошу тебя… Не лги!
Катюша даже вздрогнула, как от укола, услышав такое жесткое обращение.
– Как тебе не стыдно, Михаил!
– А мне стыдно! Мне никогда не было так стыдно: и за себя, и… Почему меня обманул твой отец?
Михаил повернулся к Катюше, но глаз ее не увидел: девушка опустила голову.
– Ведь это у вас в доме Митя… – Михаил хотел сказать – украл, но сказал: – взял эти проклятые деньги?
– Об этом меня не спрашивай… Мишенька, – еще ниже склонив голову, прошептала Катюша.
– Почему?
– Потому что… Какое это сейчас имеет значение?
– Все ясно.
Михаил поднялся с кровати. С бесцельной торопливостью прошелся по комнате. Остановился, обеими руками сначала поерошил, потом пригладил свою буйную шевелюру. Обратился негромко, сам к себе:
– Каким же ты оказался болваном!
Затем решительно подошел к Катюше, грубоватым движением приподнял ей голову.
– Слушай, Екатерина. Я хочу в этом деле разобраться до конца! Может быть, я наивен, даже глуп, может быть, но я в Небогатикова поверил. И ошибся не я, а он! А вот про Кузьму Петровича… Почему ты выгораживаешь своего отца, Екатерина?
– Выгораживаю?!
Девушка резко мотнула головой, откидывая затенившую глаза прядь волос, взглянула прямо в лицо Михаилу, и… ей стало страшно: столько злой требовательности было в его взгляде.
– Ну?
– Мишенька, родной, ну, хочешь, я на колени перед тобой стану? Только… не спрашивай!
– Почему?
Катюша тоже поднялась с кровати. Заговорила прерывисто, вот-вот заплачет:
– Неужели ты, Миша, забыл свои же собственные слова: что ты мне рассказывал про отца, маму, сестричек?
– Моего отца не трогай!
– Ну, хорошо. Только… разве я виновата в том, что мой папаша оказался… ну, не такой, как Иван Алексеевич Громов. Но он мне отец! Отец! И после смерти мамочки самый родной человек!
– Понятно!
Михаил отвернулся от Катюши. Снова, неуверенно ступая, отошел к окну. Долго молчал, с ненужным вниманием вглядываясь в полупустынную улицу, словно загустевшую в этот предвечерний час зелень лип. Повторил:
– Понятно.
И добавил язвительно:
– Напрасно такие, как ты, комсомольские взносы платят. Ведь наш союз называется ленинским!
Хотя Михаил не смотрел на Катюшу, но еще до того, как девушка заговорила, почувствовал ее состояние.
– А я думала, что даже у самых образцовых комсомольцев вот здесь бьется сердце!
– Что ты этим хочешь сказать?
Михаил вновь подошел к Катюше.
– Ну?.. Договаривай!
Но Катюша договорила не сразу. Девушке вдруг показалось, что перед ней стоит не только совершенно чужой, но и враждебно настроенный против нее человек. У Михаила словно оледенело лицо, плотно сомкнулись губы, а глаза… Никогда не смотрел на нее Михаил с такой… ну, конечно, злобой. А раз так…
– Ничего плохого об отце вы от меня не услышите… товарищ Громов!
Не менее отчужденным показалось и Михаилу лицо Катюши.
– А вы не отца защищаете, товарищ Добродеева!..
Нехорошо, обидно для девушки прозвучала фамилия. И еще обиднее такие слова:
– А самого обыкновенного… хапугу!
Ну что могла ответить Катюша Добродеева на такие совсем уж оскорбительные слова?
Она ничего и не ответила.
Просто дала парню пощечину и ушла, вызывающе постукивая каблучками.
2
Действительно, после безвременной смерти матери – Марфа Викентьевна умерла, когда ее дочке не исполнилось еще и двух лет, – самым родным человеком для Катюши стал отец, всегда шутливо-ласковый, заботливый, предупреждающий любое желание дочурки. Поэтому с детских лет более чем обеспеченная жизнь была для Катюши явлением само собой разумеющимся. Девочке, а затем и девушке никогда и мысли не приходило в голову, откуда берется такое благоденствие.
Правда, ее безмятежность несколько нарушили слова брата: прощаясь с Катюшей перед отъездом на Дальний Восток, Андрей заговорил с сестрой в своей обычной, видимо, унаследованной от отца шутливой манере, но с какой-то настораживающей многозначительностью:
– Ну, а ты, Катя-Катюша, купеческая дочь, никогда не задумывалась о своем будущем?.. Или так и будешь жизнь коротать: сначала на папашиных хлебах, а затем, как наша Лизутка говорит, бог пошлет тебе в мужья принца, тоже с фамильными хоромами!
Эти слова брата сначала показались Катюше даже обидными, но впоследствии, уже после знакомства с Михаилом, девушка не то чтобы серьезно задумалась, по как-то по-иному, словно бы со стороны, взглянула на свое целиком безмятежное существование. Это случилось после того, как Кузьма Петрович, по случаю Катюшиного семнадцатилетия и окончания десятилетки, подарил дочке часики на золотом браслете, а гостей созвал к именинному ужину – не пяток, а целую дюжину.
На другое утро, перемывая с Елизаветой Петровной посуду после вчерашнего пиршества, Катюша задала тетушке такой неожиданный вопрос:
– Тетя Лиза, а сколько, интересно, стоит наш дом?
Елизавета Петровна ответила простодушно:
– Кто его знает: не на продажу ведь твой отец его ставил. Но, надо думать, и в десять тыщонок не уберешь.
– А откуда?
– Что – откуда?
– Откуда у нас появились такие деньги: по-старому – сто тысяч! Ведь папаша сам как-то сказал: на мою зарплату нужны заплаты.
На этот вопрос Елизавета Петровна ответила не сразу. «И когда она успела треснуть?» – сказала, рассматривая на свет тарелку. Затем покосилась на племянницу. Но в глазах Катюши никакого подвоха не уловила. Начала издалека:
– Вот жалко, что ты, Екатерина, не помнишь свою мать – дорогую нашу Марфушеньку.
– Как же не помню. Очень красивая она, говорят, была, моя мамочка, – сказала Катюша.
– А что толку в красоте, если не было в женщине здоровья. И руки тонкие, к домашности несноровистые. Зато отец Марфуши был человек заметный: первым врачом считался, можно сказать, по всей округе. А лечил больше травами. Так что… Словом, хорошие деньги унаследовала наша семья от деда твоего – Викентия Максимовича Крашенникова. Да и папаша твой хозяин добычливый. Какой-то колхоз – не то пермский, не то из-под Кирова – ему за трофейную машину два звена строевого лесу по воде пригнал. И плотниками обеспечил…
Тогда объяснение Елизаветы Петровны показалось девушке убедительным. Правда, позднее Катюше довелось ненамеренно подслушать такой разговор отца и тетки. Катюша сидела на веранде возле открытой двери в столовую, где Кузьма Петрович встретился с возвратившейся из церкви Елизаветой Петровной и, по своему обыкновению, не преминул подзудить сестру.
– Ну, заступница, а сегодня – в будний день – по какому поводу возносила господу богу молитвы?
– Не богохульствуй, Кузьма! Вот ты небось и думать позабыл, что завтра твоему тестю память.
– Разве все упомнишь.
– А ведь он, хотя и неверующий, а праведной жизни был человек: не ради благ мирских, а истинно во славу божию врачевал болящих, царство ему небесное, блаженному Викентию!
– Аминь! Только в наше суетное время на одной славе божьей и лечебных травах не проживешь. Да и при такой практике, какая была у блаженного Викентия, другой врачеватель, кроме светлой памяти, ха-арошие деньжата оставил бы своей любимой дочери.
Однако и тогда Катюша не придала особого значения тому, что услышала. Но на этот раз…
«Почему же отец скрывает, что у нас в доме пропали деньги?»
– …Ненужный вопрос: просто не хотелось подводить под суд… Ну, того парня, которого твой Михаил взял на поруки. Ему опять бы…
Кузьма Петрович выразительно скрестил перед глазами пальцы рук.
– Но ведь он сам сознался.
– Кто?
– Небогатиков.
– Ну… значит, приперло. А почему, собственно, вас-то, Екатерина Кузьминична, так волнует судьба этого… уголовника?
– Потому что… Потому что…
Катюша неожиданно закрыла лицо руками и обессиленно опустилась в кресло.
– Катя!.. Катюшка!
Кузьма Петрович почему-то на цыпочках подошел к плачущей дочери.
– Да что с тобой?
– Ну как вы с тетей Лизой не понимаете!..
Катюша опустила руки. Кузьму Петровича даже испугал взгляд дочери: необычно остро и требовательно блестели глаза Катюши.
– Значит, ты обманул?
– Кого?
– Мишу.
– Чудачка ты, Екатерина, – совсем уже не в лад забормотал Кузьма Петрович. – Да разве я могу?.. Ведь ты у меня осталась одна-единственная. Сиротинка ты моя, без матери выросла. И у отца твоего что ни день, то суета да кляузы. Даже о собственном доме позаботиться некогда.
– Опять неправда!
– Что – неправда?
– Да, хочешь знать, в том и беда наша, что все мысли у вас с тетей Лизой только о собственном доме! А так жить… стыдно!
– Ах, вот оно что!
Как ни странно, но когда в глазах и в голосе дочери появилось открытое осуждение, это не то чтобы успокоило отца, но помогло Кузьме Петровичу преодолеть обидную для него растерянность. И голос зазвучал тверже:
– Стыд, люди говорят, не дым – глаза не выест!
– Нет, нет! – Катюша порывисто поднялась с кресла. – Это не люди придумали такую поговорку!
– А кто? Собаки нагавкали, что ли?
– И собаки: только пустобрехи лают попусту. А так говорят в свое оправдание… хапуги!
– Хапуги?!.. Ты, Екатерина, сейчас, конечно, не в себе. Да и слова говоришь не свои…
Поистине тяжкий день выдался для Кузьмы Петровича: пропажа денег, обеспокоивший его партийный актив, трудный разговор с Михаилом, Лоскутников… А теперь и дочь.
– Именинник я сегодня, – заговорил Кузьма Петрович, по виду успокаиваясь. – Шестьдесят лет стукнуло. Шестьдесят – возраст, как говорится, почтенный. Из них больше сорока годков товарищ Добродеев служил советской власти. Плохо ли, хорошо ли, но орден Красной Звезды, четыре медали и восемь почетных грамот могу предъявить любой комиссии. И еще скажу: за все сорок лет отец твой не украл у государства и копейки медной!.. Веришь отцу, Екатерина?
– Хочу верить. Только… Откуда же взялось такое богатство?
– Та-ак… Давно ждал вопроса. – Неожиданно даже для себя, Кузьма Петрович решил поговорить с дочерью откровенно. Да для кого же он, в конце концов, старался: наживал, копил, а было время – и самому себе во всем отказывал!
– А ты, Екатерина, знаешь, кто в нашем социалистическом государстве живет богато?
Так – издалека – начал Добродеев свое объяснение.
– Богачей у нас нет, – не задумываясь ответила Катюша. – А хорошо зарабатывают… ну, академики, конструкторы, писатели. Председатели колхозов теперь много получают. Еще про сталевара криворожского даже в «Огоньке» писали: больше двух тысяч он заработал за три месяца. Потапенко, кажется.
– Правильно. Еще кто, кроме академиков и Потапенко?
– А почему вы, папаша, меня об этом спрашиваете?
Добродеев помолчал, обдумывая.
– Ну, а как, по-твоему, поживают в нашем трудовом обществе… нищие?
– Нищие?! – переспросила Катюша удивленно. – Опять вы шутите, папаша. Конечно, не все люди живут хорошо, есть и нуждающиеся, но… нищих у нас нет!
– Есть, доченька, есть!.. Только эти страдальцы не медяки теперь собирают на паперти, а, как твоя мудрая тетка говорит, незримо принимают от щедрот мирских! Ну, а поскольку у нас даже пенсионеры стали одни союзного, другие республиканского значения, да и весь народ за свою старость не опасается, – как говорится, с миру по нитке… Ну, что ты скажешь, опять никудышная поговорка подвернулась!
– Боже мой! – Катюша смотрела на отца с ужасом. – Значит, мы живем на… подаяние? Какой позор!
…Вот какие драматические события предшествовали приезду в Светоград Ивана Алексеевича Громова и Петра Петровича Добродеева.
3
После ухода Катюши Михаил долго и бесцельно бродил по двум сразу как-то опустевшим комнатам общежития. Необходимо что-то предпринять. Но что?
Машинально развернул газету, прилег на кровать, прочитал заголовок статьи: «Навстречу всемирному фестивалю молодежи».
И сразу же, словно что-то вспомнив, вскочил и решительно направился к двери.
– Вы, случаем, не Громов?
Таким вопросом встретила Михаила в подъезде его дома весьма привлекательная девица в радующем глаз веселой расцветкой платьице, но с портфелем.
– Он, – коротко отозвался Михаил.
– Значит, вас-то мне и надо. Здравствуйте.
– Привет. Только сейчас мне… некогда, дорогая.
Михаил хотел было пройти, но девушка бесцеремонно ухватила его за руку.
– Я тоже на работе, дорогой! А нужны вы не мне лично, а гостям нашим.
– Каким еще гостям?
– Понятия не имею. Но, надо думать, люди приметные: сам Илья Исаич распорядился освободить для них двадцать первый номер на втором этаже. А дяденьку пузатого из треста «Нефтегаз», который в том «люксе» проживал, временно переселить в четырехкоечный.
Меньше всего сейчас хотелось Михаилу встречаться с какими-то «приметными людьми». И он еще раз попытался уклониться. Спросил недовольно:
– Тебя как зовут?
– Настасья Викторовна.
– Настя, короче говоря.
– Может, и Настя, да не для всех! – последовал ответ.
– Скажи пожалуйста! – Михаил уже внимательнее взглянул в круглое, исполненное достоинства лицо девушки. – А что, если вы, Настасья Викторовна, доложите самому Илье Исаичу и гостям вашим, что Михаила Ивановича Громова не обнаружили?








