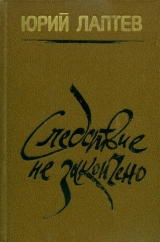
Текст книги "Следствие не закончено"
Автор книги: Юрий Лаптев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 49 страниц)
С наступлением темноты ребятишек на ледяной горе сменяла молодежь. Зажигали костер, пересмеивались, играли «страдание». Время от времени парень выхватывал из табунка девчат свою любезную и скатывался с нею в обнимку на реку. Девушка визжала, но не обижалась. Потом, сговорившись, девушки сталкивали под откос зазевавшегося парня. А иногда вниз по обледеневшему склону с визгом и гоготаньем скатывалась целая компания.
К костру приходили и старики; прикуривали от головешки, смотрели на пляшущий огонь, зябко переступая ногами. Вспоминали давние времена своей молодости, утешая друг друга заверениями, что «теперь – не то. Кволая молодь стала».
В этот вечер парни оказывали повышенное внимание Насте Чивилихиной. Даже признанный сердцеед Костюнька Овчинников дважды пытался скатиться с Настей на реку, а когда звучала гармонь, ожесточенно отбивал каблуками дробь, вызывал девушку на танец. А второй паренек, прославленный на всю округу комбайнер Ларион Гвоздев, подобрался к Насте бочком и сказал ей очень серьезно:
– Новый приемник я поставил, Настасья Ефимовна, Москву можно слушать без всякого шипу! Приходите завтра с Клавдией.
И девушки наперебой ухаживали за Настей. Тоже зазывали в гости. Просили написать поклон Сергею Ефимовичу и чтобы он снялся с танком и прислал фотографию.
Сначала всеобщее внимание смущало Настю, но потом ей стало весело. Она смеялась, пела, дважды выходила на круг с Костюнькой Овчинниковым. Вот почему одна из сестер Шураковых, озорная Любка, влюбленная в Костюньку, спела явно по адресу Насти:
По печи огонь играет,
Из трубы дымок идет.
Меня воин обожает,
Только замуж не берет…
Спела и строгим топотком прошлась по кругу.
Этот выпад ревнивицы возмутил не так саму Настю, как ее подругу.
– Ох, и завидущая эта Любка, – шепнула Насте ревниво охраняющая ее Клавдия Жерехова. – Думает, шибко содержательная. Погоди, еще в подружки к тебе набиваться будет!
И, вызывающе глянув в сторону сестер Шураковых, Клавдия залилась высочайшим фальцетом:
Не копай мне, крот, могилы,
Не хочу я умирать.
Не топчи сапожки, милый,
Я решила обождать…
Мороз крепчал. Звонко поскрипывал под ногами снег, дым костра столбом поднимался в застывший воздух. Один за другим дотянулись старики к домам, к жаркому уюту печи. Но молодежь расходиться не спешила. Развели второй костер. На суетливый, лохматящийся синим дымком огонь конфузливо выглянул из-за крыши окраинной избы бледный, затянутый морозной дымкой месяц. Сменяя друг друга, растягивали мехи гармоник Костюнька Овчинников и второй гармонист, по обличью мрачноватый, равнодушный к веселью парень. Но у Насти настроение испортилось. Она то и дело беспокойно посматривала через головы подруг вдоль улицы.
– Да плюнь, Настасья, не разменивайся, – сердито шептала Клавдия. – Не пришел – и ладно. Потом сам пожалеет.
– А почему ты решила, что я кого-то жду?.. Смешно, – отвечала подруге Настя, обиженно поводя плечами.
Но как же хотелось Насте, чтобы пришел Егор.
Утром, когда сестры Шураковы передали ей разговор Егора с Ефимом Григорьевичем, Настя не на шутку обиделась и дала себе крепкое слово при встрече не обращать на парня никакого внимания. И весь день Настя, думая об Егоре, злилась и готовилась достойно ответить на обиду. «Не на такую напали, Егор Васильевич, – думала девушка, – я вам не Антонидка!» При этом Настя хмурила брови, обращала к невидимому обидчику негодующие взгляды. И так вошла в роль, что забежавшая за ней Клавдия спросила удивленно:
– Что это ты какая?
– А что?
– Да старая вроде стала.
– Старая? – Настя испуганно метнулась к зеркалу, долго всматривалась в свое лицо и, не обнаружив никаких признаков старости, рассмеялась. – Ты, Клаша, придумаешь. – Потом опять озабоченно нахмурилась: – С вами состаришься!
И вот встреча, к которой так готовилась Настя, не состоялась: Егор на гулянку не пришел. Вначале девушка даже обрадовалась тому, что неприятный разговор (а она была уверена, что Егор будет приставать к ней с расспросами) откладывается. Хотя Настя и приготовилась дать отпор, но, зная сумасбродный характер парня, все-таки побаивалась. Затем, развеселившись, она вспомнила об Егоре уже без особого зла. А потом Насте даже захотелось, чтобы Егор пришел и увидел, каким вниманием окружают ее все парни и девушки: «А то: сама придет! Нет, Егор Васильевич, не дождетесь такого!»
Однако гулянка уже подходила к концу, а Егор Головин не появлялся. И в душе Насти начало нарастать чувство, которое она всеми силами старалась подавить, но не могла. «А что, если Егор опять к Антонидке вернулся?» – неожиданно мелькнула в голове тревожная мысль, и Настя испуганно сжалась вся, глядя широко раскрытыми глазами в ту сторону, где стояла, приветливо светясь окнами, пятистенная изба Кирилла Ложкина.
Но Егор пришел.
Он внезапно вынырнул из полутьмы в яркий свет костра. Полушубок у парня был накинут на одно плечо, ворот гимнастерки расстегнут. Егор был навеселе. Строптиво поблескивали глубоко посаженные глаза, лохматились из-под ушанки волосы.
Настя вздрогнула, крепко вцепилась обеими руками в рукав подруги и отступила вместе с Клавдией в группу девушек.
– Ты что, Егорушка, никак середь зимы лета дождался! – весело крикнула Егору Люба Шуракова. – Гляди, гляди, прямо вспотел дрожамши.
– Ну вы, канарейки! Собирайтесь в груду, ухаживать буду! – Егор с озорной усмешкой направился к группе девушек.
Костюнька Овчинников одобрительно покрутил головой и прекратил игру, рассыпав мелодию в переборе.
– А ты погрел бы, Егор Васильевич, девчат, а то у них ноги напрочь захолонули!
Егор некоторое время с улыбкой перебегал взглядом по раскрасневшимся на морозе лицам, словно не замечая Насти. Потом неожиданно ринулся в самую гущу, обхватил сразу трех девушек и под неистовый визг всей ватаги скатился по ледяному склону.
– Коршун, с-сукиному сыну! – сказал один из стариков, обнажив в одобрительной улыбке редкие, прокуренные зубы.
– Да, от такого не убережешься, – отозвался второй старик и вздохнул завистливо.
Егор и Настя задержались внизу. Искрилась в лунном свете заснеженная поверхность реки. Весело переговариваясь, взбирались по склону берега две девушки. Сверху от костров доносился смех, возбужденный говор. Вновь перебористо зазвучала гармонь.
Егор встряхнул вывалянный в снегу полушубок.
– Одень как полагается, – сердито сказала Настя, выуживая из-под платка набившийся в волосы снег.
Егор улыбнулся, но ответил невесело:
– Заботишься?.. Ништо – к пьяному простуда не пристанет.
– А зачем пьешь?
Егор ничего не ответил. Просунул правую руку в рукав полушубка, с левой получилась заминка. Настя помогла ему. Ей вдруг стало жаль Егора. Спросила, заботливо запахнув полушубок на груди парня:
– В больницу ходишь?
– Как когда. – Егор притих. Стоял перед Настей, не глядя на нее, безвольно опустив руки.
– Молодец!.. Гляди, вовсе без руки останешься.
– Ну-к что ж… Не вам ведь, Настасья Ефимовна, с безруким маяться. – Егор взглянул прямо в лицо Насти. Разрумянившаяся на морозе девушка показалась ему очень красивой. – Не вам! – повторил Егор глухо, но тут же, повинуясь безотчетному порыву, шагнул к Насте, взял ее сильными руками за плечи, притянул к себе.
– Не балуйся! Кому говорю, – сказала Настя, резко отстраняясь от Егора.
– Отец не велит, что ли?
– А хоть бы и так: подождать придется, Егор Васильевич… пока сама приду!
Это уже была одна из заготовленных фраз. Но вместо того, чтобы смутиться, Егор захохотал. Насте стало обидно до слез, она резко отвернулась и пошла вверх по склону берега.
Егор оборвал смех. Крикнул:
– А хоть бы и не пришла, плакать не будем! Я и без вас – знаменитых! – свою жизнь сочинить сумею… Так и папане своему скажи, чтобы он не горевал посередь улицы.
Настя обернулась, испуганно вскинула руки, стараясь заслониться от жестоких слов.
Егор уходил к середине реки, проваливаясь в снегу, как бы с усилием волоча за собою свою несуразно длинную тень. Над противоположным берегом поднялся равнодушный месяц, освещая чужим, остуженным светом и засыпающую деревню, и бескрайнюю даль реки, и одинокую фигуру девушки. Только месяц видел горе в глазах Насти, искаженное тоской и злобой лицо уходящего Егора.
8Утром следующего дня Ефим Григорьевич еще полнее ощутил выпавшее на его долю счастье. Правление колхоза постановило заново перекрыть его избу тесом, выделить с колхозной фермы в его личное пользование двух поросят и повесить в школе портрет его сына – Героя Советского Союза Сергея Чивилихина.
А в середине дня в Новожиловку прибыл специально для разговоров с Чивилихиным корреспондент областной газеты Гавриил Осмоловский – высокий, не старый еще, но начисто облысевший человек, с пристальным взглядом близоруких глаз.
Все это было настолько необычно и внушительно, что Ефим Григорьевич окончательно уверился в том, что он и в самом деле является фигурой значительной. Шутка сказать: у него в гостях сидел городской гость – умный, образованный человек, он аккуратно ел блины и внимательно слушал пространные рассказы Ефима Григорьевича, в которых счастливый папаша вспоминал все новые и новые подробности из своей ничем не примечательной биографии. Иногда Гавриил Осмоловский что-то отмечал в записной книжке, тогда Ефим Григорьевич умолкал и, значительно покашливая, оглядывал остальных гостей. По случаю приезда представителя печати в избе Ефима Григорьевича собралось все правление колхоза, инструктор райкома, директор новожиловской школы и начальник районной милиции.
Настя прямо с ног сбилась, обслуживая многочисленных гостей. Правда, на помощь ей без всякого приглашения заявилась ловкая и расторопная Антонида Козырева, но лучше бы она не помогала. Лучше бы она шла к гостям в горницу, только поскорее убралась бы с глаз Насти. Уж очень ненавистны были девушке привлекательная наружность Антониды, ее неспешные округлые движения и столь же плавно льющаяся ласковая речь.
– Ты, Анастасеюшка, обязательно набери у Евтихия маркизета синего в горошинку четыре метра и еще полметра прикупи крепдешину на отделку, а пуговицы у меня есть; сошьем такое платье-туалет, что и в Москве не стыдно будет показаться. Я уже Ефиму Григорьевичу говорила, он денег даст… А туфли на высоком каблуке у тебя, помнится, есть?
– Есть. – Насте к этому короткому словечку хотелось добавить: «Уйди отсюда! Ну, что тебе надо? Егор тебя, беспутную, выгнал, так ты через отца в мою жизнь пробираешься?»
Девушка, может быть, и высказала бы это Антониде, но в кухне были еще две женщины-соседки. Они то и дело заглядывали через полуоткрытую дверь в горницу и прислушивались к разговору мужчин. Но из горницы почти непрерывно доносился только голос Ефима Григорьевича.
– Эк ведь раскудахтался не ко времени, – ворчала Василиса Кострова. – Дал бы гостям словечко сказать – почтенным людям.
Впрочем, не только Ефима Григорьевича взбудоражило событие, приключившееся в его семье; ведь для всех обитателей укрывшегося в таежных просторах села звание Героя Советского Союза было связано с именами прославленных на весь мир летчиков, полярников, полководцев. Как это ни странно, но до сих пор никому даже в голову не приходило, что большинство выдающихся людей страны начинало свой победный путь так же, как начал его Серенька чивилихинский – неторопливый, медвежковатый паренек из сибирского села Новожиловки. И вдруг большинство односельчан Сергея Чивилихина убедились воочию, что старинная поговорка, зародившаяся явно в голове человека-труженика – «не боги горшки обжигают», – применима не только в гончарном деле. «Ага – и наши сибиряки в гору пошли! Знай, брат, наших, новожиловских!»
Такого рода горделивые и окрыляющие мысли возникали у многих новожиловцев. Вот почему на улице под окнами чивилихинского дома, и в крытом дворе, и около райкомовской кошевки, на которой прибыли корреспондент, инструктор райкома и начальник милиции, группами толпился народ. Стоя на завалинке и уцепившись окоченевшими руками за раму окна, два паренька старались рассмотреть сквозь заиндевевшие стекла то, что происходило в избе. Их безуспешно укорял и сам мучимый любопытством девяностолетний жилистый старик, колхозный пастух Парфен:
– Ну что прилипли, а?.. Неужто людей не совестно, а? Небось ничего не видно.
– Опять на вилку блин намотал! – свистящим шепотом отозвался один из пареньков.
– Кто? – насторожился Парфен.
– Тот – в очках который… А начальник смеется, и по плечу дяденьку Ефима полощет.
Райкомовский кучер – инвалид, лишившийся правой ноги еще в германскую войну тысяча девятьсот четырнадцатого года, – поучительно говорил окружившим его парням:
– Разве теперь служба? Одна утеха, можно сказать. Кормят сытно, одевают согласно выкладке, учат, лечат… Да если бы годков тридцать обратно богу вернуть, я бы вам показал геройство! Уж на что мы в пятнадцатом году угнетенные были – в холоду, без сапог, месяц бельишко не меняли, пища никудышная, а как в пинских болотах фронт держали?.. Туго! Шешнадцать раз пруссак шел в атаку, а рота ни с места – словно кто пришил нас, дураков, к земле, как пуговицы. А потом еще и в атаку пошли – «солдатушки, браво, ребятушки».
– А за что ваши солдатушки воевали, товарищ Недосекин? – спросил, угощая кучера папироской, Костюнька Овчинников и подмигнул приятелям.
– По дурости! – хохотнул другой парень.
– Вот именно – по дурости! – согласился инвалид и, хитро оглядев парней маленькими безбровыми глазками, добавил: – Умом-то и мы были в аккурат такие, как вы. Только нам в ту пору объясняли жизнь поп да урядник, а вам большевицкая партия вона какую школу выстроила.
– Сымают! – испуганно крикнул один из пареньков от окошка.
– Чего сымают? – отошедший было от окна Парфен рысцой затрусил обратно.
– На фотографию… Гляди-кось, и Наську за стол сажают рядом с дядей Ефимом.
– Во, брат ты мой, какая честь простому человеку! – сказал райкомовский кучер.
Сначала корреспондент снял Ефима Григорьевича среди членов правления колхоза. Для этой цели стол был предусмотрительно выдвинут на середину горницы, чтобы в кадр не попали иконы. Потом Чивилихин был снят пишущим письмо сыну и зачитывающим дочери поздравительные телеграммы. Осмоловский долго упрашивал Настю улыбнуться, но девушка осталась серьезной. К ее невеселым и ревнивым переживаниям постепенно начало примешиваться чувство неловкости: чем же она-то заслужила такое отношение?
Поэтому на просьбу корреспондента рассказать о брате, Настя ответила хмуро:
– А чего рассказывать – жили, как и все колхозники. И Сергей Ефимович так же. Мамаша вот, жалею, рано убралась – ей бы радость какая.
В этом особенно ярко проявилось различие между отцом и дочерью.
Конечно, и Настя, как и Ефим Григорьевич, все полнее чувствовала, что в жизни их семьи произошло событие значительное и радостное и что они, незаметные до сих пор люди, неожиданно стали предметом уважения, заискивания и зависти. Но если Ефим Григорьевич не только сына, а и самого себя стал почитать больше, чем надо, то к чести Насти нужно сказать, что ей ничуть не вскружила голову слава, завоеванная ее братом. Даже наоборот – Настя в эти дни особенно ясно ощутила собственную, не очень веселую долю, мелкое, подчиненное существование при отце. Ее не радовали, а смущали ласковость подруг, предупредительное отношение парней и услужливость соседок.
– В честь чего это ты насылаешься? – неласково спросила она Анну Ложкину, когда та предложила Насте вымыть после гостей пол в горнице.
– А что?.. Мне разве трудно? – простодушно ответила Анна. – Может, и ты, Настасья Ефимовна, когда-нибудь меня вспомнишь.
Настя смутилась.
– Да что я вам – барыня, что ли, или убогая?.. Манька твоя вчера утром снег от ворот откидала, Василиса квасу бочонок, видишь ли, специально для папаши заправила, ты горницу прибрать норовить?
– Не плохое ведь делаем, – резонно ответила Анна.
– Вот приедет Сергей Ефимович, – Настя, как и все новожиловцы, стала называть брата по имени-отчеству, – все расскажу ему… А то и говорить ничего не буду – уйду и все!
– Куда?
– Будто пути нет: в лесничество, слышь, народ набирают. Или на кирпичный завод наймусь, в мешалки.
– В мешалки! – изумилась Анна. – Да тебе отец все косы выдерет за такое намерение. Видишь ведь, как Ефим Григорьевич себя поставил.
– Бате я не указ, – тихо ответила Настя.
Поведение отца начало не на шутку беспокоить ее, а временами и угнетало.
Так, например, случилось, когда они пришли на свиноферму за поросятами.
Заведующий фермой Максим Жерехов, или «поросячий командир», как язвительно величали за глаза свинарки Максима Никаноровича за суровый нрав и придирчивость, был один из тех колхозников, которые личную, присущую большинству потомственных хлеборобов хозяйственную бережливость, граничащую иногда и со скупостью, сумели переключить на колхозное добро. Жерехов был высок ростом, худ и угловат, как выросшая на ветреном косогоре сосна. К порученному ему делу относился истово, будучи искренне убежденным, что свиноводство – самая доходная отрасль в колхозном хозяйстве. Сам – по своей инициативе и за свои личные деньги – съездил в Орловскую область и привез оттуда двух поросят знаменитой породы «ливенки». Сам и выходил. А в результате добился того, что был намечен к участию во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
Когда Жерехову сообщили, что правление постановило выделить Чивилихину двух поросят, он сказал:
– Ну-к что ж, у нас подсвинки-то не купленые. – Но в душе осудил такую расточительность. Жене посетовал: – Парней-то вона сколько. Ежели каждому по два сосунка отдать – закрывай все заведение! – И, расстроив себя таким рассуждением, добавил: – Таким хозяевам дай волю – весь колхоз разбазарят!
– В уме ты или нет? – накинулась на Максима жена. – Про героя говоришь такие слова… Скажи спасибо, что дочь Клавдия тебя не слышит.
– Покорно благодарим! – не желая вступать в пререкания с женой, отозвался Максим.
Однако, придя на ферму, Жерехов целый час ходил по свинарнику, от станка к станку, выбирая, каких бы поросят выделить Чивилихину.
И выбрал.
– Но-но, спасибо тебе, Максим Никанорыч! – с презрением глядя на двух сосунков, обиженно повизгивающих в ящике, сказал Ефим Григорьевич. – Хуже-то не нашлось?
– Плохих не держим, – невозмутимо ответил Жерехов. – А ты, товарищ Чивилихин, запаренными отрубями их больше потчуй. Они, брат, ничего, веселые.
– Что ж мне с ними – танцы плясать? – загорячился Ефим Григорьевич. – Нет уж, товарищ Жерехов, этих веселых ты оставь себе на раззавод, а мне вон из тех парочку выдерни.
И Ефим Григорьевич указал на соседний станок, где около благодушно похрюкивающей матки аккуратным рядком лежали поросята – один к одному, розовые и плотные, как тючки.
– Из те-ех! – Жерехов даже изумился. – У тебя, товарищ Чивилихин, глаза-то вострые. А на выставку чего повезем – кобелей, что ли?
– Хватит здесь на четыре выставки: ишь расплодил сколько!
Ефим Григорьевич оглянулся на неотступно сопровождавшего его все эти дни колхозника Андрея Бунцова – мужичка малорослого и пронырливого, затем снова повернулся к Максиму и произнес внушительно:
– Не кому-нибудь даешь, а Герою Советского Союза!
– Понимать должен, – поддакнул и Андрей Бунцов.
– Ты меня на героя не бери! – у Жерехова задергалась вбок на худой шее голова, что являлось признаком большого волнения. – Я, брат, сам в ту войну заслужил три Егория! Только мне за них и кутенка не дали.
– Вспомнила бабушка, как внучкой была! – захохотал Ефим Григорьевич. – Царскую награду приравнял к советской.
– Ты, Максим, еще похвастай, как унтером был! – в тон Чивилихину добавил Бунцов.
Максим Жерехов оглядел посуровевшим взглядом Ефима Григорьевича, затем, мельком взглянув на стоявшую в сторонке Настю, подшагнул к Бунцову, спросил негромко, но внушительно:
– А тебе чего здесь надо?
– Мне ничего. – Бунцов невольно попятился от колючего взгляда Максима. – Поскольку мы являемся кумом…
– Черту ты кум!.. Выходь отсюда! – с прорвавшейся вдруг, злостью крикнул Жерехов.
– Куда? – Бунцов попятился, испуганно скосил глаза на Ефима Григорьевича, как бы ища поддержки.
– В милицию беги, огарок! Объясни там советской власти, что Максим Жерехов дослужился до унтера за то, что полных четыре года в окопах гнил за матушку-Расею, за батюшку царя! А сейчас геройского папашу поросятами обидел…
– Но, но, потише! – прикрикнул на Максима Ефим Григорьевич. – Ты, товарищ Жерехов, на папашу не сворачивай. Гляди, как бы и взаправду советская власть на тебя не обиделась.
В свинарнике стало тихо. Только иногда слышалось умиротворенное похрюкиванье поросят.
– Батя, зачем вы говорите такие нехорошие слова, – тронув отца за рукав, негромко сказала Настя; ей было вдвойне стыдно еще и потому, что дочь Максима Жерехова была для нее ближайшей подругой, а для брата Настиного – дорогой девушкой.
– Отстань! – прикрикнул на Настю Ефим Григорьевич и строго приказал Жерехову: – Вон из тех отберите мне пару, товарищ Жерехов!
– Хошь всех забирайте, товарищ Чивилихин, – не глядя на Ефима Григорьевича, сказал Максим и, понурившись, направился к выходу из свинарника.
– Выше правления себя ставишь! – крикнул вслед ему Ефим Григорьевич.
За Жереховым хлопнула дверь.
– Хорошо… Оч-чень хорошо, – забормотал несколько обескураженный таким поведением Жерехова Чивилихин и, почувствовав выжидающие взгляды Андрея Бунцова и дочери, сказал не очень уверенно: – А ты думал, не возьму?
Никто не отозвался.
– Раз постановили – значит отдай, – уже решительнее сказал Ефим Григорьевич и направился к станку.
– Папаша, что вы делаете! – Настя метнулась к отцу, схватила его за рукав.
Вся злость Ефима Григорьевича переключилась на ни в чем не повинную дочь. Он резко оттолкнул Настю, заорал:
– Убирайся отсюда ко всем свиньям!
Не привыкшие к крику свиньи, как бы обидевшись, отозвались возмущенным хрюканьем.
Настя поспешно пошла к выходу из свинарника, с трудом сдерживая слезы и шепча чуть слышно:
– Уйду, видит бог, уйду.
И по улице шла торопливо, не поднимая головы, совестясь встречных людей.
Однако, проходя мимо избы Егора Головина и приметив курящийся из трубы дымок, Настя несколько замедлила шаги. Она была уверена, что Егор смотрит на нее в окно, поэтому прошла мимо, не скосив даже взгляда в сторону его избы.








