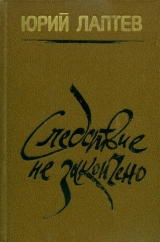
Текст книги "Следствие не закончено"
Автор книги: Юрий Лаптев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 49 страниц)
– А там черемуха! – Клавдия рассмеялась. Первая минута встречи, которой она очень боялась, прошла как-то легко и незаметно. – Чудак ты все-таки… Ваня. Доверчивый какой.
– Едва ли. Тебе я действительно верю. И Бубенцову тоже, хоть и ругает он меня. А вот папаше твоему… Матвеев-то у вас?
– У нас, – при напоминании об отце Клавдия помрачнела. Зачем это? Ведь не о том пришла она говорить. Неужели же Иван Григорьевич не догадывается?
– Обо мне беседуют?
Девушка ничего не ответила. Поспешно начала гладить кошку. Торопчин отвел взгляд от лица Клавдии.
– Молодец ты, Клаша. Нехорошо это – передавать чужие слова. Особенно, когда ругают. И за отца, может быть, правильно, что обижаешься. Я ведь тоже на себя бы принял ту немецкую пулю, которая батьке моему век укоротила.
Клавдия искоса взглянула на поникшего Торопчина. На ее характерном, но смягченном девической чистотой лице отразилось волнение.
– Знаешь что, Ваня… Верно, люблю я своего отца. И никогда ему не перечила. А все-таки… Ох, и трудно тебе с такими людьми! Разве я не понимаю, не вижу разве… Больше двух месяцев мы с тобой слова друг дружке не сказали, а… будто ты и не отходил от меня. Милый ты мой…
Вместо ответа Торопчин нерешительно и ласково привлек девушку к себе. Клавдия не противилась. Сама подалась к Ивану Григорьевичу всем своим молодым, горячим существом. Потом закрыла ему ладошкой глаза, прижалась еще теснее, жарко зашептала на ухо:
– Решилась я, Ваня. На все решилась. Захочешь – сегодня же у тебя останусь. Совсем. Хочешь?
– Нет. Этого я не хочу… Подожди! – Торопчин схватил за руку порывисто вскочившую Клавдию. – Ты меня не поняла.
– Или я дурочка!
– Значит, не так я сказал. – Оттого, что Иван Григорьевич не мог сразу сообразить, как же нужно сказать, он совсем растерялся. – Ты только подумай, Клаша. Вот мы с тобой… А люди что скажут?
Правильно говорил Иван Григорьевич, рассудительно. Но разве могут даже хорошие, верные слова убедить девушку, оскорбленную, пусть даже ненамеренно, в своем первом, большом и чистом порыве.
– Вот как… высоко ты себя ставишь, Иван Григорьевич, – сказала Клавдия с неизъяснимой обидой и горечью. – Уронить боишься со мной свое звание. А я-то, глупая…
Девушка не могла больше говорить. И слез сдержать не смогла. Ведь два месяца она ждала этой встречи. Какую борьбу выдержала сама с собой. Разве легко победить самолюбие, сломить свою гордость? А против воли отца впервые выступить? Неужели же камень, а не сердце у него в груди, у ее Вани?
Может быть, Ивану Григорьевичу и удалось бы успокоить Клавдию. Возможно, сами собой сорвались бы с языка пусть необдуманные, пусть наивные, но именно потому и убедительные слова.
Но разговору помешали.
Дверь резко распахнулась, и появился Петр Петрович Матвеев.
А Клавдия ушла, вернее убежала, смущенно укрыв шалью лицо.
– Та-ак, – многозначительно протянул Матвеев, проводив взглядом девушку. – Весело живем, товарищ Торопчин.
– На жизнь не жалуемся, товарищ Матвеев, – в тон Петру Петровичу ответил Иван Григорьевич.
– А жизнь на вас?
– Подождите, сейчас зажгу лампу. А то говорим, а друг друга не видим.
Торопчин зажег лампу. Но, несмотря на это, они с Матвеевым в этот вечер так «друг друга и не увидели».
Матвеев, в прошлом начальник почтового отделения, во время войны неожиданно для себя оказался инструктором политотдела и, будучи человеком честным и принципиальным, неплохо зарекомендовал себя на этой должности. Однако особенной чуткостью не отличался.
– Ты, Петр Петрович, будь с людьми поласковей. Это ведь тебе не почтовые посылки – наклеил бандероль, штемпель поставил и с глаз долой. Не всегда хорошо обругать даже виноватого, – сказала как-то Матвееву Васильева. Шутливо, правда, сказала, по своей обычной манере.
– Чего-чего, Наталья Захаровна, а душой кривить не умею! – ответил Матвеев. – Не в моем это характере – золотить пилюлю.
И действительно, неуступчивый был характер у Петра Петровича. А в день встречи с Торопчиным он был и настроен воинственно Уж очень неприглядной показалась ему история с Бубенцовым, «сдобренная» еще пояснениями Шаталова.
Поэтому Матвеев начал сразу с обвинений.
Он обвинил Торопчина в желании присвоить себе функции председателя колхоза.
Иван Григорьевич в ответ только недоуменно повел плечами.
Затем обвинил в том, что Торопчин, получив заявление на Бубенцова от колхозников, «своевременно не сигнализировал и не пресек».
Что именно «не пресек» Торопчин, Петр Петрович пояснять не стал. Поставленные в конце эти два словечка хорошо заостряли фразу, делали ее похожей на штык.
И наконец, что Ивану Григорьевичу показалось уже совсем обидным, Матвеев обвинил его в нечутком отношении к людям. Недаром тугоухому часто кажется, что плохо слышит не он, а собеседник.
– Вообще? – сказал Торопчин.
– Общее вытекает из частностей, – не задумываясь, отчеканил Матвеев. – Вот интересно, почему у вас некоторые члены партии, люди заслуженные, оказались не у дел?.. У реки, а без воды.
– Зачерпнуть не хотят, – ответил Торопчин. – А еще вернее – на воду не зарятся. Меду ждут, но, прямо говорю, не дождутся!
– Так, – хотя сам Матвеев и любил выражать свои мысли кратко, остро и категорически, но не переносил, когда и ему отвечали тем же. Поэтому решил припугнуть. – А за Бубенцова все-таки ответите вы!
Опять фраза у Петра Петровича получалась отточенной, как стрела. Но и стрела может пролететь мимо.
– Ну что же! А вы за меня, – сказал Торопчин.
– Что это значит?
– Плохо, значит, воспитываете нас, низовых партийных работников. А главное – не пресекаете! – Иван Григорьевич не мог удержаться, чтобы не вернуть Матвееву камешек.
Петр Петрович, конечно, насмешку уловил, но виду не подал. Выдержанный был.
– Понятно. Все понятно. За райком спрятаться хотите?
Выбитому из равновесия всеми событиями прошедшего дня, Ивану Григорьевичу разговаривать с Матвеевым становилось все труднее и труднее. Очень уж далек был сейчас от него этот сидящий рядом складный, плотный и подтянутый, уверенный в себе и в своей непогрешимости человек. Сидит этот человек, смотрит, смотрит пристально, не отрывая твердого, обличающего взгляда от лица Ивана Григорьевича, и ничего не видит. Кому же нужен такой разговор?
«Ну постой! Я тебя отучу бить лежачего!» – мелькнула неожиданно в голове Торопчина озорная мысль. И он перешел в наступление.
– И не думаю. Это вы, товарищ Матвеев, прячетесь от колхозников.
– Что такое? – лицо Матвеева сразу утеряло выражение собственного превосходства. – Что такое?
– Год скоро вы в райкоме работаете. Год!.. А вот я ручаюсь, что половина колхозников вас и в глаза не видела.
– Вранье!
– Ложь легко опровергнуть. Давайте сейчас пройдем по селу. Кстати, поговорите с людьми. А то ведь с тех пор, как заболела Наталья Захаровна, никто из райкома к нам и не заглядывал. В такое горячее время!
– А Панкрышев?
– Панкрышев! – Теперь уже не Матвеев, а Торопчин чувствовал себя хозяином разговора. – Я бы этого инструктора давно из райкома перевел в райпотребсоюз. Коноплю заготовлять или яйца. И зря он о международном положении рассуждать берется. Перед кем?.. Да ведь у нас десятилетка еще когда открыта. Комсомольцы вскладчину философский словарь выписали.
– Так. Придется к вам сюда направлять исключительно профессоров.
Но ирония, которая, как не раз замечал Петр Петрович, частенько обезоруживает противника в споре, на этот раз не подействовала. Торопчин не смутился.
– Правильно. Кстати, в районе за последнее время перебывало много хороших лекторов… Вон они, повестки. Только я ни разу не выезжал. Принципиально.
– Я бы таким принципом не хвастался.
– Вот почему вы ни одного лектора к нам в колхоз не направили?.. Того же профессора Иволгина. А кино?.. За всю посевную одна картина. Да и та сомнительной свежести.
– В районе не один ваш колхоз.
– Знаю. А главное, «Заря» – самый глубинный. Конечно, весна, распутица. Разве доберешься?
– Ну, все. – Матвеев встал, застегнул офицерскую тужурку. Поправил зачем-то орденские планки. – Понятно теперь, откуда возникают настроения. Дошли и до нас некоторые разговорчики. Придется кое-кому мозги вправить.
Эта грубая и затасканная фраза резанула слух Ивана Григорьевича.
– Только не забудьте сначала с доски почета вычеркнуть фамилию, – сказал он уже с явным вызовом.
– Вы достижениями Бубенцова не хвастайтесь! – отчеканил Матвеев и наконец-то с удовлетворением отметил, что острие попало в цель. – На бюро мы вас не об этом спросим.
– На бюро? – очень тихо переспросил Торопчин.
– Да, на бюро!
– Может быть, и взыскание запишете?
– Там посмотрим, – теперь-то уж Петр Петрович ясно ощутил, что в этом трудном для него словесном поединке победителем оказался он, второй секретарь райкома. Недаром же на лице его собеседника, как показалось Матвееву, появился страх. «Вот ты чего боишься. Значит, хорош гусь!» – мелькнула торжествующая мысль.
Но торжество оказалось преждевременным.
– Не выйдет! – крикнул Торопчин.
Очень хотелось Петру Петровичу, чтобы последнее слово осталось за ним. Оно уже готово было сорваться с языка, это последнее слово. И все-таки, взглянув попристальнее на усталое и бледное, исказившееся и гневом, и обидой, и болью лицо Ивана Григорьевича, он посчитал за лучшее промолчать.
Повернулся и вышел.
– Не выйдет, – глухо повторил Торопчин вслед ушедшему Матвееву. – Я перед партией чист.
Но слов этих уже никто не слышал.
Иван Григорьевич медленно отвернулся от двери и взглянул на висящий в красном углу портрет вождя.
Долго стоял так: прямой, широкоплечий, неподвижный, упершись рукой в доску стола, не отрывая потеплевшего взгляда от бесконечно знакомого, дорогого лица.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ1
Разговор с Матвеевым оказался очень тяжелым, но не последним в этот день испытанием для Торопчина. Еще один, тоже неожиданный для Ивана Григорьевича гость появился в его доме. Пришла жена Бубенцова.
– Марья Алексеевна?.. Ты что? – спросил Иван Григорьевич удивленно и обеспокоенно глядя в опустевшие глаза женщины.
Маша хотела ответить, но, по-видимому, не смогла. Поспешно шагнула к стоящему неподалеку от двери сундуку, присела и сразу расплакалась, да как-то странно, не прикрывая лица рукой.
Ну что тут делать?.. Сидит женщина, безвольно уронив на колени руки, вздрагивает, как от уколов, а слезы прямо струйками сбегают по осунувшимся от беременности щекам. Сидит и молчит. Только тоненько и жалобно всхлипывает.
Торопчин совсем было растерялся, хоть самому плачь. Спасибо, выручила вернувшаяся от соседей мать.
Опытная в житейских делах, Анна Прохоровна поняла все с первого взгляда и сразу же нашла нужные слова и тон.
– Ну-ка перестань, Марья Алексеевна, не по делу расстраиваться, – сказала она Бубенцовой ласково и в то же время повелительно. – Разве годится это при таком твоем положении? Небось последние дни донашиваешь!
Анна Прохоровна достала из комода чистое полотенце, намочила край в холодной воде и отерла Маше лицо. Затем подсела к ней и по-матерински ласково обняла за плечи. Сказала, недовольно покосившись на сына:
– На то они и мужики!.. Чего он, твой-то?
Маша передохнула прерывисто, в несколько приемов, как успокаивающийся ребенок, поправила выбившиеся из-под платка волосы, заговорила с обидой и горечью:
– Вина, говорит, давай… А где взять? Магазин закрыт, так я к заведующему на квартиру побегла. А Кочеткову, видишь ли, Матвеев строго-настрого приказал – четвертинки Федору Васильевичу не отпускать. По людям идти просить – совестно. Если к Шаталову только…
– Еще чего! – возмутилась Анна Прохоровна. – Срамиться! Подай ему квасу – и все…
– Да разве Федора удержишь! – Маша даже удивилась такому предложению. – Знаешь ведь, какой он. Здесь вина не найдет – в район умчит, а там у него дружки-приятели. Боюсь и домой идти. Ой!..
Маша испуганно привстала, прислушалась. Потом опять медленно опустилась на сундук.
– Почудилось, что мотоцикл застучал… Вот ведь горе-то какое. Только было мужик наладился…
Маша, а за ней и Анна Прохоровна взглянули на Ивана Григорьевича, сидевшего за столом с опущенной головой. Как бы почувствовав безмолвный вопрос женщин, Торопчин встал, туго затянул ремень на гимнастерке, надел фуражку. Сказал Бубенцовой:
– Ты, Марья Алексеевна, посиди пока здесь… Мама, чайком бы гостью попотчевала, что ли…
2
Федор Васильевич крутился по своей избе, как попавший в западню зверь. Он то, заставив ладонями от света лампы глаза, смотрел в окно, то выходил в сени и, приоткрыв дверь, оглядывал улицу, выбеленную неживым молочным светом полной луны. Ругался вполголоса:
– Только за смертью тебя посылать, непутевую!
Смутно пока, но почувствовал Бубенцов, что не на его стороне правда. Что не ему сочувствует и не за ним пойдет большинство колхозников, если окончательно разойдутся у Бубенцова с Торопчиным дороги.
А разве легко было ему, упрямому и самолюбивому, смириться?.. Но еще труднее отделаться от сомнения.
Вино, помогло, даже ненадолго вернуло уверенность. И люди, с которыми Федор Васильевич пил и говорил с пьяной искренностью, по-пьяному же его ободряли и ему сочувствовали.
Торопчина же ругали. Советовали не давать ходу. Кто, как не председатель, всему колхозу голова?
Но хмель прошел. А сомнение осталось…
– Как сквозь землю провалилась, чертова баба!
Больше Бубенцов ждать не мог. Нет сил оставаться наедине со своими неразрешенными мыслями. А тут еще похмелье. Да и стыдно было Федору Васильевичу. Ведь пройдет ночь, и он снова встретится с людьми, встретится с Торопчиным. Тот взглянет на него своими темными, всегда внимательными глазами… Спросит…
– А ну вас всех к черту! – Федор Васильевич порывисто сорвал с гвоздя фуражку.
Но выйти не успел, потому что в дверь постучали.
– Заходи. Кто там?
Вошел Торопчин.
Как это ни странно, приход Торопчина Бубенцова не так уж поразил. Он, пожалуй, даже ожидал этой встречи. Но поведение Ивана Григорьевича в первый момент удивило.
– Здравствуй, Федор Васильевич, – сказал Торопчин так, как будто между ними ничего сегодня и не произошло. – Ты что, собрался куда?
– Нет, – ответил Бубенцов и сразу, как большую тяжесть, ощутил на голове только что надетую фуражку. Поспешно стянул ее, пользуясь тем, что Иван Григорьевич отвернулся, швырнул на кровать и тут же озлился сам на себя за такой мальчишеский поступок. Спросил недружелюбно: – Зашел все-таки?
– Да. Прости, Федор, что непрошеным заявился. Все у нас с тобой как-то времени не находится поговорить по душам.
И совсем уж Федор Васильевич удивился, когда увидел, что Торопчин достал из кармана бутылку водки, поставил ее на стол и сам присел.
Удивился и, пожалуй, обрадовался. Не так водке, как тому, что за бутылкой-то разговаривать куда легче.
Сразу засуетился. Полез в шкаф, достал стаканы, хлеб, соль, две луковицы.
– Вот Марья куда-то запропастилась…
– Ничего, Федор, не хлопочи. Посидим и так.
– И то, – Бубенцов подсел к столу. Взял бутылку, откупорил. Налил один стакан, позвякивая стеклом. Рука дрожала. Хотел налить второй.
– Мне не наливай, – Торопчин мягко, но властно отвел руку Бубенцова с бутылкой.
Каким же несчастным сразу почувствовал себя Федор Васильевич! Несчастным и мелким. Растерялся настолько, что заговорил совершенно – несвойственным ему просительным тоном:
– Давай выпьем, Иван Григорьевич. Мировую, как говорится.
– А разве я с тобой ссорился?
– Ну… все-таки…
– Нет, – Торопчин впервые за эту встречу заглянул Бубенцову в глаза. И многое увидел. Увидел то, что его отказ причиняет Федору Васильевичу настоящее страдание. Увидел, а вернее, понял и то, что каждое произнесенное им сейчас слово проникнет в самый сокровенный уголок сознания этого все-таки близкого ему человека. И только сильные, пусть даже жестокие слова могут, наконец, разрушить ту ненужную самому Бубенцову преграду, которую он сам воздвиг, а некоторые люди укрепили подпорками. – Я не могу пить с тобой, Федор Васильевич. Не могу! Только не потому, что я какой-то…. ну, праведник, что ли. Ты ведь меня знаешь. А просто – человек, нарушивший данное самому себе… не людям, а именно самому себе, слово – слово коммуниста! – для меня никчемный человек.
Бубенцов, тяжело опершись на стол, приподнялся. Его лицо стало белым, как гипсовый слепок, и настолько страшным, что в первый момент Торопчину показалось, что он поступил неверно. Уж слишком жестокие произнес слова.
Долго длилась ничем не нарушаемая тишина. Как будто все село – и люди, и животные, и природа притихли, напряженно следя за большой человеческой драмой, которая разыгрывалась между двумя людьми в крестьянской избе.
– Значит, ты считаешь меня…
Федор Васильевич не смог договорить этой убийственной для него фразы. А ответа Торопчина ждал, как приговора. И сколько мыслей, и каких мыслей, промелькнуло в его голове за те несколько секунд, пока он дожидался ответа.
– Успокойся, Федор Васильевич. Поскользнуться – еще не значит упасть. А я не могу допустить, чтобы ты упал. Ведь мы с тобой и воевали за одно и сейчас идем рядом.
Уверенный голос и дружелюбный взгляд Торопчина несколько успокоили Бубенцова. Он медленно опустился на стул, вздрагивающей рукой отодвинул от себя стакан с водкой.
– Вот ты обиделся на меня сегодня. Но пойми, Федор, если бы я поступил иначе, на меня, да и на тебя обиделись бы сотни колхозников. Верно?
Ответа не последовало. Ивану Григорьевичу даже показалось, что Бубенцов, погрузившийся в мрачное раздумье, плохо слышит его слова. Торопчин придвинулся, заговорил настойчивее.
– Слушай, Федор! Несмотря ни на что, я считаю тебя своим другом. Но ведь и другу мы с тобой не можем, не имеем права прощать неверного поведения. Так или нет?
Федор Васильевич уже почти овладел собой. Торопчин правильно понял, что только сильная встряска может по-настоящему отрезвить Бубенцова. Но Иван Григорьевич не учел другого. Не мог такой самолюбивый и строптивый человек, как Бубенцов, сразу же после оскорбительного для него разговора услышать обращенные к нему, дружественные слова. «Никчемный человек» – да ведь это были те самые мысли, которых Федор Васильевич больше всего боялся. Вот почему, когда Бубенцов заговорил, в его голосе зазвучали вызывающие нотки.
– Я скажу вам так, товарищ Торопчин…
Иван Григорьевич даже вздрогнул, услышав такое холодное обращение.
– Неверно начинаешь, Федор Васильевич!
– Обожди конца. – Бубенцов впервые, исподлобья правда, взглянул в глаза Торопчину. – Про дружбу ты сказал, конечно, правильно. По-партийному. Только учти, что в друзья тебе я никогда не набивался.
– Не то говоришь, Федор! – вырвалось у Ивана Григорьевича тоскливое восклицание. Он уже понял, что опять разговор кончится ничем. – Зачем ты так…
– Говорю, как умею. У меня ведь слова-то не вычитанные. – Может быть, в глубине души Бубенцов и сам начинал понимать, что говорит неверно, но уже сдержать себя не мог. – А если ты считаешь, что я приношу колхозу вред…
– Все! – Торопчин порывисто встал и взялся за фуражку.
– Обожди!
Бубенцов тоже поднялся. Взял со стола налитый стакан и пытался слить вино обратно в бутылку. Но чужими, непослушными стали руки, и половина пролилась на стол.
– Забери, пожалуйста, Иван Григорьевич, – голос Бубенцова зазвучал мягче. – И раньше не я водку пил, а она меня. А что сегодня… поскользнулся. Мне ведь труднее, чем вам. На скрипучей-то ноге.
Торопчин долго смотрел в жесткое, скуластое, но смягченное волнением лицо Бубенцова. И еще раз попытался найти путь к сердцу этого человека.
– Слушай, Федор Васильевич. Я понимаю твое состояние. Пойми же и ты меня. Нечего нам с тобой делить и незачем друг от друга отгораживаться. Честное слово… Сейчас ты спрячь эту бутылку подальше. А когда-нибудь мы с тобой все-таки ее разопьем. Придет такое время, поверь мне!.. Ну, будь здоров, Федя, и не сердись по-пустому.
Но Бубенцов не принял протянутой руки, хотя последние слова Торопчина достигли своей цели. Обида почти прошла, но…
Вот когда пришла она, эта страшная мысль. Только сейчас неожиданно всплыло в памяти то, что плохо осознавал даже тогда, когда делал, а потом и совсем затуманил пьяной одурью.
И стоит Федор Васильевич перед Торопчиным, смотрит на него, а глаза пустые, видят только прошедшее, страшное своей невозвратимостью.
– Ты что, Федор? – опустив руку, встревоженно спросил Иван Григорьевич.
Бубенцов свел плечи, втянул голову, как человек, ожидающий удара.
Произнес очень тихо:
– Да… Худо получилось, Иван Григорьевич… Очень худо. Я ведь на тебя заявление написал. В райком партии. Прямо вопрос поставил – или Торопчин, или я… А вместе нам с тобой в колхозе не работать.
3
Верно сказала Марья Николаевна Коренкова, когда услышала про ссору Торопчина с Бубенцовым у конюшни: «Тут дело не в сеялках. Может быть, только канавка пролегла между руководителями нашими, а некоторые люди овраг из нее хотят вырыть. Своего-то голоса нет, так Бубенцову подпевают».
Действительно, немало уже было в колхозе людей, целиком оправдывавших все поступки Бубенцова. Даже некоторые из тех, кто на себе испытал тяжелый и властный характер нового председателя, больше того, даже тот, кто жалобу на него писал, – быстренько перестроились.
Ошиблись, дескать, не оценили Федора Васильевича. И то сказать – пуд соли надо с человеком съесть, пока до сути доберешься.
Зажиточность – сытая, спокойная жизнь. Ну чего еще человеку надо? Почему это мы должны беспокоиться за весь район? Ведь у каждого своя голова на плечах и две руки на придачу.
Все село облетела фраза Бубенцова, сказанная им после того, как были подведены итоги сева:
– Если осенью по четыре килограмма на трудодень своим колхозникам не отвешу, сам с себя сниму все ордена. И премии за урожайность у меня все получат, кто заслужил. До последнего килограмма с людьми рассчитаюсь, не как в прошлые годы.
Разве не порадовало колхозников такое обещание? Тем более, что все уже знали: у кого слово – олово, а у Бубенцова – чугун.
– То – руководитель!
– С таким не пропадем!
А тут еще и свет к осени обещает дать.
И даст! Не такой человек чтобы понапрасну стал бахвалиться. Светлая жизнь будет!
Конечно, кто поумнее был и не по макушкам глазами шарил, тот и понимал поглубже и высказывался правильнее.
Разве плохо, например, сказала Дуся Самсонова в ответ на обещание председателя:
– Хлеб по четыре килограмма осенью мне не Бубенцов даст, а завхоз Кочетков да кладовщик отвесят. Они ведь колхозный хлеб и государству повезут и по нашим чувалам будут рассыпать. А мое дело пустяковое – дать с каждого гектара по восемнадцать центнеров, как звено наше обещало дорогому правительству. Ну, а если не выполню свое обязательство, ордена с себя снять я не могу, потому что у меня только одна медаль, но стыдно мне, очень стыдно будет хорошим людям в глаза смотреть.
А Брежнев, бригадир знаменитый, как высказался?.. Можно сказать, целую притчу привел. Любил Андриан Кузьмич выражаться цветисто и в разговоре заходить издалека. Иногда такого словесного тумана напустит, что услышит человек слова бригадира среди дня, а до сути сказанного доберется только к вечеру.
– Вот есть не так далеко от колхоза нашего город. Сейчас Мичуринск, а раньше назывался некрасиво – Козлов. В городе существует кладбище. А на кладбище – памятник. Думается, больше полтыщи пудов хорошего камня на него пошло. Памятнику этому нынче семьдесят четыре года стукнуло. Так вот я и посоветовал бы председателю колхоза нашего побывать в городе Мичуринске, зайти на кладбище и на том памятнике надпись прочитать. А написано там золотыми буквами такое: «Здесь покоится тело раба божия – потомственного почетного гражданина и великого друга страждущего человечества козловского купца Василия Спиридоновича Токмакова. Жития же его было восемьдесят шесть лет».
– Ага, правильно, – поддакнул Брежневу всегда с почтением прислушивающийся к его словам другой бригадир, Александр Камынин.
– Что правильно, милый? – ласково спросил у Камынина Андриан Кузьмич.
– Ну, значит, написано, так сказать, не пустяки. И житие указано и вообще, – Камынин, конечно, не понял, какое отношение имеет купеческий памятник к Бубенцову, а поддакнул просто так, для приятности.
– Эх ты, пескарь! – укорил своего собеседника Андриан Кузьмич. – Уж очень вы, такие, легко с красивыми словами соглашаетесь. Нет чтобы подумать, а какое тут рассуждение прячется? Это купцу Токмакову простительно пытаться на чужих пятаках в рай въехать. А Бубенцову… что это значит: «я дам», «у меня премию получат», «я гидростанцию пущу»? А мы-то с тобой в колхозе – кто? Такие же, как на конюшне стоят, что ли? А партийная организация наша разве мало трудов положила? А государство нам не помогло?
К сожалению, слов Брежнева, Самсоновой да и других передовых колхозников Бубенцов не слышал. А если и слышал, – может быть, и передали люди, – вряд ли надолго задумался Федор Васильевич над такими словами.
Упрямец как кот – неверная животина: кто его погладил по шерстке, тот ему и друг, тому он и мурлычет.
4
Иван Данилович Шаталов посетил Бубенцова очень рано утром на другой день после прихода Торопчина.
Вошел в избу, огляделся, сказал зычно и приветливо:
– Хозяюшке почет!
– Здравствуйте, Иван Данилович, – Марья Алексеевна только недавно встала и сейчас, сидя на табурете у раскрытого окна, расчесывала гребешком свои легкие белокурые волосы. Обычно женщины причесываются стоя, но Машунька «догуливала» уже восьмой месяц. Приходу Шаталова она удивилась, подумала: «Смотри, зачастили. Вчера – один, сегодня – другой. Не к добру, видно».
– Ну, как чувствует себя председатель?
– А кто его знает. Спит еще Федор Васильевич.
– Это хорошо. – Иван Данилович покосился на занавеску, за которой укрывалась кровать. – Пусть очахнет.
– В сарае он спит. На соломе, – перехватив взгляд Шаталова, сказала Маша. – Вчера как проводил…
Женщина запнулась: а нужно ли про это говорить?
– Да, поздненько ушел от вас Иван Григорьевич.
– Смотри, оказывается, Шаталов уже знает. Но, по-видимому, не придает посещению Торопчина никакого значения: равнодушно так говорит о нем.
Иван Данилович снял картуз, повесил его на вешалку рядом с фуражкой танкиста, степенно прошелся по горнице и остановился неподалеку от Маши.
– Не помешаю я тебе убираться, Марья Алексеевна?
– Что вы, Иван Данилович! Проходите, пожалуйста, садитесь. Сейчас я и Федора покличу.
– Не надо, – Шаталов взял мягким, заботливым движением женщину за плечи и вновь усадил на табуретку. – Я почему зашел… Беспокоимся мы все за Федора Васильевича. И даже секретарь райкома Петр Петрович Матвеев, занятый человек, а какую заботу о людях проявляет! Он ведь вчера у меня больше двух часов просидел, все расспрашивал. Записал даже кой-чего для памяти.
Шаталов искоса, но внимательно поглядел на Машу, желая узнать, какое впечатление произведут на женщину его слова. Машунька обеспокоилась. Откинула за плечо волосы и не отрываясь смотрела на Ивана Даниловича. Волнение матери передалось и тому, кто еще не появился на «свет божий». Это Маша почувствовала по толчкам, почему и скрестила на животе руки: «Уймись ты, глупый!»
– Ну, я, конечно, рассказал все по-хорошему. Объяснил секретарю райкома, кто Федора Васильевича довел до такого состояния. Вот и опять – зачем, спрашивается, на ночь глядя Торопчину было приходить, беспокоить человека?
– И не говори, Иван Данилович. Уж так Федор расстроился, прямо обомлел весь. И ходит, и ходит по избе. Ляжет на кровать – нет, будто колючки его изнутри беспокоят. Опять вскочит. – У Маши от волнения за мужа даже слезы выступили. Она стерла их прядью волос и заговорила совсем уже упавшим голосом: – «Не коммунист, говорит, я и не человек. Так, говорит, меня Торопчин определил…» Потом подойдет к шкафу, – Маша свела голос до шепота, – бутылку водки ведь Федору принес Торопчин!
– Да ну?! – удивился и возмутился Шаталов.
– Вот те крест!.. Подойдет, значит, к шкафу, достанет эту бутылку, поболтает, поболтает так… А потом обратно поставит.
– Молодец Федор Васильевич! – хлюпающим от растроганности басом похвалил стойкость председателя Шаталов. – Не поддался, значит, змию-искусителю!
– Глотка не выпил! И какая сила его удержала?..
Машунька, теперь уже не отирая слез, взглянула на дверь, за которой во дворе отсыпался ее стойкий муж.
– Партийная сила!.. Вот какая.
Шаталов придвинулся ближе к женщине и сказал, поприжимая свой бас:
– Недаром райком партии за нашего Федора Васильевича горой!.. И колхозники все теперь за него станут. Смотри, это я только одной тебе говорю. Вижу, что беспокоишься. А при теперешнем твоем положении расстраиваться не разрешает медицина.
– Спасибо тебе, Иван Данилович. Вот уж верно говорится, что свет не без добрых людей…
Конечно, обращаясь только к Маше, Шаталов твердо знал, что если и не побежит Маша делиться своей радостью по соседкам, то уж от мужа неужели утаит?.. «Муж да жена – одна сатана», дикая поговорка, но не без смысла.
Так и получилось. Да разве могла Маша утерпеть, не пересказать своему Феде такой приятный для него разговор до последнего словечка?.. Глупости какие!
И только ушел Шаталов, Машунька, как была, простоволосая, устремилась в сарай, ласково, но настойчиво растолкала Федора Васильевича и начала рассказывать.
Правда, спросонок да с похмелья Бубенцов не сразу все понял и даже усомнился было.
– Тоже и усатому верить надо не спеша.
– А что за интерес Данилычу такое придумывать? Или он тебя так любит, что успокоить хочет?
Довод оказался веским. Действительно, особого расположения Иван Данилович никогда к Бубенцову не проявлял. Значит, если бы и исказил, так в другую сторону.
– Значит, говоришь, за меня Матвеев? – бодрым голосом переспросил Федор жену, выуживая из-под воротника гимнастерки забившиеся туда колючие соломинки, – он спал, прямо зарывшись в ворох.
– И райком за тебя, и колхозники все говорят, что Бубенцов нам хозяйство опять на ноги поставил.
Можно ли упрекать женщину, если она и от себя немного добавит, желая утешить мужа! А Маша тем более не такие слова слышала. Ну не от Шаталова, так от Аграфены Присыпкиной, а разве это не все равно? Недалеко, пожалуй, ушел Иван Данилович от сельской сплетницы. Попутчиками оказались.
Очень обрадовала и Машу и Федора Васильевича дружеская поддержка Шаталова, а иначе как истолкуешь его приход? Настолько, что потускнели события вчерашнего дня. Оба даже старались не вспоминать – она про то, как обратилась за помощью к Торопчину, а он про разговор с Иваном Григорьевичем. Выходит, что не Торопчину, а ему, Бубенцову, сочувствуют люди. А что заявление в райком написал, – опять-таки сам Торопчин довел до этого.
– Хорошо!.. Это очень хорошо, Машунька! – сказал Федор Васильевич, ощутив в себе новый прилив энергии и бодрости. – Понимать, стало быть, начинают люди, для кого я огород горожу!








