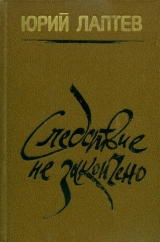
Текст книги "Следствие не закончено"
Автор книги: Юрий Лаптев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 49 страниц)
Неужели же то был действительно последний раз?
Даже родные ему люди не догадывались, с каким возрастающим нетерпением ожидал Скворцов той минуты, когда на «Петровой латифундии» снова появится такая знакомая сухонькая фигурка человека, без которого, оказывается, Петру Андреевичу и жизнь не в жизнь!
Часами просиживал он у окна насосной, напряженно глядя на слитный табунок молодых елок, из-за которых сбегала вниз тропинка. Даже одно из стекол в закопченной раме протер Петр Андреевич, чтобы лучше было видно.
Но друг не появлялся.
И не придет, пожалуй: уж очень строгий человек Петр Ананьевич Костричкин. Одно слово – учитель!
…Тишина на речке.
И утро занимается по-осеннему прозрачное, раздольное. Легко дышится человеку в такое утро.
Если, конечно, совесть у человека чиста…
ДАНИЛА ДАНИЛОВИЧ
«Старикам везде у нас почет…» – замечательные, истинно песенные слова!
Но жизнь – не песня, и не всегда это поэтическое утверждение совпадает с житейской прозой. Впрочем, и сами старожители, по-видимому, во многом виноваты: не стоило тащить в светлую действительность сегодняшнего дня то, что до сих пор именуется иногда пережитками, а иногда – наследием проклятого прошлого.
Смотря по обстоятельствам.
Да, честно говоря, и в распределении почета не может быть уравниловки: его надо заслужить, это высокое признание.
А вот при встрече с Данилой Даниловичем Недремовым – представительным мужчиной среднего пенсионного возраста – даже сомнений никаких не возникает.
Достоин!
И кто бы из жителей Заовражья ни встретил Данилу Даниловича, неторопливо вышагивающего по улице Дружбы народов к «раешнику», как местные острословы окрестили в Заовражье трехэтажный дом, где сгруппировались почти все районные учреждения, – каждый отвешивал Недремову уважительный поклон. А женщины одаривали улыбкой или словцом приветливым.
И хотя телосложением Данила Данилович задался не в отца – сухопарого и голенастого ветеринара – умеренного росточка был товарищ Недремов, – значительность его внешнему облику придавало то сознание собственного достоинства, которое чаще всего присуще людям, прожившим большую половину жизни не «абы как», а с пользой для общества.
Так оно и было: почти сорок лет Данила Данилович осуществлял прокурорский надзор в районном масштабе. И четыре раза за это время избирался депутатом Заовражского районного Совета.
Легко сказать – сорок лет!
Да и после того, как Недремова с почетом проводили на «персоналку» – даже из области пришло телеграфное приветствие в тридцать четыре слова! – уже на третий день Данила Данилович вырядился, как в президиум, деловито прошествовал в райисполком и заявил:
– Не знаю, как другие-прочие, а товарищ Недремов не привык сидеть без дела на государственных хлебах! Так что… будьте любезны – заданьице.
– Да-а… это, братцы, школа! – растроганно изрек председатель райисполкома.
И тут же было решено, что Данила Данилович возглавит «совет аксакалов», как кто-то шутливо окрестил комиссию содействия «при»…
А разве мало было в том же Заовражье таких пенсионеров, про которых злоязычная тетка, занимавшая в «раешнике» сразу две должности – курьера и уборщицы, – сказала шоферу Васе: «Ты, милочек, не гляди, что ему шестьдесят, на ём еще три молодки висят!»
А вот про товарища Недремова даже язык недруга не выговорил бы такое: несмотря на то что Данила Данилович овдовел в неполных пятьдесят четыре года, будучи еще мужчиной «хоть куда», когда одна из местных обольстительниц – тридцатидвухлетняя бухгалтерша райпотребсоюза Елизавета Хорошевич – начала проявлять явно повышенный интерес к его личности, Данила Данилович ответил Елизавете, как и подобает юристу, вполне обоснованно:
– Должен поставить вас в известность, товарищ Хорошевич, что мне не только по возрастному цензу, но и по роду моей деятельности противопоказан… ну, легкомысленный подход, что ли, к тому, что в нашем социалистическом обществе именуется актом гражданского состояния!
– Комик вы! При чем тут гражданское состояние?
– Тем более. И вообще, людям моего возраста более приличествует общение с женщинами порядка сорока, сорока двух лет…
А так как у таких деятелей, как товарищ Недремов, слова не расходятся с поступками, примерно через год после смерти жены он вторично сочетался законным браком с женщиной «порядка сорока четырех лет» – вдовицей Татьяной Петровной Полупудовой, проживающей в собственном домике по улице Дружбы народов.
А происшествие, несколько омрачившее нашему герою его наполненное общественно полезной деятельностью существование, произошло в один из погожих дней августа.
Начался разговор утречком на застекленной веранде, прочерканной сквозь плющ солнечными лучиками. Здесь в летнюю пору за обстоятельным завтраком супруги Недремовы каждодневно после краткого международного обзора переходили на темы союзного, а затем и местного значения.
Так и на этот раз.
– Интересно – куда нынче они меня направят?
С таким вопросом обратился к жене Данила Данилович после того, как им была вслух зачитана передовая областной газеты «Коммунисты – в авангарде уборочной!».
– Известно куда: в самое отстающее пекло! – не задумываясь отозвалась Татьяна Петровна. И добавила с сердцем: – Уж, кажется, на совесть отбарабанил свое человек, так нет: будто, кроме Данилы Даниловича Недремова, некому призвать к порядку наших дорогих колхозников!
– Ну, это ты, Таня, того… сгущаешь. Сейчас люди и на селе, так сказать, осознали. Взять, к примеру, нынешнюю посевную по колхозу «Партизанская слава»: на восемь дней мы обогнали прошлый год. На восемь! И весь яровой клин, заметь, засеяли сортовыми семенами.
– А каких нервов стоил этот клинышек вам, Данила Данилович? Выехал в самую распутицу человек человеком, а вернулся из этой «Партизанской славы»… Ох, не я товарищ Коротких!
– Татьяна! – укоризненно оговорил супругу Данила Данилович, хотя ее слова явно польстили его самолюбию. Дело в том, что, еще в бытность его блюстителем законности, Недремов стяжал славу незаменимого «уполномоченного по проведению». И к какой кампании ни подключило бы его районное руководство – посевная, или внедрение актуальных злаков, или, в чем Данила Данилович особенно понаторел, продажа зерновых государству, – то хозяйство, которому Недремов оказывал посильную помощь руководящими указаниями, неизменно оказывалось в числе передовиков района.
– Просто незаменимый ты, дорогой товарищ Недремов, в нашем деле человек! – расчувствовался как-то председатель райисполкома, вручая Даниле Даниловичу очередную похвальную грамоту.
– Мы что же… мы, так сказать, исполнители, – скромно отозвался Недремов.
Правда, не всегда его старание отмечалось похвальными словами и грамотой. Так, в том же високосном году, на осеннем районном активе, один из выступавших – самый молодой, по не по годам своенравный председатель колхоза «Свет Октября» Тихон Крушилин – под одобрительное гудение зала высказал такие слова:
– Сколько же можно?.. Ведь каждую весну мы и в райкоме, мы и в «Сельхозтехнике» дверьми хлопаем, а что толку?.. Вместо агротехнической помощи и дефицитных деталей вы в наш окраинный колхоз только толкачей шлете, вроде… Давилы Давиловича!
И хотя такое гласное поношение районного активиста Тихону Крушилину не прошло даром, прозвище «Давила Давилович» оказалось прилипчивым.
Но все это, как говорится, присказка…
…После завтрака Данила Данилович, по заведенному распорядку, собственноручно потрусил проса семейству чистопородных леггорнов – восемь несушек, одиннадцать молодок и осанистый, как самовар, петух Спиридон, – обошел садик, где подпер жердинками два отяжелевших от плодов сука у яблони – из годов задался урожай! – и лишь после этого неторопливо направил свои стопы по общественной тропе.
Предрика на месте не оказалось.
– В Нижние Пеструны Василий Васильевич подались. С фином. Точку они там сегодня открывают, – сообщила Недремову секретарша Нюрка Торчкова – щекастая дивчина в искусительно короткой юбчонке, с целым волосяным овином на голове.
Мода – она и в Заовражье мода!
– Какую еще точку?
– Сберегательную. Марь Васильевна будет туда выезжать. По средам и субботам.
– Ну, что ж, дело полезное, – одобрил затею Недремов.
– Еще бы.
– А про меня Василий Васильевич не спрашивал?
– Нет. Вами не интересовались.
Слова «вами не интересовались» Недремову почему-то показались неуместными.
Насторожила Данилу Даниловича обстановка и в райкоме партии: тишина, все окна настежь, из репродуктора звучит легкая музыка.
– А где люди? – спросил он у пожилой учительницы Клавдии Васильевны Сухониной, заменившей на время отпуска технического секретаря.
– Нэма людей. На элеватор всех наладил Кирилл Михайлович. Не успевают там будто бы документы оформлять.
– А сам где?
– У себя. Но тоже – уже Васю вызвонил.
Секретарь райкома Кирилл Михайлович Коротких – невысокий, раскатисто басистый и не по должности вихрастый здоровячок, недавний воспитанник Петровско-Разумовской академии – встретил Недремова, как всегда, приветливо:
– Даниле Даниловичу – салям!.. Не икалось вам сегодня с утра?
– А что такое?
– Вспоминали мы с Василием Васильевичем вас… позвольте, позвольте – по какому же делу?
– Ясно – по какому. Очевидно, опять «Партизанская слава». Или «Рассвет»?
– Что именно?
– Ну, пшеничку придерживают. Ловчат люди, ловчат! А к Лобачеву я бы на вашем месте, товарищ Коротких… присмотрелся! В этом году зерновых у него, по самым минимальным подсчетам…
– Так «Слава» и вывезла уже больше восьмидесяти процентов, – перебил Данилу Даниловича Коротких. – А «Рассвету» мы обещали в подмогу три машины выделить, из областных, а тут… И черт меня за язык тянул! А он знаешь какой, Матвей Петрович, – мужик настырный!
– Угу, – хмыкнул Недремов, как показалось его собеседнику, недовольно. – Так куда?
– Что – куда?
– Ну, где надо… это самое…
– Ах, вы вот про что! – Секретарь райкома совсем некстати хохотнул. Но тут же спохватился: – Очень мы вам благодарны, дорогой товарищ Недремов, за вашу, так сказать, неусыпную, но… – Коротких красноречиво развел руками. – Пока что в «этом самом» нет необходимости.
– Та-ак… – Хотя Коротких говорил с Данилой Даниловичем дружелюбно, Недремову в словах секретаря почудилась насмешливость. Поэтому он произнес с подчеркнутой значительностью: – Свежо предание, а верится с трудом!
– Пожалуйста, полюбуйтесь, – Коротких протянул Недремову лежавший перед ним лист бумаги. – Не сводочка, а песня: сама садик я садила, сама буду убирать!
– Значит, все… сама? – Данила Данилович, как бы прицеливаясь, сощурил один глаз.
– Плохо ли. А кроме того… В этом году нашему брату рекомендовано воздержаться от… – Коротких выразительно прижал большой палец к столешнице. – By компрене? – как говорят французы.
Недремов отозвался не сразу. Медленно поднялся с кресла, тщательно расправил поля шляпы, потом сказал:
– Мы-то компрене! Хотя и не французы, а всё компрене! Только… Когда стоит вопрос об обеспечении продукцией сельского хозяйства фабрик и заводов, больниц, школ и детских домов, партия не имеет права полагаться на самотек!
– Правильно. Я ведь тоже… газетки-то читаю.
Коротких поднялся из-за стола и взглянул в лицо Недремова с каким-то, как показалось Даниле Даниловичу, неподходяще веселым сочувствием.
– А вообще, если есть желание проветриться, поедем…
– Куда?
– В «Клару Цеткин». Там у Василия Трофимовича сегодня намечается торжество. За два с половиной месяца шабашники из Закарпатья ему клуб воздвигли: триста двадцать метров полезной площади, а вся строительная бригада шесть человек! Вот над чем нашему «Сельхозстрою» стоит задуматься. Ну, как – махнем?
– Спасибочки.
– Никак обиделся?
– Было бы на что.
И действительно: какая тут может быть обида?
Денек расчудесный, на улице Дружбы народов прямо сутолока: пионеры куда-то маршируют с лопатами под барабан, у школы девчата-маляры озорные частушки горланят, нарядный «опер» солидно тарахтит по обочине на мотоцикле с коляской…
А уж машин, машин…
Сплошным сыпучим потоком стекается на элеватор зерно. Из годов нынче выдался урожай, да и погодка подгоняет хлеборобов: сколько оно еще простоит – ведро?
Но Данила Данилович даже не замечает праздничной суматошливости. Он идет по хоженой-перехоженой им за сорок лет и лишь недавно заасфальтированной дорожке, где на его глазах, словно соревнуясь с тополями, вымахали ввысь трех– и четырехэтажные дома, идет, как всегда, твердо и размеренно отстукивая шаги, но…
Нет сегодня в человеке той сановитости.
И ничто его не радует.
Даже наоборот.
– А кто, интересно, убирать за вами будет? – тыча палкой в заляпанную раствором панель перед школой, раздраженно вопрошает Недремов одну из девчат – штукатурщицу, оказавшуюся на его пути с пустым ведром.
Девушка некоторое время озадаченно таращит на Данилу Даниловича наивно-плутоватые глаза, потом поворачивается к школе и кричит:
– Эй, бригадир!
– Чего тебе? – отзывается работница постарше.
– Кинь тряпку, а то тут серьезный дядечка баретки запачкать боится.
Ох как захотелось Даниле Даниловичу ухватить девчонку за выбившийся из-под выцветшего берета пушистый вихор и – «вот тебе! вот тебе!» – но…
Сами, сами виноваты: разбаловали на свою голову…
Дальше идет товарищ Недремов, убыстряя шаги. И даже по сторонам не смотрит, так все опротивело.
И вдруг…
– Данила Данилыч!.. Данила Данилыч!..
Догнавшая Недремова исполкомовская секретарша Нюрка Торчкова чуть ли не с восторгом смотрит в его насупленное лицо.
– Ух, все-таки споймала вас, сла-те боже. Прямо из головы вылетело: ведь еще вчера вечером наказывал мне… ну, который из обкома прибыл. Интересная такая фамилия…
– Лушпендин?
– Он! Он самый! Не согласится ли, просил узнать, товарищ Недремов возглавить…
– Чего возглавить?
– Вот же память, прямо старушечья! – Нюрка озабоченно заморгала подведенными ресничками. – Какую-то, помнится, комиссию: чи по проверке исполнения, чи…
– Чи, чи!.. А где он сейчас – товарищ Лушпендин?
– В кабинете Васильевича они заседают.
Даже удивительно, как приятное известие может не только повлиять на настроение, но и внешность человека изменить.
Буквально за какую-то минуту на глазах у Нюрки просто лет на десять помолодел Данила Данилович: и ростом как будто стал повыше, и плечи расправились, и ликом посветлел.
Однако на словах выказал не то чтобы недовольство, а… претензию, что ли…
– Так я и знал! Неужели же, товарищ Торчкова, у вас во всем исполкоме не нашлось человека, чтобы… возглавить?
– Человеки-то есть, только… ить не каждому можно доверить.
– Ясно!
А что – ясно?
Впрочем, разве могут такие, как Нюрка или обидевшая Данилу Даниловича штукатурщица, понять, что значит для человека, посвятившего десятки лет своей жизни общественно полезной деятельности, вдруг ощутить себя, что называется, «не у дел».
Конечно, каждого пенсионера радуют слова – «старикам везде у нас почет», но ведь старик старику – рознь, и жить на одном почете иному старичку скучновато!
Эх-хе-хе…
ИВАН ДЕРЮГИН НЕ ОБМАНЕТ!
До последнего момента все шло нормально. Бомбардировщик лег на боевой курс, в шлемофонах прозвучал голос штурмана Сальникова: «Так держать!» И сразу голос командира корабля майора Буштуева: «Стрелкам усилить наблюдение за воздухом!»
Затем потянулись – именно потянулись! – томительные секунды, когда память с фотографической точностью запечатлевала все, что видел глаз. Внизу, на темной земле, – крохотные строения крупного железнодорожного узла с паутинкой путей и прилежащие к вокзалу кварталы домов, выхваченные из темноты светом «сабов» [1]1
Саб – светящаяся авиабомба.
[Закрыть], которые мастерски развесил над целью головной бомбардировщик. В окрестностях узла то тут, то там вспыхивали фары прожекторов и – словно огненные брызги – мигали выстрелы зениток. А в воздухе многочисленные, беспорядочные разрывы снарядов, посылаемых зенитчиками почти наугад: попробуй разгляди в ночном небе, где он гудит, четырехмоторный бомбардировщик, и на какой высоте проходит над городом.
Герою нашего рассказа, хвостовому стрелку Ивану Дерюгину, цель была пока что не видна; потому что его боевой пост находится под стабилизатором и в течение всего полета он сидит в своей тесной кабинке спиной к движению, а видимость у него ограничена прозрачной полусферой. Такое положение Дерюгина и дало повод одному из стрелков-подшассийников, безответственному трепачу Яшке Туликову, сегодня перед вылетом высказать в адрес Дерюгина такую соленую шуточку: «Ты, Ваня, как перекормленный мерин – из-под хвоста обстрел ведешь!»
Глупая шутка! Ведь почти всегда истребитель норовит подобраться к бомбардировщику сзади: тут-то Иван Дерюгин и встретит «мистера» разноцветной очередью снарядов из «авиационной крупнокалиберной».
Были такие случаи?
Были!
Вот и сейчас. Если бы тот же Яшка Туликов сумел заглянуть под шлем-маску и увидел, какой непреклонной решимостью преисполнено обычно благодушное лицо сержанта Ивана Дерюгина, – язык не повернулся бы сказать такие слова.
Корабль слегка дрогнул: это открылись бомболюки. Затем в наушниках прозвучала последняя команда штурмана: «Внимание на цель. Бросаю бомбы!»
Порядок! Сейчас бомбардировщик содрогнется сильнее и даже чуть взмоет вверх, освободившись от «Анны Андреевны» – так по имени тучной и горластой заведующей летной столовки Яшка Туликов прозвал трехтонную бомбу. А затем…
Именно в эти последние секунды атаки экипаж бомбардировщика ослепил луч мощного прожектора, «схвативший» корабль.
Если бы бомба была уже сброшена, летчикам, возможно, удалось бы снова ускользнуть в спасительную темноту. Но сейчас свернуть с курса хоть на градус – значит сорвать боевое задание.
«Так держать!»
А когда разрушительный груз ушел по назначению, бомбардировщик был уже высвечен вперекрест лучами нескольких прожекторов и вражеские зенитчики открыли по нему прицельный огонь из многих стволов.
У командира корабля – огромного, на диво могучего и невозмутимого полярника Николая Ивановича Буштуева – была любимая приговорка: «На земле-то на меня и теща наскакивает, поскольку там у меня всего одна лошадиная силушка и пистолет. Зато в воздухе – несколько тысяч лошадиных сил нашего брата обслуживают, а охраняют – две пушки и четыре спаренных пулемета. Попробуй сунься!»
И действительно – в каких только воздушных передрягах не побывал за годы войны майор Буштуев. И – хоть бы царапина!
Однако на этот раз и ему – прославленному воздушному богатырю – изменило боевое счастье: прямым попаданием осколочного снаряда была пробита и изрешечена плоскость, разрушен правый средний мотор, и, что окончательно решило судьбу бомбардировщика, вспыхнуло хлынувшее из пробитого бака горючее.
Из одиннадцати человек экипажа на запрос командира корабля не отозвались двое: борттехник Филипп Горбань и правый подшассийный стрелок Яков Туликов, рядом с кабиной которого разорвался снаряд. «Яшка-баламут» принял мгновенную смерть, а тяжело раненный Горбань в полубеспамятстве сорвал с себя кислородную маску, что на такой высоте равносильно самоубийству.
Несмотря на отчаянные усилия, сбить огонь не удалось, и вскоре последовал приказ командира:
«Экипажу разобрать НЗ и покинуть самолет!»
Вот и все. В целом история для того времени довольно обычная: война!
А необычным в этом боевом эпизоде и тогда многим показалось то, что произошло с воздушным стрелком, сержантом Иваном Григорьевичем Дерюгиным.
Утром этого столь памятного для него дня Дерюгин был вызван в политотдел авиадивизии дальнего действия, где начальник политотдела полковник Сапаров вручил ему партийный билет.
И хотя вручение происходило в будничной обстановке, сержанту все происходящее показалось не только весьма значительным, но и торжественным. Крепко врезались в память и слова начальника политотдела.
– Ну, Иван Григорьевич, теперь твоя жизнь принадлежит не только тебе, но и партии! – сказал Сапаров, и то, что подполковник впервые обратился к Дерюгину на «ты», причем не снисходя, а как равный к равному, сержанта тронуло, как отцовская ласка. – А эту книжечку, Иван Григорьевич, береги пуще глаза! Помни: если утеряешь свой партбилет или замараешь его недостойным поведением – опорочишь этим звание коммуниста. Самое высокое звание на земле!
Разобраться – так ничего необычного не сказал Дерюгину полковник. Больше того: двум присутствовавшим в комнате политотдельцам уже много раз приходилось выслушивать подобные слова. Но одно дело – при сем присутствовать и выслушивать со стороны, и совсем, совсем другое, когда слова «Самое высокое звание на земле!» касаются непосредственно тебя и ответили, может быть, самым чистым и сокровенным твоим помыслам.
Так что не было ничего удивительного в том, что этот и без того блестящий и звенящий капелью денек наступающей бурно, в ногу с советскими войсками весны сержанта Дерюгина просто ослепил своей солнечностью.
И даже неказистая галка, одиноко восседающая на самой макушке небольшой взъерошенной сосенки, сейчас показалась Ивану Григорьевичу чуть ли не жар-птицей.
Глядел бы да радовался!
– Почему не приветствуете, сержант? – окликнул Дерюгина проходящий мимо начштаба полка.
– Виноват, товарищ капитан!
– Наличный состав ворон никак не сосчитаете?
– Виноват… Партийный билет мне сегодня вручили… – Дерюгин торопясь сунул руку за борт дубленки и достал красную книжечку.
– А-а… Понятно. – Сухое, бровастое лицо капитана подобрело. – В таком случае разрешите поздравить вас, товарищ Дерюгин. Как говорится, от всей души!
Капитан подошел к сержанту и, с трудом стянув с правой руки тугую кожаную перчатку, крепко пожал руку Дерюгину.
Потом поздравляли – шумно, сердечно, с охлопыванием – друзья-товарищи, воздушные стрелки и технари. А «обмыть идеологически оперившегося Ванька́», как выразился все тот же Яшка Туликов – эх, и язык занозистый был у парня! – ребята сговорились ночью, сразу после возвращения с боевого задания.
И вот…
Нет веселого баламута Яшки Туликова! И Горбань погиб – неторопливый, старательный хлопец с Черниговщины. А другие друзья по эскадрилье, может быть, и поднимут стаканчик за Дерюгина – наверняка поднимут! – но только уже не с поздравлением, а с пожеланием, как в комсомольской песне, – «Если смерти, то мгновенной…».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ночь. Тишина – сырая, стылая. Овраг, заросший но склонам неряшливым кустарником. Внизу беспокойно шумит мутный ноток сбегающих с полей подснежных вод, а вверху на холодном небе слеповато помаргивают звезды. Неприютно-чужой стала для Ванюшки Дерюгина вот эта земля, похожая на родную, тульскую. А тут еще мысли угнетающие: Дерюгин никак не мог сообразить, почему он поторопился покинуть самолет. Испугался пожара?.. Но ведь корабль еще не потерял управления, и Буштуев, стремясь уйти подальше из опасной зоны, вел его со скольжением влево, сбивая пламя и не давая пожару распространиться на центроплан. Да, можно было подождать еще минуток десять, всё приземлился бы поближе к дому. А может быть, и через линию фронта перетянул бы бомбардировщик; были и такие случаи…
«Эх, Иван, Иван, смалодушничал! А еще…»
Дерюгин даже содрогнулся, настолько испугала его впервые пришедшая в голову мысль: «Партбилет!..» Ведь он обязан был сдать его перед вылетом замполиту или старшине. Не знал?.. Знал! Не раз, а много раз всему летному составу эскадрильи зачитывали приказ, категорически запрещающий при полетах на территорию противника иметь при себе военные, партийные и комсомольские документы. А на политзанятиях приводили и примеры – к чему может привести такая оплошность. И начальник политотдела сегодня… «Пуще глазу, говорит, береги!»
Сержанта охватило горестное оцепенение. Трудно сказать, сколько времени просидел он на склоне оврага, ссутулившись и прижав правую руку к тому месту, где под летным комбинезоном и меховой безрукавкой, в кармане старенькой гимнастерки, зашпиленном для верности булавкой, пока что сохранялся его партбилет.
Конечно, и в дальнейшем этот документ в чужие руки не попадет – что бы ни случилось! Но…
Дерюгин зябко передернул плечами, огляделся, прислушался.
Издалека донесся собачий лай; сначала встревоженно затявкала, по-видимому, мелкая и вздорная собачонка, затем лениво и басовито отозвалась другая.
Починок Скорбящино, вблизи которого приземлился воздушный стрелок Иван Дерюгин, расположился на взгорье, которое крутой излучиной обегала река Красавка. Правда, Красавку можно было назвать рекой только в весеннюю пору, когда талые воды заполняли старицу до краев, а если зима задавалась снежная, а потайка дружная, то и по всей левобережной низине речка разливалась. Но уже в середине лета русло Красавки в этих местах превращалось в глубокий овраг, по дну которого тянулись камышистые болотца, кое-где поблескивали бочажки да струился журчливый ручей. И даже в Надюшкином омуте против починка летом барахтались только ребятишки да утиные выводки.
А ведь было время – лет примерно девяносто тому назад, – когда возвращавшаяся из города пароконная упряжка графини Горяниной целиком ухнула под не окрепший еще лед реки. Правда, сама-то помещица чудом спаслась, но добрые кони, кучер, кормилица и младенец Надежда погибли в ледяной воде.
С тех пор эта излучина реки и зовется по имени помещичьей дочки Надюшкиным омутом. А починок возник позднее, вокруг небольшой часовни, срубленной крепостными плотниками из массивных дубовых бревен. Отсюда и название Скорбящино; оно пошло от образа старинного письма «Всем скорбящим радости», который безутешная мать-помещица, сопровождаемая всей губернской знатью и духовенством, собственноручно пронесла семнадцать верст и водворила на уготовленном иконе месте в часовне.
Все кругом изменилось неузнаваемо; и река, и окрестные села, и местность, некогда глухая, лесистая, а уж про людей – и говорить нечего. И только почерневшая, полувросшая в землю часовенка да названия Скорбящино и Надюшкин омут живут, ничего не воскрешая в памяти новых поколений.
Уже занимался рассвет, когда сержант Дерюгин, продрогший и обессиленный после трудного полета, изнуряющих мыслей и длительного блуждания по грязи и талому снегу вокруг затаившейся деревушки – а вдруг напорешься на немцев! – подобрался огородом к самой неказистой избе. Постоял минутку, неспокойно дыша, затем, решившись, стукнул несколько раз в окошко, занавешенное изнутри кисейной занавеской.
Хозяева отозвались не сразу. Зато сразу же из-за угла избы выскочила собака – худой, клочковатый, вислоухий пес неопределенной, с уклоном в охотничью, породы. Некоторое время пес рассматривал Дерюгина, склонив набок голову, молча и недоуменно. Затем, видимо сообразив что-то своим собачьим умом, поджал хвост, вскинул морду и залился хрипловатым спросонья лаем.
– Ну, чего ты орешь, дурья голова! Неужто совести в тебе нет, – забормотал сержант, испуганно огляделся и снова, уже решительнее, постучал в окошко.
Через полчаса Иван Дерюгин сидел на самодельном табурете, плотно прижав лопатки к никогда не остывающей русской печи, ежась и подергиваясь от выходящего изнутри холода, и вел околичный разговор с хозяином избы, немолодым, очень худым и угрюмым по виду крестьянином.
– Как живем, спрашиваешь? Да обыкновенно: хлеб дома жуем, а работать в колхоз идем.
– А разве его не ликвидировали, колхоз-то ваш? – удивленно спросил Дерюгин.
– Кто?
– Ну… немцы.
– А на черта он им сдался… – Хозяин не спеша достал с полки жестяную коробку с табаком, обрывок газеты. – Разобраться, так по нынешнему времени у нашего хозяйства только название красивое осталось… Завертывай.
– Спасибочки. Некурящий.
– Оно и по облику видать, что не кашляешь. Ну, а у вас как?
– Где?
– Ну… там.
Этот пустячный разговор двух Иванов – сержанта Ивана Григорьевича Дерюгина и колхозника Ивана Васильевича Горюшкова прервала дочь хозяина, щепавшая около печи лучину на растопку.
– Даже смотреть на вас, мужики, противно! – заговорила девушка, переводя взгляд темных с дичинкой глаз с отца на гостя. – Встретились в кои-то веки, а нет того чтобы серьезно поговорить, и вот обхаживают друг друга, как два трепаных кочета!
– А ты, Катька, помолчи! Время-то знаешь какое, – полушутя-полусердито отозвался отец.
– Знаю!.. И что за кавалер погостить к нам пришел с утра пораньше – вижу! Комсомолец небось?
– А как же… То есть в настоящий момент уже не состою…
– Силен!.. Мой залеточка хороший – был блондином, стал брюнет! На одной ноге калоша, на другой калоши нет! – Катька неподходяще весело и обидно для сержанта расхохоталась. – Неужто и нас с папашей боишься, воин?
– Но, но! – Дерюгин впервые прямо взглянул в лицо девушке; хотел поставить пересмешницу на место, но передумал почему-то.
Может быть, потому, что ни унизительное, полуголодное существование, ни тоска по двум братьям, отгороженным от Кати Горюшковой линией фронта, не лишили ее осунувшееся лицо привлекательности.
Хотя при иных обстоятельствах, вероятно, не такой уж красавицей показалась бы Ивану Дерюгину эта девушка – худенькая, смуглая и большеглазая, с задорно вздернутым носиком, над которым то и дело сердито сдвигались темные, углом расчеркнутые брови. Но сейчас по всему телу сержанта, умученному длительным нервным и физическим напряжением, разливалась блаженная, дремотная теплота. А главное – с первого же взгляда на отца и дочь Дерюгин почувствовал, что попал к своим и пока что ему не грозит никакая опасность. Даже в голове мелькнула мысль: зря он, пробираясь к избе через огород, зарыл под приметной раскидистой яблонькой свои документы, завернув их в носовой платок, затем в целлофановую обертку из-под НЗ и засунув в двухслойную меховую рукавицу. Год пролежат – будут целы!
Нет, правильно поступил: еще неизвестно, как в дальнейшем сложится судьба.
Ну, до Лопахинского лесничества, чьи дремучие угодья протянулись далеко на восток, Ивана Дерюгина проводили под покровом ночи его новые друзья – задиристая черноглазая девушка и пес Горлан, облаявший сержанта при первой встрече.
А как пробраться через фронт?
– Вот и зря ты торопишься, Ваня, – сказала напоследок Катюша, пугливо поглядывая в сырую темень лесной чащобы. – Переждал бы недельку, а там… Здорово, слышь, наступают наши! Сам ведь говорил.
– Ну, нет: ждать да догонять – самое канительное дело! – Дерюгин, явно красуясь, воинственно сдвинул на затылок шлем.
– А не боязно?
– Чего?
– Мало ли. Убить могут запросто, и вообще…
– Наше дело солдатское! Это тебе с отцом… Да, опасаюсь я за вас, Екатерина. Серьезно говорю.
– Верю. Только хуже, чем есть, нам с папашей не будет. Уж к одному бы концу…
Катюша скорбно вздохнула и пригорюнилась. Но когда, движимый чувством жалости, сержант подшагнул к девушке и, обняв ее за плечи, крепко прижал к себе, Катюша резко оттолкнулась от него обеими руками и сказала сердито:








