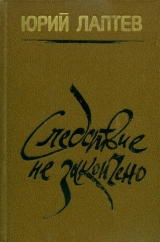
Текст книги "Следствие не закончено"
Автор книги: Юрий Лаптев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 49 страниц)
БАЛАШИ
Почти в каждом русском селе среди сотен незаметных крестьянских семей можно обнаружить семью, историю которой старики передают внукам как занимательный и нравоучительный сказ. Обычно такая изустная летопись фамилии, чем-то себя прославившей – силой ли богатырской, или нравом неукротимым, или передающимся из рода в род мастерством, – имеет правдивую жизненную основу, но частенько приукрашена, а иногда «приустрашена» домыслом рассказчика, что, впрочем, сути не меняет, а рассказу не во вред…
Балаши…
Родословную семьи комбайнера Александра Тимофеевича Балашова мне поведал Егор Васильевич Воронков, тот самый, которого жители села Пастухова с полным основанием прозвали «справочным дедом». И действительно, шестидесятилетний конюх и сторож при райкоме партии знал историю всего захолустного когда-то уезда, а затем глубинного района так, как будто лично присутствовал при всех сколько-нибудь значительных событиях, происходивших в этой лесистой местности в течение первой половины нашего века.
– Вот вчера вы спросили меня: как это я сподобился прогулять всю свою жизнь в парнях, иначе сказать, на холостом положении? А я, помнится, ответил вам шутейно, как и прочим людям объясняю: дескать, пока гармонистом был, глаза разбегались на девчат, не знал, какую кралю себе в жены приспособить. Словом, как пел, так и жил:
Под окошком на бревне
Девки спорят обо мне.
Зря вы, девки, спорите,
Вы меня не стоите!
Именно. Ну, а когда годов да сознательности накопил, девки начали с глаз разбегаться. Выходит, сыграл на квита! А сказать не для смеху – по-пустяшному прожил я свой век, не жизнь получилась, а житьишко. И сам скоро спрячусь в домовину, и на земле не останется после меня ни ростка, ни семени.
Такими горькими словами начал Егор Васильевич свой рассказ про семью комбайнера Александра Тимофеевича Балашова.
Проселок, тянувшийся вдоль опушки леса, вдруг круто свернул в сторону и соскользнул в овраг, склоны которого неряшливо заросли мелким разнолесьем. Копыта лошади зачмокали по болотцу, потянуло застойной, погребной сыростью. Но вскоре тарантас выбрался на противоположный склон и углубился в чащобу Пастуховского лесничества. Под колесами начали глухо постукивать узловатые корневища, как бы переползавшие через дорогу, по обеим сторонам которой все выше и выше вздымались то медно-чешуйчатые стволы сосен, то подернутые плесенью лишайника вековухи-ели. В торжественной тишине бора и голос Егора Васильевича зазвучал глуше и проникновеннее.
– Дед Александра Тимофеевича – Прохор Семенович Балашов – и мой отец были не то чтобы приятелями: Балаши, они все, заметьте, на дружбу неподатливые, – а просто-напросто, когда из солдатей вернулись в одногод, рядом начали строиться, двор ко двору. Ну, а потом, как водится, по-соседски хаживали друг к другу покурить да побеседовать о том, как из шести пятаков да одного алтына сколотить целиком полтину. Это ведь сейчас наш брат приноровился к газете, и обсуждаем мы промеж себя всевозможные политические явления, а раньше мужицкие разговоры были вроде луковой тюри: скушно есть, зато жевать не надо.
Так и Прохор Семенович прожил бы, глядишь, свою жизнь обыкновенно, кабы не случай. А произошло это, сказать не соврать, году в девяносто втором. Так точно, на другую осень после большой засухи. Погода, помнится, была насквозь дождливая, и грязища образовалась такая, что люди и через улицу переходили только по крайней необходимости.
И надо же было приключиться греху, как раз в то непроходимое время и понесла нелегкая сила через наше село самого генерал-губернатора, да еще и с супругой. Правда, кони губернаторские были такие, что издали, кума, любуйся, а близко не подходи! Два жеребца, серые оба и от хвоста к гривке будто сметаной обрызганы. Злые кони, отличные!
И коляска, конечно, на рессорном ходу, с кожаным верхом и занавеской; ни дождь тебя не сечет, ни ветер. Словом, ездил губернатор не хуже, чем наш товарищ Рогаль в своей «Победе». А что скорости такой не было, так в прежнее время и вся-то жизнь крутилась и крутилась на одном месте, на манер ветряка. Бывало, до хороших годов доживет крестьянин, а спроси его: чего ты повидал за свою тягучую жизнь, мил человек? Тыр-пыр, а рассказать-то и нечего!
Вот почему о том происшествии – как губернатор в луже завяз – не только по нашей округе, а, можно думать, по всей губернии люди разговаривали целый год, как не больше.
А лужа та располагалась как раз против нашей усадьбы. Это топкое место мужики и не в такую мокрядь объезжали сторонкой, ну, а городскому кучеру откуда знать наши порядки!
Даже не подберешь слов объяснить, какая получилась канитель и возгласы, староста, конечно, побег по дворам сгонять народ на выручку, ну, а нас, ребятишек, и звать не надо: набежали со всех сторон к луже, как цыплаки на просо. А подале девчата сгрудились, которые побойчее. Каждому интересно глянуть на такой сеанс!
Правда, сам-то генерал оказался пустяковый по виду старец, вроде канашинского зоотехника. Зато супружница его – это была барыня на удивление: как завизжит, как начнет кучера своего молотить по спине кулаками!..
Ну, а высвободил губернатора из того приключения не кто иной, как Прохор Семенович Балашов.
То есть страшенной силы человек был тот Балаш. Даже, представьте себе, горбился от своей могутности. И вот, как перед глазами, выходит Прохор Семенович со своего двора в домашней холстинковой рубахе, босиком, в бороде солома, и даже не прикрыл картузом патлы свои рыжие. Словом, как спал на сеннике, таким и на люди объявился.
Ну, перво-наперво подошел к коням. Сбрую поправил, охлопал. Известно, господский кучер – одно, а артиллерист – другое. У него, брат, к лошади отношение!
А потом, видим, заходит наш Прохор Семенович сзади коляски, берется руками за рессоры, приподнял да как даванет вперед! «А ну, разом!»
Это надо же иметь такую силищу…
На что уж оглашенная баба была генеральша, а и ту взяла оторопь. Высунулась из коляски, смотрит на Балаша и только что не крестится с перепугу. Потом сказала мужу что-то не по-русски. А тот, значит, подзывает Прохора Семеновича к себе.
«Службу, любезный, проходил?» – это генерал спрашивает. «Так точно! – Балаш отвечает. – Бомбардир-наводчик вылазочной батареи, Балашов Прохор Семенов. А действительную отбывал при крепости Новогеоргиевской».
Вот что значит солдат! В грязи измазался аж до пупа, босиком, без шапки, а отвечает складно, как полагается по уставу службы. Ну, генерал, конечно, такую выправку одобрил. «Молодец, говорит, хвалю за услугу. А ко мне в кучера, Прохор, пойдешь? Вот вместо этого дурня». – «Дозвольте не согласиться, ваше высокое превосходительство!» – «Удивительно. Почему?» – «По семейному положению. Сам-шестой, на селе-то сама земля кормит, а в городе с такой семьей жить никак не способно. Вот кабы здесь определиться на казенное место…» – «В волостное правление, что ли?» – «Никак нет. На той неделе в Пастуховском лесничестве освободилась вакансия, поскольку объездчик там умер, Парамонов Илья. Так если будет ваша милость…»
А генералу оказать такую милость – это как нашему брату, мужику, извините, до ветру сходить. «Ну что ж, Балашов, говорят, раз у тебя такая идея – подавай через волость прошение на мое имя».
С той поры Прохор Семенович и отошел от сельского общества. Лесничий, хоть и пустяковое было начальство, а все ж таки мужику не свой брат. Ему и жалованье полагалось, и квартира казенная, на три зимы тулуп, да еще и на картуз кокарда. Так что сам Балаш появлялся на селе, может, раз в месяц, а к себе в лесничество народ и вовсе не привечал.
Правда, семья у него была справная: жена – Прасковья Ивановна, сыновей двое – Яков и Тимофей, дочь – ее Анной Прохоровной величали, и бабка еще у них в пристройке обреталась; никудышная такая бабка Балашиха, до бога первая молитвенница, а на людей старуха кусучая, как вошь.
Ну, а я к семье Прохора Семеновича пристал в двенадцатом году, когда вернулся с действительной. Пока отбывал службу, папаша и мамаша мои единовременно преставились в холерный год, хозяйство порушилось, ну, я и нанялся в земскую больницу. Год, надо быть, служил при больнице, а потом исправник Станислав Викторович Квасницкий вытребовал меня к себе в кучера.
Уж очень я тому исправнику приглянулся, потому что в молодые годы был хоть и гармонист, а парень старательный: любому человеку мог – одному удружить, другому услужить. А по конскому делу я и тогда понимал больше цыгана.
Вот в ту пору и довелось мне, почитай, каждую неделю бывать здесь, в Пастуховском лесничестве: то самого Квасницкого вывозил сюда на охоту, то его тестя – доктора Евдокимова Павла Григорьевича, а то и обоих враз. По этим лесам и сейчас охота богатая, а в старое время глухаря здесь водилось множество, тетеревей тоже, а туда дальше, по монастырской протоке, – уток. И птица была непуганая.
Так оно и повелось: начальство мое уйдет на охоту да и лесника с собой прихватит, чтобы не заплутать, а я в семье Прохора Семеновича вроде как желанный гость. И Прасковье Ивановне интересно узнать, что на селе делается, и сыновья рады-радешеньки свежему человеку; Яков тогда еще холостой был, а Тимофей год как женился, но жил неотделенный. Ну, а про дочь Анну Прохоровну и говорить нечего: что за жизнь для девушки в лесу? Ей тут даже пошутить не с кем, а про дальнейшее уж и говорить не приходится.
А я, бывало, как еду в лесничество, так обязательно Прасковье Ивановне и Анне Прохоровне везу гостинец: пряников купишь фунта полтора или изюму. Расходу на четвертак, а внимание женщины, знаете, как ценят?
Бабка Балашиха, правда, первое время не давала мне ходу, усядется насупроть и сидит, глазами моргает, как осенний суслик на припеке. Однако нашлось средство и против бабки. Аннушка мне подсказала. Эх, и девушка была! Глазами и сейчас вижу, а словами не знаю, как и объяснить вам!
А средство простое – не выносила та молитвенная старуха табачного дыма: как учует, так аж перекосится вся. А я хоть и не баловался тогда куревом, сверну, бывало, цигарку пастушью в палец толщиной да как фукну в сторону бабки дымом, – смешно вспомнить!
Оговорился! Не смешно, а страшно вспоминать то проклятущее время, когда жизнь крестьянская стоила пятак, да и пятаком собственным не всякий человек мог распорядиться по своему разумению.
Начались наши бедствия с того, что умерла жена Балаша, Прасковья Ивановна. И умерла-то необъяснимо. Вроде и не болела ничем женщина, а вот поди ж ты – день прожила обыкновенно, а к ночи ей бы в постель лечь, а она легла посередь избы на чистую холстину.
Даже судебное следствие было назначено по такому непонятному случаю. Но только ни следователь, ни доктор Павел Григорьевич не обнаружили в этом происшествии ничего сомнительного. Конечно, иной человек живет светло, будто свеча горит, а болезнь возьмет за сердце и погасит, как ту самую свечу, жизнь человеческую. Разве не бывает так?
Вот когда я привозил в балашовский дом судебное начальство, у нас с Аннушкой и произошел этот окончательный разговор.
И можете себе представить! Сама она пришла в сараюшку, где я спал, сама принесла туда счастье – и свое и мое… Неужели так вот оно и было? Тридцать три года прошло, ведь вся наша жизнь с тех пор изменилась до неузнаваемости, да и сам я добираю свой век, а поверить в такое положение не могу!
Не верю – и точка!
Проснусь утром – и так, почитай, каждый день, – и кажется мне, что это вчера Аннушка задала мне такой вопрос: «Согласны ли вы, Егор Васильевич, меня к себе взять?»
А меня будто паморок зажал: стою перед Анной Прохоровной, как перед начальством, руки по швам и молчу. И что удивительно вспомнить: слушаю, как на дворе лошади хрустят сеном… Чего бы?
«Если сомневаетесь в чем, я и невенчанная с вами уйду. Мамаша теперь не осудит, а батя…»
Про отца не договорила. Заплакала.
Мне, знато, взять бы ее, мою судьбинку, за руку да той же минутой и увести с проклятого места. Так нет! Думал по-хорошему: у родителя, значит, попросить благословения, потом к попу толкнуться, – словом, все справить как полагается. Куда там!
И разговаривать со мной не стал Прохор Семенович, а зацепил своей ручищей меня вот так – повыше локотка, подвел к воротам и наладил, как говорится, вдоль улицы.
Да еще и пригрозил вослед. «Если, говорит, еще единожды появишься, арестант, изувечу, как бог горбуна Антипку! Сколько лет будешь жить – столько же и охать».
Только не подумайте, прошу вас, что я тогда покинул Анну Прохоровну потому, что испугался ее папаши – чертова Балаша. Нет, сколь ни силен лесной зверь, а против человека он не выстоит. Другая беда накатилась на нас с Аннушкой, и даже не беда, а целое народное бедствие.
Война!
Как сейчас помню: шестнадцатого июля по старому календарю я ходил свататься, восемнадцатого по всем церквам оглашали царский манифест, а двадцать первого… Знаете, как в то время пели рекруты:
Крестьянский сын давно готовый,
Семья вся замертво лежит.
Германска пуля ведь не дура,
Как раз уложит молодца…
Меня, значит, забрили, обоих сыновей Прохора Семеновича – Тимофея и Якова – тоже, и еще по нашему селу девятнадцать рекрутов первого запаса.
Ура-а-а… Вперед коли, назад прикладом бей!
Ну, моя светлая жизнь, можно сказать, на том и закончилась. Правда, в октябре месяце четырнадцатого года получил я от Аннушки письмо и посылку. В Галиции мы тогда фронт держали. Писала, что будет ждать меня, сколь продлится война. А в посылку зашила рукавицы, коржей домашних.
Да вот не дождалась, повесилась Анна Прохоровна. Почему? Страшно и говорить. От собственного родителя приняла бесчестье… Можно этому поверить?
Эх, не было поблизости меня! Я бы этого изверга… Один-единственный раз в жизни захотелось мне собственными руками задушить человека! Хотя разве это человек?
Мало того, что загубил дочь и сам ушел на каторгу, – весь свой род опозорил, сатана! Поверите ли, по всей округе матери детишек долгое время стращали дедом Балашом, будто нечистым.
А сыновьям каково?
Ну, Яков-то Прохорович хоть по лицу да обхождению зародился в мать, Прасковью Ивановну, а уж Тимофей – этот по всем наружным статьям сгадал в папашу: и ростом, и силищей, да и норовом… Он, правда, и парнем был по виду невеселым, – все будто чего-то обдумывает, а тут сначала на германской, потом на гражданке полных семь лет под пулями и спал и кушал, никак шесть ранений принял и контузию. От всего этого веселее не станешь! Но зато по направлению ума и совести… Мало у нас таких партийных людей, каким был Тимофей Прохорович Балашов. Любого спросите, и каждый вам скажет: мало! Вот одиннадцать лет он прожил на селе, после того как отвоевался, и все эти годы управлял Пастуховским сельсоветом так, что лучше и желать нельзя. Так сказать, по строгой справедливости. Все бедняки к нему шли. Он же и колхоз «Слово Ильича» еще до тридцатого года поставил на крепкие ноги. Ну, а когда началось раскулачивание…
Трудновато сейчас, а особливо вам, городским людям, судить о том, что в то напряженное время происходило на селе. Не знаю, как в других областях, а по нашей местности мужики тогда дошли до краю. Ведь чем силен был кулак? Да тем, что он в крестьянскую землю впивался, как медвежий клещ! А этого паразита иначе и не отдерешь, как вместе с живым мясом. Ну, а Тимофею Прохоровичу наказано было раскулачить ни много ни мало шестнадцать семей. Легкое дело? Соседи ведь все, знакомые люди. Даже собственной матери родного брата – церковного старосту – пришлось ему самолично выволакивать со двора! А за дядю, как на грех, заступился второй племянник – Балашов Яков Прохорович. Ну и схлестнулись два Балаша! Короче сказать, пустил Тимофей из носу кровушку и родному брату: не перечь, дескать, Яша, партийной линии!
Перегнул, думаете, председатель?
Может, и так, но только это на сухом берегу легко рассуждать, что вода в полынье холодна. А в те годы, когда начали мы перепахивать все единоличные наделы поперек межей, а скотину со всего села тулить под одну крышу, у многих, брат ты мой, мужиков засвербило под шапкой.
Ну, а в первый день праздника председателя сельсовета нашего убили. Топором посекли Тимофея Прохоровича насмерть, прямо посередь улицы.
Темень, верно, была, пурга, а главная причина – рождество Христово! Оно и сейчас бывает, что праздники у нас проходят по-дурному, особенно престольные, а раньше – срамота! Мужики, почитай, все пьяные, кругом драки, галдеж. Подпои в такое время ожесточенного человека да подсунь ему под руку косарь или топор – вот тебе и черное дело!
Сыну Тимофея Прохоровича было тогда годков близко к семнадцати. Именно. Сильный, помнится, был парень Александр Тимофеевич, самостоятельный и к девчатам уже подбирался. Но после смерти отца долго ходил по селу будто ушибленный и на людей смотрел дурными глазами.
Однако выправился.
А на комбайнера выучиться Александру помог родной дядя – Балашов Яков Прохорович. Он и тогда большие имел возможности. Известно, мужик длинный!
* * *
Первое мое знакомство с двумя комбайнерами Пастуховской МТС произошло в конце августа тысяча девятьсот сорок седьмого года, когда колхозники области, изведавшие в прошедшем, недоброй памяти тысяча девятьсот сорок шестом году полную меру невзгод от «каленой беды-засухи», начали снимать со своих полей превосходный урожай.
То была заслуженная награда за все беды и лишения; ведь люди так ослабели за голодную, а потому вдвойне студеную зиму, что еще на весенней пахоте и севе буквально валились с ног. Нередко можно было наблюдать такую картину: опустится обессилевший плугарь прямо в борозду и долго лежит, как бы вбирая в себя могучее дыхание земли, уже хорошо обогретой солнцем, но источавшей еще сырой дух подснежной прели.
Тяжело достался сев. Председатели колхозов и бригадиры забегались и охрипли, выкликая, а то и просто-напросто выгоняя людей в поле.
Зато когда наступила страда осенняя, по избам остались только недолетки да перестарки. И озимые и яровые хлеба созрели в том году на редкость дружно, а дни стояли прямо один к одному – жаркие, ветреные, чуть проворонишь, и начнет осыпаться зерно на утеху гусям да курам. Ведь недаром голосистые девчата приравнивают уборочную к лучшей поре своей жизни:
Не покосят в час пшеницу —
Зерно на землю падет.
Не засватают девицу —
Прелесть даром пропадет.
Правильные слова! Время не ждет ни минутки, хотя, кажется, куда бы ему торопиться, времени? Ведь путь-то его – бесконечность!
Когда мы с Егором Васильевичем выехали из лесной просеки Пастуховского лесничества во владения колхоза «Светлая жизнь», нам еще издали показалась неприглядной такая картина.
Поле, уходящее золотистым накатом к дальнему перелеску. Тишина густая, знойная. Под палящими лучами солнца земля струит марево испарений.
А на поле стоит комбайн, как бы завязивший гребень своего хедера в неимоверно рослой и густой пшенице.
В тени машины, сидя на разостланной мешковине, неторопливо и вдумчиво дымили махоркой трое мужчин: помощник комбайнера, тракторист и председатель колхоза Федор Власьевич Поплевин. А в сторонке несколько колхозниц, погрузившихся в ворох соломы, судя по всему, успели уже за время вынужденного бездействия обсудить все сельские новости и сейчас сонливо прели на солнцепеке.
Сам же комбайнер, забравшись в чрево огромной машины, гремел там железом о железо и время от времени подбодрял сам себя такими, понятными только ему возгласами:
– Ага, вот оно, дело-то какое!.. Это же надо выдумать!.. Так, так… А если мы тебя заклиним наглухо, что ты скажешь?
Нашего приезда, казалось, никто не заметил.
Егор Васильевич неспешно спустился с тарантаса, подошел к сидящим мужчинам, деловито поздоровался со всеми за руку, затем неторопливо скрутил цигарку и лишь после этого задал председателю колхоза наводящий вопрос:
– Который день косите, Федор Власьевич?
В ответ Поплевин – здоровенный белесый мужчина с вялыми движениями и неподходяще тонким, просительным голосом – безнадежно махнул рукой:
– Час косили, два дня солому носили! Вон бабы говорят, что эти комбайнеры на сегодняшний день каши больше съели, чем намолотили зерна. И черт ее придумал, такую капризную машину!
– А ты, Федор Власьевич, бабьи шуточки не повторяй! – со злой горячностью возразил Поплевину тракторист – молодой, горбоносый и черный, родом тамбовец, по обличью грузин. – Этому комбайну, хочешь знать, цены нет! Тридцать косарей за ним не угонятся!
– Вон как! – Поплевин насмешливо скривился. – А чего за ним гнаться, когда он на месте стоит?.. Она, может, и хороша машина при таком механике, как Александр Тимофеевич Балашов. Ну, а вам с Иваном Ивановичем самое подходящее заведение – велосипед. Там знай себе болтай ногами, а голове утруждаться не надо!
Вскоре появился на свет и сам комбайнер Иван Иванович Луковцев – низенький, плотный, как бы насквозь промасленный человек лет сорока. Он стянул с головы кепку, отер ею взмокший лоб и сконфуженно пробормотал:
– Пекёт – и никакая сила!
– Да, погода на удивление, – поддакнул Луковцеву Егор Васильевич и, видимо, желая приободрить комбайнера, подал ему совет: – А вот Балаш парусиновую покрышку приспособил над мостиком, на манер зонта. Чтобы, значит, не припекало. И тебе бы, Иван Иванович, взять с него пример. Культурное обзаведение!
– Да на черта ему зонт! – с прорвавшейся злостью вмешался в разговор председатель колхоза. – Он и на мостик-то, почитай, не вылазит, ваш Иван Иванович, а все время внутрях сидит, будто в сенцах. Не иначе, у них вся машина скосоротилась! Да разве могут такие механики тягаться с Балашом?
– Эх, и язык у тебя, Поплевин, пустяшный! – снова зло осадил председателя колхоза тракторист. – Носитесь вы со своим Балашом, как дурные старухи с Николаем-угодником! «Балаш, Балаш»… А то, что Балашов все шестерни и запасные решета потягал со склада к себе на квартиру, – это порядок? Или позавчера: мы шесть часов ждали горючего, а у Балаша запас на полных два дня. Да и на поле такое, как у тебя в колхозе, Александр Тимофеевич свою машину не выведет. Окончательно скажу: вот нас с Иваном Ивановичем вы потчуете каждый день кулешом да луковой баландой, а для Балаша ты не пожалел бы собственной курицы. Да еще и дочку свою наладил бы к его дяде, Якову Прохоровичу, за дешевым вином! Избаловали человека начисто!
В этих из души вырвавшихся словах сердитого тракториста была большая доля истины. Действительно, Александр Балашов являлся для руководителей МТС и района таким комбайнером, которым можно было и козырнуть при случае: дескать, вот каких мы вырастили мастеров уборки, всей области на удивление. Поэтому слава Балаша, как лучшего механизатора района, поддерживалась всеми доступными способами.
Да и сам Балаш – человек среднего роста, но неимоверно раздавшийся вширь, с лицом, крапленным оспой, и неласковым взглядом ястребиного постава глаз – был искренне убежден в том, что он сейчас первеющий и незаменимый работник.
На поле, где убирал пшеницу комбайн Балашова, мы прибыли тоже в неудачный момент: за несколько минут до нашего приезда в режущий механизм хедера попал ржавый ведерный чугун, заброшенный кем-то на поле, может быть, и не без умысла.
И надо же было этому греху случиться как раз в тот день, когда Александр Тимофеевич вознамерился перекрыть областной рекорд комбайнера Протасова!
Для этой цели и участок был выбран подходящий: поле ровное, как озеро, а пшеница – что ни колос, то горсть зерна. И людей на обслуживание комбайна колхоз выделил самых старательных. Словом, уже к полднику обозначилось, что рекорд Протасова будет перекрыт и по гектарам и по умолоту.
И вдруг такая глупая помеха – чугун!
Мудрено ль, что Балаш пришел в ярость. Не обращая внимания на то, что кругом подавленно стояли женщины и девушки, он слал в адрес руководителей колхоза и просто вдоль по полю бешеные проклятия, грубо отпихнул одного своего помощника, а другому – рослому и лобастому пареньку Васе – «навесил» такого подзатыльника, что у того слетел с головы картуз. И хотя, как выяснилось, Вася был родным сыном комбайнера и готовился стать достойным преемником своему папаше, такие повадки Балаша вызывали обидное недоумение. Обидное потому, что когда Александр Тимофеевич собственными руками – золотыми руками мастера – за считанные минуты сменил на хедере поврежденную секцию и занял свое «капитанское место», человека словно подменили: за штурвалом комбайна стоял собранный командир, умный и властный хозяин своей передвижной фабрики зерна.
Там, где проходила могучая машина, оставались лишь ровная щетина стерни да смятые вороха соломы, словно изжеванной зубьями молотильного аппарата.
И люди, только что обиженные поведением Балаша, уже готовы были простить ему все его причуды.
– Родятся же такие мастера! – вырвалось восхищенное восклицание у Егора Васильевича. – Песня, а не работа! Сеяла целая бригада, а скосит все поле один!
– Истинная правда, – поддакнула Воронкову одна из колхозниц, уже немолодая, но легкая и проворная в движениях и лицом румяная, словно девушка. – Цены не было бы Александру Тимофеевичу, ежели бы не озоровал да еще поменьше баловался вином.
– На то они и Балаши! – раздумчиво сказала вторая женщина, видимо, искренне убежденная в том, что это прозвище не только все объясняет в поведении комбайнера, но и многое оправдывает. Подумала и добавила, почему-то сокрушенно качнув головой: – Вот и сынок у Александра Тимофеевича себя еще покажет. Вы не глядите, бабы, что он при отце такой тихонький, Васятка. Парень себе на уме…
* * *
Чайная Дома колхозника помещалась в длинном, как бы приплюснутом здании тяжелой церковной кладки, с редкими, узкой прорези, окнами – вековом обиталище сельских священников. От площади дом был затенен тополями палисадника, а высокое каменное крыльцо, ступени которого были стесаны подошвами людей до покатости, выходило во двор. Две стороны двора были застроены приземистыми, как и дом, службами, а третья примыкала к обширному саду.
Приход издревле считался богатым, и по всему чувствовалось, что служители церкви жили здесь из поколения в поколение замкнуто, скупо и добротно.
Сейчас двери поповского дома были широко раскрыты для многочисленных завсегдатаев «Балашовки», кирпичные сарай и коровник были переоборудованы под исполкомовский гараж, сад отмежеван к школе, но, как это ни странно, плесенный налет подспудной жизни, какой жили старые обитатели этого дома, сохранился.
А происходило это потому, что, хотя чайная и торговала под вывеской райпотребсоюза, полновластным хозяином этого заведения вот уже больше двадцати лет был Яков Прохорович Балашов.
Много темных слухов ходило в народе про этого высокого и сутуловатого человека с благообразным лицом, тяжелыми не по фигуре руками и угнетающе пристальным взглядом светлых, но не ясных глаз. Упорно поговаривали, что Балаш, помимо водки, приторговывает и самогоном собственного производства; при случае окажет «содействие» пропившемуся человеку тем, что купит у него за сходную цену пиджак, часы, а то и велосипед; пропускает через кухню, где поварихой у него работает свояченица – простоватая и благодушная на вид тетя Феня, купленное в конце базарного дня «чохом» лежалое мясо. Да и вообще почти всем было ясно, что стараниями Якова Прохоровича колхозная чайная давно уже превратилась в питейное заведение, торгующее вином круглые сутки.
Но сколько ни наряжали районные власти всевозможных ревизий и обследований, как плановых, так и внезапных, ничего предосудительного в поведении Якова Прохоровича обнаружить не удавалось.
Объяснялось это тем, что Балаш имел двадцатипятилетний опыт в торговом деле, и не только в чайной, а и на продуктовой базе и в правлении райпотребсоюза у него имелись свои люди. А в других районных учреждениях к Якову Прохоровичу благоволили работники, любящие честь и почтение, а еще того больше – даровое угощение. Для таких полезных людей при чайной была даже оборудована специальная комната, которую подавальщицы Клаша и Васильевна – тоже преданные Якову Прохоровичу женщины – называли Макеевкой, в память бывшего начальника районной милиции, пропившего здесь в первый же послевоенный год свое доброе имя, партийный билет и право свободного передвижения.
Казалось, незыблемо укрепился младший сын Прохора Балаша на густо унавоженной земле бывшего поповского владения. Этому способствовало и то, что три дочери Якова Прохоровича – Антонина, Раиса и Елизавета, все три, как на подбор, девицы властной красоты и крутого нрава, – были пристроены им за влиятельных людей: Раиса здесь же в районе, а Антонина и Елизавета – поднимай выше – аж в областном центре!
Мог козырнуть Балаш при случае и еще одним представителем своей фамилии: ведь не кто-нибудь, а сын его родного брата был одним из ведущих по области комбайнеров и депутатом районного Совета.
А кто сделал Александра таким?
После трагической гибели брата Яков Прохорович, можно сказать, принял на свое иждивение вдову и сына Тимофея Прохоровича. Он же выхлопотал Александру и путевку на областные курсы механизаторов, а потом за свой счет направил племянника на Кубань присмотреться к работе одного из лучших по тому времени комбайнеров страны.
Можно забыть такое благодеяние?
Вот только женитьбой своей Александр не угодил дядюшке. Яков Прохорович присмотрел в жены своему племяннику девицу самостоятельную, дочь директора племсовхоза «Ракитное», а тот взял да и женился скоропалительно на дочери пустякового, с точки зрения Якова Прохоровича, человека – колхозного пчеловода Василия Харитонова. А сама Анюта Харитонова до замужества была первой комсомолкой по селу. «Да разве из такой девки может получиться справная жена?»
Однако опасения дядюшки оказались напрасными, потому что «справная жена» из комсомолки Харитоновой получилась; вновь повторилась угнетающая своей обычностью история крестьянской девушки, судьба, каких до сих пор по селам и деревням тысячи: родился у Анюты сын – Василием его назвали, потом дочка – Клавдия, еще дочь… И пришлось молодайке попридержать активность свою комсомольскую: до того ли, когда детишек надо обихаживать, и хозяйство блюсти – дом, огород, скотину, да кормильца-мужа надо уважить. А у кормильца к довершению напасти и характер оказался крутой и своенравный, да еще и дядюшка, который не хочет выпустить Александра из-под своего влияния.
Известно, хватка у Балашей твердая.
В общем, кто Аннушкиной жизни не знает, тот иногда и позавидует: шутка сказать, на первой странице областной газеты поместили портрет ее мужа и на областной доске Почета красуется такой же портрет! А кроме почета и заработки тысячные. Хоть кому!








