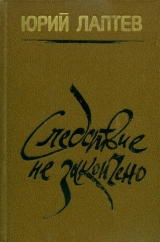
Текст книги "Следствие не закончено"
Автор книги: Юрий Лаптев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 49 страниц)
1
По первому впечатлению лейтенант Гаврилушкин показался Михаилу Васильевичу человеком если и не примитивным, то весьма ординарным. Правда, уже в начале разговора Незлобина насторожили такие слова лейтенанта:
– Менаду прочим, товарищ подполковник, если бы вы меня не вызвали по делу этой…
– Криничная Елена.
– Точно. Я намеревался и сам прибыть сюда. Так сказать, по собственному соображению.
– И правильно бы сделали.
– А я всегда стараюсь делать правильно. Служба, знаете ли, такая.
Гаврилушкин озабоченно достал из нагрудного кармашка гимнастерки пачку сигарет, но тут же, как бы спохватившись, сунул обратно. И даже застегнул карман.
– Можете курить, – разрешил Незлобин.
– Никак не могу: отец у меня, как и вы, недавно отстал от курева – тоже врачи запретили категорически, – и если я при нем начну дымить… прямо звереет папаша!
Незлобин уже внимательнее поглядел в безмятежно круглое и румяное лицо лейтенанта, подумал: «А ведь ты, парень, пожалуй, не такой уж простачок». Спросил:
– А почему вы решили, что я, как и ваш отец… Методику Шерлока Холмса осваиваете?
– Нет. Просто ваша секретарша – заботливая, видать, женщина – предупредила меня строго-настрого… А вот насчет Криничной…
– Что – насчет Криничной?
Гаврилушкин ответил не сразу. И заговорил, как показалось Незлобину, уклончиво:
– А вы, товарищ подполковник, не выкроите времени – побывать в наших краях?
– Был уже… Позвольте, вы же меня и сопровождали.
– Точно. Только тогда я сопровождал вас, так сказать, по служебной линии. А сейчас… Сейчас я хочу пригласить вас… вроде как в гости.
– В гости?
– Ну, не совсем. И не к себе, а в дом Леонида Владимировича Нестеренкова. Правда, сам капитан Нестеренков – он был начальником нашего отделения и в позапрошлом году… Но это разговор особый. А вот вдова Леонида Владимировича – милейшая, должен сказать, женщина: она работает сменным кассиром на нашей платформе. Но вас, полагаю, заинтересует не столько сама Евдокия Сергеевна, как одна из ее дочерей… А может быть, не так дочка, как мамаша Евдокии Сергеевны: эт-то, доложу вам, та старушенция!
Гаврилушкин замолчал и ненужно, как показалось Михаилу Васильевичу, улыбнулся.
– Ничего не понимаю, – сказал Незлобин.
– Виноват: забыл доложить вам, что семья покойного капитана Нестеренкова проживает тоже по улице Гастелло, дом семнадцать.
– Позвольте, позвольте…
Незлобин выдвинул ящик стола, достал папку с делом.
– Гастелло, дом семнадцать… Гастелло, дом семнадцать…
– Точно: как раз напротив дачи, где совершено преступление. Но самое, полагаю, для вас существенное: одна из дочерей капитана Нестеренкова, а точнее сказать – Татьяна, как мне удалось установить, чрезвычайно переживала, когда ей сообщили о смерти Аркадия Челнокова. И даже будто бы до слез дело дошло.
– Угу… Значит, вы, товарищ лейтенант, думаете…
– Нет, товарищ подполковник, этого я не думаю. Обе девушки, что Татьяна, что Людмила, – комсомолки, спортсменки отличные. И… плохое исключено! Но, поскольку… Я и сам, конечно, мог бы, да и должен был бы проявить инициативу, как лицо в какой-то степени ответственное, но… этому мешают некоторые обстоятельства, так сказать, сугубо личного порядка…
А о том, какие обстоятельства «сугубо личного порядка» помешали оперуполномоченному «проявить инициативу», Михаил Васильевич узнал в тот же вечер, когда, воспользовавшись приглашением Гаврилушкина, прибыл как гость на крохотную дачку, затаившуюся между двумя особняками добротной стройки, почти напротив также солидного «дачевладения» Семена Семеновича Утенышева.
2
Несмотря на то что Михаил Васильевич никогда и никому не сетовал на жизнь, он год от году все острее и горше ощущал свое, по сути, полное одиночество. И хотя следователь Незлобин пользовался искренним уважением как товарищей по работе, так и соседей по коммунальной квартире, таких друзей, которые подчас могут заменить даже родного человека, у Михаила Васильевича не было: словно внутрь самого себя загнала судьба переживания этого на вид спокойного и невозмутимого человека.
Поэтому Незлобина даже растрогало то радушие и искреннее к нему расположение, которое он ощутил с первых же минут пребывания в гостях у на диво дружной семьи Нестеренковых, которую возглавляла «старейшина рода» Прасковья Акимовна, не по возрасту юркая, смешливая и до невозможности говорливая старушка.
Прямой противоположностью Прасковье Акимовне была ее дочь Евдокия Сергеевна, женщина крупной стати, молчаливая, моложавая лицом, но преждевременно поседевшая после гибели любимого человека. Ее муж – начальник районного отделения милиции Леонид Нестеренков, ветеран финской и Великой Отечественной войн – в позапрошлом году был сбит поздним вечером неподалеку от своего дома неожиданно вильнувшей автомашиной, от которой посторонился на обочину дороги. И, как было записано в протоколе, «скончался, не приходя в сознание».
И хотя это произошло на глазах двух соседок Нестеренкова, мирно восседавших на лавочке у дачной калитки, преступление осталось нераскрытым. Безмерно напуганным женщинам и в голову не пришло запомнить номер машины. И даже в окраске автомобиля их мнения разошлись: одна утверждала, что «Победа» была зеленого цвета, а второй цвет машины показался небесно-голубым.
Третье поколение семьи Нестеренковых представляли две дочурки Леонида Владимировича – близнецы Люся и Туся. И та и другая – отличные лыжницы, студентки Института физической культуры, и обе настолько – вылитый отец, что их нередко путала даже родная бабушка, а безошибочно различали лишь мать да частый, а в последнее время чуть ли не ежедневный гость в доме Нестеренковых – оперуполномоченный Гаврилушкин, непонятно из каких соображений с первой же встречи обративший особое внимание на Люсю.
– Нет, ты, Николаша, все-таки обязан представить мне письменное объяснение, или, по-вашему, рапорт: на каком основании ты дискредитировал меня в глазах общества?.. Чем я хуже Люськи?
Такой вопрос не единожды задавала бравому лейтенанту обойденная его вниманием Туся, и трудно было понять – чи шутит девушка, чи и на самом деле уязвлена.
На что обычно следовал также шутливый ответ:
– А я монетку кинул. И выпало, представь себе, не решка, а орел. Орлица, точнее сказать.
– Нахал!
Хотя гостевание затянулось чуть ли не до полночи, весь вечер промелькнул для Незлобина как один час. Очень по душе пришлось Михаилу Васильевичу исполнение двумя сестричками – Тусей и Люсей – под гитару его любимой песни «Враги сожгли родную хату». Понравились и пельмени – не какие-то покупные, а самые настоящие, которыми потчевала гостей Прасковья Акимовна, и неуклюжий баловень Маркиз – щенок, титулованный ввиду явно «дворянского» происхождения. Но больше всего заинтересовал – только уже не гостя Михаила Васильевича, а следователя Незлобина – застольный разговор.
– Только вы, Михаил Васильевич, не подумайте, что у меня с этим… ну…
Так как Туся запнулась, ей подсказала сестра:
– Аркашей.
– Никакой он не Аркаша, поскольку… В общем, возвращались как-то мы с… Челноковым из города. Как раз суббота была, в вагоне не протолкнешься, ну и… И сейчас понять не могу: почему вдруг этот парень затеял ни с того ни с сего такой разговор?
– Очевидно, симпатию почувствовал, – снова услужливо, но, по-видимому, некстати подсказала сестричка.
– Мама, скажи Люське!..
– Людмила! – строго сказала Евдокия Сергеевна.
– Разговор даже удивительный, – после недолгого молчания продолжила Туся. – «Вот вы, говорит, живете у себя дома. Папочка и мамочка о вас, наверное, заботятся, котлетками вас угощают. И гуляют с вами тоже приличные молодые люди. Так?» – «Предположим», – ответила я. «Ну а как бы вы, девушка, себя чувствовали, – спросил вдруг меня Челноков, – если бы вам пришлось жить при кладбищенской церкви, на иждивении попов и покойников?»
– Страсти какие! – испуганно прошептала бабушка.
– Пьяный небось был, – сказала мать.
– Вы ж понимаете, я даже не нашлась что ответить… Кладбище, попы, покойники!
– Да, разговор действительно странный, – сказал Михаил Васильевич, понимающе переглянувшись с Гаврилушкиным.
Не менее ценными оказались и сведения, которые сообщила Незлобину доверительным говорком бабушка.
– Хотя и сосед он нам, Семен Семенович Утенышев, и человек обходительный: как весна, так рассаду мне презентует – огурцы, помидоры. Теплицу он оборудовал у себя на участке и парники. И что удивительно: одним котелком обогревает и дом, и теплицу, и гараж! Видали такое?.. Да ведь Семен Семенович только на огурцах и редиске…
– Мамаша, вы отвлекаетесь, – сказала Евдокия Сергеевна.
– Неужели? А к чему это я… дай бог памяти…
– Ну, о чем вы с Ефросиньей Антоновной всю неделю судачите.
– Да, да… Нет, вы только подумайте, Михаил Владимирович…
– Васильевич, – вежливо поправил Прасковью Акимовну Гаврилушкин.
– Разве?.. Ах, это у моего зятька отчество было Владимирович: царство ему небесное, рабу божию Леониду, вечный покой душе! Ведь уж третий год пошел, как его, страдальца…
– Бабуля! – в один голос воскликнули Люся и Туся.
И еще трижды пришлось домашним перебивать безмерно словоохотливую бабушку, вдохновляемую к тому же сочувственным вниманием, с которым слушал ее серьезный и обходительный человек.
А наиболее существенными для Незлобина из обширнейшего потока сведений, собранных Прасковьей Акимовной о жизни соседа, были такие:
– …В прошлом и позапрошлом году у Семена Семеновича проживал гражданинчик – тоже молодой, но посолиднее, чем нынешний, убиенный. Тот был из себя мордастый, а по поведению – вроде как большими делами озабочен: пройдет мимо и глазом на тебя не поведет. Мы с Ефросиньюшкой промеж себя так и называли его – себеумок! И что примечательно: приезжал к Ефросинье на́гости, тоже прошлым летом, внук, Сергеем звать, старшей дочери Ефросиньиной первенец. А сама-то Антонида Петровна, как вышла замуж за инженера Провидина Павла Николаевича, так и… Из Перми он, Провидин-то, а с Антонидкой его познакомил…
– Мамаша! – недовольно сказала Евдокия Сергеевна.
– Ничего, ничего, это занятно, – сказал Михаил Васильевич, чем еще больше удлинил рассказ старушки, существенность которого заключалась в том, что Прасковья Акимовна и Ефросинья Анатольевна приметили, что тот – «из себя мордастый» – частенько возвращался из города на такси и, что весьма удивляло приметливых подружек, никогда не доезжал до дачи Утенышева, где снимал комнату.
– А однажды, это под троицу было, нет, простите великодушно, уже под спас-преображенье, мы с Ефросиньюшкой как раз от всенощной возвращались… Да, а «себеумок», представьте себе, проехал мимо и сошел с машины у дачи Куперштоков, вы, наверное, обратили внимание – зеленый забор в самом конце нашей улицы и на калитке «злая собака». А Куперштоки Самуил Аркадьевич и Марья Ефимовна – он зубной техник замечательный, а она просто жена ему – унаследовали эту дачу…
И хотя Михаила Васильевича Незлобина нисколечко не интересовало, от кого унаследовали дачу за зеленым забором Самуил Аркадьевич и Марья Ефимовна Куперштоки, он оказался единственным из присутствующих слушателем, который прослушал весь сорокаминутный рассказ Прасковьи Акимовны с неослабевающим вниманием.
А покидая гостеприимный домик и посоветовавшись предварительно с Гаврилушкиным, Незлобин обратился к Евдокии Сергеевне с такой удивившей женщину просьбой:
– Я понимаю, что у вас и самих с жилплощадью тесновато, но все-таки… Вы, очевидно, догадываетесь, какого гостя привел к вам Николай Артемьевич?
– Да.
– Так вот, милая Евдокия Сергеевна, простите за фамильярность…
– Ради бога!
– Не сможете ли вы приютить – максимум на месяцок – одного молодого человека. Ручаюсь, что он вас ничем не стеснит…
И к Гаврилушкину, проводившему его до железнодорожной платформы, Незлобин обратился с предложением, также поначалу удивившим лейтенанта:
– Поскольку вы, дорогой товарищ Гаврилушкин, не только добровольно включились в это дело, если мне не изменяет чутье, – дело разветвленное, но и оказали уже большую услугу следствию…
– Это моя обязанность, товарищ подполковник! – бодро отрапортовал лейтенант.
– Не скромничайте. К сожалению, даже к своим служебным обязанностям разные люди относятся по-разному. Поэтому, как говорится, не в службу, а в дружбу… Не сможете ли вы, Николай Артемьевич, уделить свой ближайший выходной день посещению московских кладбищ: Ваганьковского, Преображенского, Немецкого… Только не в служебном обличье, а… ну, как бы сказать…
– Понято и принято! – даже не дослушав и чуть ли не обрадованно отозвался лейтенант Гаврилушкин.
ГЛАВА ШЕСТАЯИ вот последний допрос.
Снова знакомый уже Лене милиционер – немолодой, но молодцевато-щеголеватый старшина – проводил ее к следователю.
Кто бы знал, как опротивела Лене эта светлая комната в «казенном доме».
И небольшой полированный столик, стоявший посреди кабинета, за которым она провела больше двадцати часов.
И Михаил Васильевич Незлобин, этот терпеливо-вежливый, но, как казалось Лене, лишенный всяких эмоций человек, – вот кому она подлила бы отравы в стоявший перед ним стакан с янтарно-крепким чаем: той самой отравы, которая сгубила ее такое короткое и, как оказалось, совсем беззащитное счастье. Всю душу он ей вымотал, этот въедливый чинуша!
– Я хочу предупредить… тебя, Лена, что сегодня мы встречаемся в последний раз.
«Лена?!»
Странно: до сих пор Незлобин всегда именовал ее «гражданка Криничная». И ни разу не обратился на «ты».
Лена, не поднимая головы, зыркнула из-под нависшей на лоб челки на следователя.
И лицо у Михаила Васильевича сегодня не такое, как при предыдущих допросах: то ли похудел человек за те три недели, что они не виделись, то ли нездоровится ему. И с кресла своего поднялся расслабленно как-то. Отошел к окну.
А может быть, погода на него повлияла: с утра над лоснящимися крышами домов и приникшими вершинами лип упрямо наползают одна на другую серые с подпалинами, назойливо плаксивые тучи.
– Так вот, Лена… Сегодня я задам тебе только один вопрос. И очень прошу тебя сказать, наконец, правду… Ну почему ты не хотела назвать?
– Кого? – спросила Лена и не узнала своего голоса: разволновалась потому, что вдруг почувствовала, что следователю известно то, о чем она даже не обмолвилась.
А таилась потому, что… Да разве мог этот не только чужой, но, как до сих пор казалось Лене, и враждебный ей человек понять, что после того, как два милиционера с трудом оторвали девушку от деревенеющей уже груди ее Аркаши, для Лены если и осталась в жизни какая-то цель, то только одна: как бы ни сложилась для нее дальнейшая судьба и сколько бы ни пришлось просидеть ей взаперти, она – и только она сама! – вынесет приговор подлым убийцам. Приговор беспощадный! И собственными руками приведет его в исполнение.
Не имеют права жить на земле – пить, есть, смеяться, дышать воздухом – такие люди!
Люди?
Да, разве можно их назвать людьми – Федоса и Петеньку?
Незлобин достал из ящика стола папку, а из папки – фотокарточку и, подойдя к Лене, положил ее перед ней на столик.
– Узнаешь?
На снимке, судя по антуражу, кладбищенского фотографа на фоне знакомого Лене монументального надгробия, воздвигнутого, как гласила надпись, над прахом «потомственного почетного гражданина и радетеля богоугодных заведений, московского первой гильдии купца Антона Куприяновича Парамонова», красовалась лихая троица «мушкетеров»: в центре Федос, по бокам Петрос и Аркадис.
– Откуда вы ее взяли? – спросила наконец Лена.
– А мы не только фотографию… взяли, – сказал Незлобин и впервые за все девять встреч с Леной улыбнулся.
Но Лена этого не видела. Она сидела, напряженно всматриваясь в снимок. А руки стиснула так, что побелели кончики пальцев. И словно издалека до нее донесся голос Михаила Васильевича – негромкий и… не такой, как всегда.
– Ведь сама себя могла погубить… сестричка Оленушка!
«Что такое?.. Оленушка!»
Так называл Лену еще в недавнем, по уже так далеко, далеко отступившем детстве только с нею всегда ласковый отец и совсем недавно – тоже только с нею ласковый Аркаша.
– Да если бы ты не пряталась от нас целых два месяца, как мышонок, эти бандиты и… их покровитель…
– А я сама! – прервала Незлобина Лена.
Она медленно поднялась со стула, строптиво откинула нависшую на лоб прядь волос и впервые взглянула не таясь в глаза Михаилу Васильевичу.
– Что сама?
– Даже тюряга от меня не спасет этих… Все равно – убью!
И такая непримиримо-злобная сила прозвучала в негромко произнесенных словах девушки, что это ошеломило даже Незлобина, хотя, кажется, всего повидал и наслушался человек за свою многолетнюю практику.
– Вот ты, оказывается, какая.
Михаил Васильевич вернулся за свой стол, устало опустился в кресло и долго сидел молча, задумчиво постукивая по столешнице кончиком карандаша.
Молчала и Лена. Она сидела отвернувшись и, казалось, пристально наблюдала, как по стеклу окна змеились струйки разошедшегося дождя.
– И куда же ты сейчас пойдешь? – спросил наконец Незлобин.
Лена не ответила.
– Неужели опять будешь прислуживать попам на кладбище?
Лена не видела лица Незлобина, а в его словах ей почудилась насмешливость. Поэтому ответила зло:
– А это уже не ваша забота, гражданин следователь!
Снова очень долгая пауза.
Лена по-прежнему напряженно смотрела в окно, а Незлобин на Лену. И чем дольше смотрел, тем большую жалость испытывал Михаил Васильевич к этой – и строптивой и беспомощной, и совсем юной и уже столько пережившей девушке.
Что же ее ждет?
ГЛАВА СЕДЬМАЯ– …Ну хорошо, давайте, дорогой Василий Васильевич, поговорим откровенно…
Вот говорят, а чаще в книгах пишут очень красиво, что ничто в нашей суетной жизни не вдохновляет так человека, как любовь! И не только юношу: «Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны…» Что во имя любви человек все способен преодолеть: на войне – героем стать, а в мирное время – поэтом, ученым, изобретателем. А то и чемпионом по фигурному катанию!
Может быть, и так.
Может быть, и я, если бы…
Да нет, пустые слова – «если бы да кабы». И вообще, хотите верьте, хотите нет, но для меня это неземное чувство дважды обернулось проклятием!
А вдохновляет меня в жизни…
Вот сколько мне суждено жить, столько я буду мстить!.. Не всем, конечно, не пугайтесь.
Но те людишки, которые в мои самые чистые и скорбные девчоночьи годы все – и честь мою и счастье мое – втоптали в грязь… Ну, нет, эти пощады от меня не дождутся!
Недаром и на работе: Елена Степановна, говорят, любого преступника нюхом распознает, как Рекс. Может быть, слышали про нашего четвероногого сыщика?
Да и характер, говорят, у Незлобиной собачий!
Только меня это ничуть не обижает, ведь у большинства собак характер честный. И доверчивый. Даже, пожалуй, чаще, чем у людей.
Однако отвлеклась я…
Так вот: если бы не Михаил Васильевич, даже трудно предположить, что бы из меня получилось, – воровка, проститутка?
Но чего это ему стоило – это я поняла, к сожалению, поздно. А когда он меня приютил – боже, какая я была… одичавшая! И кусачая, как хорек! И дважды от него убегала. Только в первый раз Михаил Васильевич разыскал меня через милицию, а вторично – сама я вернулась к нему в Ермолаевский переулок: простуженная, голодная и насквозь промокшая: осенью это было, дождь проливной с утра до вечера.
Дрожу, и злюсь, и плачу…
Вот после этого случая Михаил Васильевич и заявление подал в Верховный Совет: чтобы ему разрешили меня удочерить.
А как обрадовался, когда я согласилась принять его фамилию!.. С тех пор дочуркой стал меня называть. А чаще – Оленушкой.
И в вечернюю школу, а потом и в институт меня приняли по особому ходатайству нашего органа: двух баллов я тогда недобрала по конкурсу. Правда, тут уже и комсомольская организация за меня поручилась. Но и комсомольцев на это дело подбил все он же.
Нет, вы не представляете, какой человек был Михаил Васильевич Незлобин!
Наверное, самый лучший из всех, что мне встречались. Родной!
А жил трудно. Очень… Ну почему такой несправедливой, – больше того, безжалостной! – бывает к иному человеку судьба?!
Только пятьдесят три года прожил Михаил Васильевич, но каких!.. «Ни одно поколение на русской земле не испытывало таких трудностей, какие пережили и преодолели мы, ровесники двадцатого века», – так он сказал мне в последний, пятьдесят третий день своего рождения. С гордостью сказал. Но когда в тот же вечер начал перебирать год за годом свою… ну, личную, что ли, а точнее сказать – семейную жизнь, – и сам расстроился, и меня до слез довел.
Двадцать шесть лет ему было, когда он ее похоронил, совсем молоденькую жену свою. Первую и последнюю любовь.
Нелепо умерла женщина: родила здоровую девочку, а сама скончалась.
Но еще, пожалуй, страшнее, когда… Наташей, в память жены, назвал Михаил Васильевич свою дочурку. И так же нелепо, как и мать… Нет, вы скажите – можно пережить такое? Ведь всю войну его Наташенька провела в интернате, можно сказать, на положении сиротки. А когда вернулся отец, – кстати сказать, с большими наградами закончил войну Михаил Васильевич, – только неполных три месяца порадовался он на свою маленькую хозяюшку. А она – еще несмышленыш! – как будто предчувствовала: прямо ни на шаг не отпускала от себя своего папочку. Уж очень любила…
Простите, я должна закурить.
Не знаю, наступят ли когда-нибудь такие времена… Сказочные, когда человечество освободится от всякого рода страшных недугов, а также не менее страшных… наклонностей. Я лично не могу представить себе такого всенародного благоденствия. Может быть, потому, что почти каждый день провожу по нескольку часов в обществе… Словом, сталкиваюсь со всевозможным отребьем человеческим.
А жить только мечтой…
Не знаю, как вам, но мне кажется, что в наш практический век только престарелые идеалисты находят если и не счастье, то смысл и удовлетворение в том, что всю жизнь стремятся обеспечить мир и благоденствие своим потомкам.
Правда, о судьбе еще не народившихся поколений нам с вами судить трудно, но что касается детей и внуков того подлинно героического поколения, которое утвердило на земле наш справедливый строй, то… Тоже, возможно, по роду своей деятельности, но мне частенько встречаются молодые люди, которые рассуждают так: а почему я – «хозяин необъятной Родины своей» – не могу позволить себе пожить такой жизнью, каковая для большинства наших граждан существует пока что лишь в предсказаниях. И песнях. Да иногда – на экранах кино.
А ведь именно в таком эгоистически-стяжательском подходе – «Мне, а не нам! Мое, а не наше!» – и таится одна из основных причин преступности. Живучей оказалась психология Раскольникова!
Кстати сказать, я специфику работы следователя никто не раскрыл убедительнее Федора Михайловича Достоевского. И не случайно «Преступление и наказание», было настольной книгой Михаила Васильевича.
А еще он любил повторять, что основа работы следователя – не обвинение, а защита человека. И не только когда следователь интуитивно чувствует несостоятельность обвинения, но и в тех случаях, когда еще нет доказательств, но нет и никакого сомнения, что перед следователем умный и предельно изворотливый преступник. В таком деле следователь встает на защиту тех людей, которые могут стать жертвой преступления.
А вообще… Сколько Михаил Васильевич порассказал мне за те годы, которые я прожила с ним в его комнате на Ермолаевском переулке…
А вот эти девять тетрадей – служебный дневник следователя Незлобина, – пожалуй, дали мне больше, чем весь институтский курс.
И вот последняя запись:
«К сожалению, подчас страшнее воров и налетчиков оказываются наши соседи – люди, иногда занимающие высокий пост и пользующиеся уважением. Для человека не столь опасны клыки и когти хищника, как жало змеи, а то и укус насекомого…»
Вам-то, Василий Васильевич, эти слова, возможно, покажутся… ну, ординарными, что ли, но для меня…
Это случилось, когда следователю Незлобину поручили дело кустарной мастерской, обосновавшейся под вывеской и на территории «Дома престарелых текстильщиков». Дело, казалось бы, пустяковое: и производство копеечное и заведующий – самый ординарный ловчила. Но одна, причем совсем тонюсенькая ниточка пряжи потянулась сначала на сырьевую базу, а с базы… Словом, дело оказалось куда масштабнее, чем представлялось в начале следствия. Да и деятели, ставшие на путь бесстыдного стяжательства, оказались людьми… достаточно влиятельными. И зубастыми.
Ну, подробности этого весьма и весьма канительного дела мало увлекательны, но… Да разве же мог предполагать следователь Незлобин, человек ничем и никогда не запятнанной репутации, что ему самому придется опровергать выдвинутое против него встречное обвинение!
Хотя донос был, по сути, анонимным, через подставное лицо, а деяние не являлось уголовно наказуемым, расчет на так называемое «стечение обстоятельств» оказался действенным.
Ведь обвиняли следователя Незлобина в сожительстве с бывшей преступницей, которую он в свое время избавил от заслуженного наказания… Да, да, именно со мной!
И хотя все… а если и не все, то большинство сослуживцев и знакомых Михаила Васильевича – кто не мог, а кто не хотел этому верить, грязная ложь оказалась не менее разящей, чем пуля, направленная точно в сердце. Не беспредельна же жизнестойкость человека…
Ну, а я…
Одно сознание, что ты снова явилась причиной, пусть даже косвенной, смерти самого родного тебе человека… Можно пережить такое?
Нельзя!
Как же ты пережила? – вы спросите.
Не знаю…
Не знаю и то, зачем и почему именно вам, чужому для меня человеку, я вдруг ни с того ни с сего поведала эту безрадостную историю.
Ведь и Ленка-псиша, и Аркашка-цыган, да и следователь Незлобин… даже сама я иногда ловлю себя на мысли: да было ли это?!
А вообще, если вы умный человек…
Уходите…








