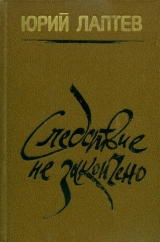
Текст книги "Следствие не закончено"
Автор книги: Юрий Лаптев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 49 страниц)
Утро этого богатого событиями дня выдалось на редкость погожее. По-весеннему легко и весело вставало из-за таежных увалов солнышко, приветствуя лучистым теплом застывшую землю. С первыми же его лучами озабоченно зачирикали в застрехах воробьи, спозаранок высыпали на улицу ребятишки. Раньше обычного поднялись и взрослые. А головинцы еще до свету стали на лыжи и ушли обкладывать Лосиную падь.
Попозже стали прибывать гости из соседних деревень, многие приходили на лыжах, с ружьями. Из отдаленной правобережной деревни Вахруши колхозники приехали на двух парах с бубенцами и лентами, как на свадьбу или на выборы. И настроение у народа было праздничное. До глубины сердца обрадовало всех колхозников известие о том, что с Финляндией заключено перемирие. В каждой избе можно было слышать такие разговоры:
«Давно бы так-то по-хорошему… Или не понимают ихние министры да генералы, что силой да угрозой нас не запутаешь. Сколько крови зря выпустили».
Правда, некоторых новожиловцев заключенное перемирие не удовлетворило.
Так, например, Егор Головин сказал Никифорову:
– Нашему брату, конечно, трудновато во всей мировой политике разобраться, но, думается, что не в Финляндии самое зло. И я, на мой характер, еще кой-кого прочесал бы частым гребнем. Репей, если его с корнем не выдерешь, опять ростки пустит.
– Жалко, тебя не спросили! – насмешливо улыбнулся в ответ Никифоров, но сразу стал серьезным. – Мы ведь не с народом финским воевали, Егор Васильевич! И доказали это всему миру!.. А вот если и в других странах фашисты этого не поймут, ну что ж – нам, как говорится, не привыкать… Эх, денек-то какой знаменитый! – Никифоров поглядел вдоль улицы, празднично освещенной солнцем, усеянной принарядившейся молодежью, звучащей звонкими голосами, песнями.
И только двух человек в Новожиловке не захватило приподнятое настроение – Евтихия Грехалова и Ефима Григорьевича Чивилихина.
К Ефиму Григорьевичу рано утром пришел письмоносец и вручил письмо в твердом конверте со штампом Верховного Совета. Ефим Григорьевич хотя в душе и поджидал ответа от Калинина, но не особенно надеялся, что ответ придет. Иногда даже корил сам себя: «Ну чего, спрашивается, полез, старый дурак! Есть время Михаилу Ивановичу твоими делами заниматься? Ведь кругом вон что делается».
Но ответ из Москвы пришел, и скорее, чем можно было рассчитывать.
Ефим Григорьевич даже глазам своим не поверил: он долго вертел письмо в руках, но, заметив почтительное любопытство на лице Антоши-письмоноши, приосанился и с величайшей осторожностью вскрыл конверт.
Читал Чивилихин медленно, беззвучно шевеля губами, словно разжевывал каждое слово.
– Поздравляют, вероятно? – спросил любопытствующий письмоносец.
– Угу… Поздравляют, более или менее, – не очень уверенно отозвался Ефим Григорьевич.
– Прелестная ваша жизнь. Каждому бы такое удовольствие, – без зависти сказал Антоша и пошел разносить письма по другим домам.
Чивилихин сел к столу, нацепил очки и еще раз прочитал письмо. Начиналось оно так:
«Дорогой Ефим Григорьевич. Президиум Верховного Совета вместе с вами радуется доблести вашего сына…»
Начало письма было настолько приятное, что просто не хотелось с ним расставаться – читал бы да перечитывал.
Но через десяток строчек шли менее радующие слова:
«…В личные отношения вашей дочери и вашего односельчанина Егора Васильевича Головина мы вмешиваться не вправе. Однако нам кажется, что девушка, вышедшая из такой хорошей, трудовой семьи, не позволит себе совершить неблаговидный поступок, и в этом отношении хорошее влияние на нее должны оказать вы, как отец, и ваш сын, а ее брат – Герой Советского Союза Сергей Ефимович Чивилихин».
А в конце письма шли строчки, совсем уже обидные для Ефима Григорьевича:
«Вряд ли справедливо вы противопоставляете себя и свою семью «какому-то» Головину. Мы, правда, не знаем, что из себя представляет товарищ Головин, и не могли понять из вашего письма, чем вызвано ваше возмущение, но такое противопоставление неверно в принципе. На примере собственного сына вы можете видеть, что каждый рядовой гражданин нашей страны может заслужить высокую награду и всенародное уважение. Поэтому все наши знатные люди должны непрестанно помнить, что они вышли из народа».
Письмо не обрадовало Ефима Григорьевича, хотя в душе он и почувствовал, что Калинин хорошо разбирается не только в делах государственных. И нужды простого человека Михаилу Ивановичу близки и понятны.
Грехалов расстраивался совсем по другой причине. Дело в том, что секретарь райкома Коржев в разговоре с Евтихием ни единым словом не обмолвился, что собирается приехать в Новожиловку и лично принять участие в облаве на волков. Но… таков уж был язык у Евтихия. Подвижной свыше меры.
И вот в это праздничное утро Евтихий Павлович сидел у окна, смотрел на снующих вдоль улицы лыжников и понуро слушал язвительную речь своей жены. А Зинаида Тихоновна, воспользовавшись угнетенным состоянием мужа, попутно отчитывала его за то, что, в сущности, отнюдь не подлежало осуждению.
– Третью зиму магазин держит, всех баб ублажает, а жене никогда паршивой селедки в гостинец не принесет!
К чести Грехалова сказать – в другое время он моментально поставил бы настырную супружницу на место, но сейчас Евтихию было не до того. И надо же было ему расписаться за секретаря райкома. Узнают комсомольцы и Никифоров – мало того что на смех поднимут, еще и привлекут за вымысел.
Однако когда вошедшая в критический азарт жена сказала:
– Это уж никудышный муж, который жену за керосином в череду держит, – Евтихий неожиданно вскочил со стула и заорал:
– Смотри, заноза! Эт-то кто едет, а?.. Доставай сию же минуту костюм – серенький в полоску! И кипятку в стакан нацеди, бриться буду! Грехалов, брат, словечка попусту не выпустит.
В Новожиловку действительно приехали секретарь райкома Коржев и капитан Ступак.
Райкомовская кошевка быстро катилась по укатанной середине улицы, а по обочинам, не отставая, бежали на лыжах комсомольцы, выкрикивали приветственные слова. Из калиток выбегали бабы. И хотя секретарь райкома был не такой уже редкий гость в Новожиловке, но сегодня его приезд тоже всем казался событием праздничным.
Вскоре у избы Никифорова, куда зашли Коржев и Ступак, собралась порядочная толпа колхозников. Старики отрядили в избу посланца – Костюньку Овчинникова:
– Иди-ко, Константин, покличь секретаря сюда. Пусть объяснит нам толково про замирение: газета – одно дело, а живой человек – другое.
В избе Никифорова кроме приехавших из района и хозяев сидел Егор Головин. Жена Никифорова стояла у двери, готовая каждую минуту сорваться с места, чтобы услужить гостям. К матери тесно прижималась десятилетняя дочь Любушка. Еще один ребенок – четырехлетний крепыш Тарас – стоял в двух шагах перед Коржевым, держа в руках надгрызенную морковку, и сурово смотрел в лицо секретаря райкома.
Коржев оживленно рассказывал капитану Ступаку:
– И не было тогда для наших бойцов ничего страшнее, чем этот самый танк системы «Рено». Пулей ты его не возьмешь, а какое было у этих молодцов, – Коржев кивнул на Никифорова, – оружие, кроме винтовки? Разве что вилы. Ну и отступали. Но что значит охотничья сметка! – В этом месте рассказа Коржев обратил наконец внимание на стоящего перед ним строгого Тараса и легонько ткнул его пальцем в тугой животик.
– Ты сто балуесся? – сказал Тарас.
Но секретарь райкома вновь повернулся к Ступаку:
– Бекасинником уничтожили этот танк партизаны.
– Дробью? – удивился капитан.
– Именно дробью, да еще и самой мелкой!.. Может быть, сам расскажешь, Иван Анисимович?
Никифоров, слушавший рассказ Коржева с интересом, как посторонний, смущенно усмехнулся:
– Трудное это дело – рассказывать про свои дела… В яму мы хотели тот колчаковский танк сковырнуть, а он, дьявол, будто нюхом чует, где ему ловушка приготовлена. Ну, я и надумал, и что интересно – ночью мне эта мысль пришла, будто приснилась… У нас в ту пору некоторые мужики с охотницкими ружьями партизанили. Собрал таких: «Заряжай, говорю, ребята, свои двустволки и берданки бекасинником». Смеются: «Чирят, говорят, что ли, будем промышлять?» – «Не чирят, дурьи головы, а танк!» Замолчали мои охотнички, но вижу, смотрят на меня подозрительно. Спятил, дескать, взводный. Однако, когда объяснил свой стратегический план, – одобрили. Залегло нас с ночи четырнадцать человек. Тут, например, село Солодари, от села и аж до монастырских озер – поскотина, а за поскотиной вдоль большака лопухи растут. Зда-аровые лопухи! Вот тут мы и примостились.
– Черт-те что!.. Прямо противотанковая батарея! – Коржев весело покрутил головой, достал пачку с папиросами. – Ну, ну?
– Да, пожалуй, и рассказывать-то больше нечего. – Никифоров осторожно вытянул из пачки папироску, не спеша раскурил, дважды затянулся и лишь после этого продолжил рассказ: – Шире, дале – как подошел тот танк к нам шагов на восемьдесят, а может, и поближе – мы по смотровой щели и начали бекасинником стегать. Зарядов двадцать выпустили в момент. Смотрим, машина – тыр, пыр и стала!.. Ослепили, значит, водителя. Ну, а когда беляки на выручку в пешем строю сунулись… Это уж для нашего брата, сибиряков, дело привычное.
– Вот она, братцы, – солдатская смекалка! Никакой техникой ее не заменишь, – сказал капитан Ступак.
– Товарищ Коржев, – нерешительно вмешался в разговор Костюнька Овчинников, с нетерпением ожидавший окончания известного ему рассказа. – Там вас народ ждет: уж очень все интересуются международным положением. Совсем она кончилась, война, или временное перемирие?.. Может быть, и товарищ командир выступит. Очень просят колхозники. А старики говорят – все равно не выпустим секретаря, покуда не объяснит.
– И не выпустят – факт! – рассмеялся Коржев. – Народ у нас строгий. Ну что ж, пойдем, товарищ Ступак, отчитываться.
– Жалко, не узнали мы про твою выдумку раньше, Иван Анисимович, – сказал, одеваясь, капитан Ступак. – И нам под Петроградом от юденичских танков тоже досталось немало.
Все гурьбой двинулись из избы.
21– Многому научила нас эта война, очень многому, – говорил Коржев, стоя на облучке кошевки. – С одной стороны мы доказали всем врагам своим, что нет таких укреплений, которые смогут остановить натиск наших частей, но с другой стороны… Нужно еще много работать над укреплением нашей страны, а главное – над воспитанием и физической подготовкой нашего бойца. Война, конечно, дело тяжкое для всех, но совсем непереносимое для того, кто не сумел воспитать в себе волю, не сумел приготовить себя ко всяким опасностям, лишениям, потерям! А подготовиться можно… – Коржев обвел взглядом окружавшую кошевку толпу и продолжал уже иным тоном: – Вот, помнится, кто-то мне рассказывал, что жил у нас в Сибири мужичок, который носил на руках двадцатипудового быка.
– Был такой товарищ, определенно! – крикнул Костюнька Овчинников.
– На словах-то и Парфен Федорович наш быка поднимет! – с улыбкой глядя на Коржева, сказала стоящая возле самой кошевки Люба Шуракова.
– Помолчи ты, сорока! – сердито цыкнул на Любу стоявший рядом с ней престарелый пастух Парфен.
Коржев взглянул на Парфена, на Любу и сказал, лукаво прищурив один глаз:
– Верно говоришь, девушка, что не всякому слову можно верить. Вот, к примеру, сколько бы ты мне ни рассказывала, что ребята по тебе не сохнут, я не поверю, и все!
Все окружавшие Любу, кроме Костюньки Овчинникова, захохотали. Девушка смутилась, попыталась отшутиться, но ее не расслышали.
– Громче говори, товарищ Коржев! – крикнули из задних рядов.
– А вы тихонько слушайте… Отелилась, значит, у мужичка – Василием, кажется, его звали – корова, – продолжал свой рассказ Коржев. – Да, именно, Василием Петровичем… Ну, теленок как теленок: голова, четыре ноги, хвост и все, что бычку иметь положено. Жена и говорит Василию: «Раз бычок – давай зарежем». А Василий Петрович ни в какую. «Я, говорит, дорогая женушка, через этого теленка такую силу приобрету, что за четырех работать буду!»
– Видишь – какое существенное дело! – укоризненно сказал Парфен Любе и оглянулся на стоявших сзади, как бы приглашая слушать внимательнее. Но всех и так заинтересовал рассказ.
– Ну, раз такое дело, жена мужу перечить не стала: шутка сказать – вместо одного работничка в дому будут четыре! Вот наш Василий Петрович и начал каждый день по три раза теленка брать на руки и носить по хлеву. Подходит, например, утречком к бычку и говорит: «Вчера вечером я тебя легко поднимал, неужто за ночь ты так отяжелел, что не сдюжаю?..» Месяц носит, два носит. Бычок растет, а у Василия сила и сноровка день ото дня прибавляются. Ну и… до сих пор, говорят, быка поднимает.
Толпа, окружавшая кошевку, оживилась. Послышались смех, веселые возгласы:
– Скажи пожалуйста!
– Какое развитие получил Василий Петрович!
– Очень просто: раз вчера ты теленка поднял, сегодня обязательно осилишь. И так далее, по текущим дням.
– Я вам к чему эту басню рассказал, товарищи? – возвысил голос Коржев. – Каждый человек может ежедневной тренировкой развить в себе и силу, и ловкость, и сноровку! Да, да, ко всему можно себя приучать – и к холоду, и к ходьбе, и к преодолению любых трудностей. Вот товарищ Головин и комсомольцы ваши верно это поняли. Начали с малого – с лыжных прогулок да охоты на волков, а придут к большому – передовыми будут и в труде и в бою. К примеру – слышали ведь вы про ворошиловских всадников?
– Слыхали, как же.
– Донские казаки – они потомственные кавалеристы, – не без зависти сказал Костюнька.
– Правильно. – Коржев оглядел теснившихся у кошевки комсомольцев. – Казаки молодцы! А кто сказал, что наши ребята, сибиряки, хуже?.. Да ведь когда еще сибирские стрелки считались самыми лучшими в мире солдатами! Один известный немецкий генерал, да чуть ли не Гинденбург, так определил русскую пехоту: эти, говорит, люди страшнее всех созданных гением войны машин!
Речь секретаря райкома и особенно фраза, сказанная про сибиряков немецким генералом, пришлись по вкусу жителям сибирского села Новожиловки. Несколько пожилых колхозников окружили Максима Жерехова, шутили:
– Смотри, как ты, Максим Никанорович, тому Гинденбургу понравился. Выше всех машин вас обозначил.
– Ну так ведь не зря Брусилов пожаловал Максиму три георгиевских креста.
– И охота вам, граждане-товарищи, старое ворошить, – бормотал Жерехов, смущенный всеобщим вниманием. – Знаем мы этих немецких генералов, – говорят одно, а в уме держат другое. Мы, конечно, народ не злопамятный, но… уж если вторично германец против нас выступит, – скорого замирения пусть не ждут! Под расчет воевать будем.
– А и сердит же ты, Максим Никанорович, на немцев: двадцать пять лет прошло с той войны, а в тебе злость, видать, не остыла.
– Жалко, что тебя Гитлер не слышит, – благодушно шутили колхозники.
Лишь старик Кирьянов, сам участник русско-германской войны тысяча девятьсот четырнадцатого года, смотрел на Жерехова серьезно и слушал его с одобрением. Басил про себя:
– Верно говорит Максим Никанорович, уж кто-кто, а наш брат – старый солдат – немецких генералов знает…
22Настя проснулась в этот день, по обыкновению, когда еще и не рассвело как следует.
Она широко раскрыла, затем вновь зажмурила глаза, потягиваясь, выгнула под одеялом свое сильное, молодое тело. Потом, вспомнив про вчерашнее, приподнялась на топчане. Прислушалась: из-за занавески доносился дружный храп братьев Ложкиных.
Двигаясь осторожно и бесшумно, девушка быстренько оделась и, не переплетая косы, выскользнула из своего угла.
Братья спали на нарах, укрывшись одним тулупом. Из сеней до Насти донеслось нетерпеливое повизгивание ожидающих корма лаек.
Настя на цыпочках прошла по избе. Задержалась, увидав лежавшую посреди стола нарядную коробку конфет, перевязанную розовой ленточкой. Она сразу догадалась, что конфеты принес Борис Иванович и предназначены они для нее. Насте захотелось взять коробку в руки, полюбоваться на картинку. Она даже подошла к столу, но кто-то из братьев шевельнулся, забормотал во сне, и девушка поспешно отдернула руку. Стараясь не скрипнуть, она осторожно приоткрыла дверь и выскользнула в сени, где к ней с радостным визгом кинулись лайки. Настя приласкала собак, особенно выделяя свою любимицу Милку – лайку, такую же белоснежную, как у Егора.
– Эка, наголодались как за ночь, озорные. Да не скачи ты, Горлан, по-дурному! А вы чего здесь забыли?
Две лайки, фырча и принюхиваясь, рылись в ворохе заготовленного для растопки хвороста. Настя подошла, приподняла хворост и увидела там вещевой мешок Бориса Ивановича. Сначала удивилась: «Чего он тут захоронил свое имущество?», – но когда девушка обнаружила, что мешок доверху набит шкурками битой белки, она сразу все поняла.
– Ну ясно, жулик!.. Вот ведь беда-то какая, – испуганно прошептала Настя и поспешно засунула мешок опять под хворост. А наседавших собак прогнала на улицу. От возбуждения Насте стало жарко в холодных сенях. Она долго стояла у двери, порываясь и никак не решаясь вернуться в избу.
От скрипа двери проснулся Кирилл. Он звучно зевнул, втянул под тулуп босые ноги, приподнял с подушки всклоченную голову. Увидав, что Настя поспешно натягивает дубленку, спросил:
– Не по воду собралась, часом, дочка?.. Не утруждайся, сейчас встану, сам принесу.
– Вода есть, Кирилл Иванович, полная бадейка, – не решаясь взглянуть на бригадира, сказала Настя. – В деревню бежать я надумала. Отец всю ночь снился, к чему бы?
– К хорошему сон. – Кирилл зевнул еще раз, крепко растер ладонью затекшую потылицу. – Родитель он тебе, потому и снился. Наших увидишь – Алексея Кирьянова либо Семена, – прикажи, чтобы вертались до свету.
– Скажу.
Кирилл Иванович неторопливо поднялся с нар, сунул ноги в валенки, выглянул в окно и стал будить брата.
– Позавтракать чего прикажете собрать? – спросила Настя, еще не зная, что ей предпринять.
– Сами соберем, Настасьюшка, было бы чего. А ты, раз надумала, иди.
Настя вышла на улицу, торопясь, убавила на лыжах ремни.
Девушке хотелось бежать, но она чувствовала, что за ней в окно следит Кирилл, и боялась вызвать подозрение. «Догадаются – тогда ищи-свищи». А тут еще, как назло, за Настей увязались лайки. Пришлось вернуться – загнать собак в сени. Навстречу Насте вышел Борис Иванович. Девушка заметила, что он подозрительно покосился на хворост. И сразу же приветливо улыбнулся Насте:
– Ну, прощайте, Настасья Ефимовна. Не обижайтесь по пустому делу. Больше, возможная вещь, не увидимся.
– Что так? – спросила Настя, избегая смотреть в лицо Борису Ивановичу.
– Да больно неласково встречаете, – ответил тот, непонятно, в шутку или серьезно.
Настя промолчала, а про себя подумала: «Уйдет, пес, и концы в воду». Решила схитрить: сказала ласково, с улыбочкой:
– Зря вы обижаетесь на меня, Борис Иванович. Если что и сказала я неладно, так не со зла.
– Значит, и в дальнейшем будем друзьями? – спросил Борис Иванович.
– Большой вам интерес от моей дружбы, – уклончиво ответила Настя и спросила в свою очередь: – Небось покушать хотите?
– Неплохо бы на дорожку… А что ж, подарочком моим гнушаетесь, Настасья Ефимовна?
– Спасибо вам. Дорогие небось конфеты-то?
– Не дороже денег…
Кирилл Иванович, увидав возвратившуюся в избу Настю, удивился:
– Ты что ж это, Настасьюшка, или отдумала отца проведать?
– Поесть вроде захотелось, Кирилл Иванович. А то не дойдешь, пожалуй, – Настя улыбнулась, хотя на душе у нее становилось все тревожнее. – Может, чистую рубашку оденете?.. Там она, в плетенке.
– Смотри, смотри, когда ж ты успела выстирать?
– Вчера еще…
– Ну, золотые у тебя руки. – Кирилл Иванович достал из плетеного сундука рубашку. – Эх, мать честная! И пуговицу где-то нашла.
Настя собрала завтрак. Сама поставила на стол водку и села вместе с братьями к столу. Не зная, что предпринять, девушка расстраивалась все больше, чувствовала, что от волнения у нее горит лицо, и, чтобы не вызвать подозрений, выпила полстакана водки. Но опьянения не почувствовала.
– Вот и война подошла, так сказать, к победному завершению, – пространно разглагольствовал пришедший в благодушное настроение Борис Иванович. – Скоро, надо полагать, и братец ваш вернется под родительский кров. Большую должность теперь должны предоставить Сергею Ефимовичу.
– Большая должность – большая и ответственность, – многозначительно произнес Кирилл, у которого, судя по его хмурому лицу, начало портиться настроение.
– Тоже верно, – согласился Борис Иванович. – Сейчас время такое неспокойное, что умные люди не гонятся за большими должностями. Сыт – и ладно, а табачок да винцо есть – и вовсе хорошо! Верно или нет я рассуждаю, Настасья Ефимовна?
– Разные люди проживают вокруг нас: другому сколько ни дай – ему все мало, – сказала Настя и сама испугалась своих слов. Но братья, казалось, не поняли намека.
Кирилл Иванович зевнул и покосился на дверь, в которую то и дело скреблись лайки. Сказал равнодушно:
– Однако и собак попотчевать надо.
Но Настя предупредила бригадира:
– Сидите, Кирилл Иванович, кушайте, пожалуйста. Не каждый ведь день у вас гостит братец. А собаки – они кормленые.
Выйдя в сени к лайкам, Настя тоскливо подумала; «Ну что я поделаю с этими… жуликами?» Открыла дверь на улицу, долго смотрела, как искрится в скользящих по вершинам деревьев лучах солнца снежный наряд елей, прислушалась.
В лесу все еще царит зимняя тишина, только где-то далеко каркает ворона. Не скоро еще огласится чаща весенним птичьим многоголосьем.
Вернувшись в избу, Настя застала братьев спорящими.
– А чего тебе тут ждать – покуда снег стает? – недовольно выговаривал брату Кирилл.
– Так ведь и спешить мне вроде некуда при теперешнем моем положении, – рассудительно ответил Борис Иванович и налил себе еще водки.
– Ну, а я все-таки надумала пойти, Кирилл Иванович, – сказала Настя и ушла к себе за занавеску. Слышала, как братья шептались, но о чем – не разобрала. Дрожащими руками собрала в вещевой мешок кое-какие вещички, накинула на голову теплую шаль.
Три лайки снова увязались за Настей. Но девушка шла, ничего не замечая. Торопилась, то и дело шептала тревожные слова. Настя больше всего боялась, что Кирилл уговорит брата уйти, а тогда разве Никифоров и Сунцов поверят ей на слово? Настя оглянулась и сквозь частый переплет ветвей увидела, что опасение ее оказалось не напрасным: Борис Иванович, придерживаясь рукой за балясину крыльца, надевал лыжи, а Кирилл стоял рядом, раздетый, с вещевым мешком в руках. Потом Настя видела, как Кирилл надел Борису Ивановичу на плечи мешок, обеими руками потряс брату руку и, напутствуя, легонько подтолкнул его в плечо.
– Боишься, ворюга! – зло прошептала девушка. Она на секунду задумалась, потом негромко окликнула собак и свернула с проложенной охотниками лыжни в частую заросль молодого ельника.
Настя не торопилась догонять Бориса Ивановича – хотелось, чтобы он отошел подальше от охотницкой избы. И даже идя по следу Ложкина, нарочито поотстала. Справа от Насти ныряла но снегу белоснежная Милка, две другие лайки – мохнатый, злой Горлан и его брат Козырь – кружили по сторонам. «В случае чего – собаки помогут», – неожиданно мелькнула у Насти обрадовавшая ее мысль.
А Борис Иванович шел неторопливо, вразвалочку. От выпитого вина и хорошей погоды поднималось настроение. Даже запел вполголоса:
…Е-ехал из городу ухарь-купец,
Ухарь-купец, удалой молодец…
Сзади послышалось отрывистое и приглушенное собачье тявканье: так подают голос лайки, когда нападут на след зверя. Борис Иванович оглянулся, задержался. Благодушное выражение лица сменилось беспокойством.
Легко скользя по проложенной им лыжне, к Борису Ивановичу приближалась Настя. Подскочившие с двух сторон лайки угрожающе зарычали.
– Тубо! – прикрикнула на собак Настя и искоса, смущенно взглянула на Бориса Ивановича. – Что я вам хотела сказать, товарищ Ложкин… Пригласить вас надумала я… в гости.
– В гости?.. А я откуда иду? – удивился Борис Иванович.
– Да, нет – к себе домой, в Новожиловке сейчас народу много. Весело… И папаша доволен будет, ему давно хочется вас повидать. – Настя и сама чувствовала, что ее наивная хитрость оказывает на Ложкина обратное действие.
Борис Иванович насторожился, машинально поправил лямки вещевого мешка. Однако ответил ласково:
– Большое спасибо вам, Настасья Ефимовна. Только сейчас не могу принять ваше приглашение. В городе меня ждут. Выступить, очевидно, придется на митинге в учреждении по поводу окончания войны. А вот в следующее воскресенье, если разрешите…
Борис Иванович оборвал речь на полуслове, оглянулся.
Очень издалека до его слуха донесся какой-то неясный шум. Лайки насторожили уши, заворчали. Прислушиваясь, вытянула голову и Настя. Потом вновь взглянула на Бориса Ивановича, сказала уже настойчивее:
– Очень вас прошу.
– Не могу, Настасья Ефимовна. И не просите. – Ложкин опасливо покосился на глухо урчащего Горлана, цыкнул на собаку: – Пшел к черту! – И решительно двинулся через поляну к густым зарослям орешника.
– Обождите! – почти крикнула Настя.
Борис Иванович нехотя задержался, взглянул на девушку через плечо неласково. Настя торопясь подошла к нему. Спросила со злыми слезами на глазах:
– Откуда у вас, товарищ Ложкин, белка? – Какая белка?
– В мешке… Украли?
Все дальнейшее произошло в течение, может быть, одной минуты. Пожелтевший от испуга Борис Иванович хотел уйти, но Настя догнала его, вцепилась в рукав, крикнула:
– Лучше добром отдай!
Завязалась короткая, молчаливая борьба. Пытаясь отбиться от Насти, Борис Иванович схватил тяжелый, мерзлый сук и ударил им девушку по голове. Настя, даже не охнув, медленно опустилась в мягкий снег. Труднее оказалось Борису Ивановичу избавиться от лаек: увертливые, не раз ходившие на медведя, собаки, как мячи, отскакивали от его ударов, но, как только Ложкин пробовал двинуться, накидывались сзади. В клочья разорвали полы романовского полушубка, прокусили в нескольких местах ноги.
А издали надвигался непонятный и потому особенно устрашающий Бориса Ивановича шум. Уже можно было различить неистовую трескотню колотушек, свистки, крики. Вдалеке прозвучали два выстрела. А тут еще снова пришла в себя Настя. Она приподнялась на ушедших глубоко в снег руках и некоторое время, казалось, равнодушно смотрела из-под наползшего на глаза полушалка, как безуспешно пытался отбиться от лаек Борис Иванович. На секунду крепко зажмурила глаза. Потом сознание девушки прояснилось, и она заговорила еле слышно:
– Узы его!.. Козырь, Милочка, узы его, проклятого!
– А, сволота! – чуть не плача от бессильного бешенства выругался Борис Иванович. Но тут, на его счастье, в нескольких десятках шагов, прижав уши, стелющимися прыжками пронеслась клочковатая поджарая волчица. Все три лайки с визгливым лаем устремились вслед за зверем.
Настя, заметив, что Борис Иванович снова уходит, собрала всю свою силу и поднялась на ноги. Но, сделав несколько шагов, пошатнулась и, обессиленно привалившись к сосне, обеими руками обняла шершавый ствол дерева.
В голове девушки шумело так, что она не слышала ни приближающегося треска колотушки, ни отдаленных выстрелов, ни криков, хотя поблизости звучал очень знакомый Насте голос – голос ее отца. Неожиданно колотушка и голос умолкли. Выбравшийся из-за ельника на полянку Ефим Григорьевич остолбенел: на его лице, распаленном охотничьим азартом, выразилось крайнее изумление.
– Настасья!.. Ты что тут притулилась?
Но дочь ничего не ответила и не пошевелилась. Тогда Ефим Григорьевич встревоженно заспешил к Насте, обнял ее, целовал бледное, похолодевшее, словно неживое, лицо дочери, бормотал:
– Настенька, что с тобой, моя травиночка?.. Боже мой! Да ить это я, батя твой. Ну батя же…
Настя с трудом отшатнулась от дерева, взглянула на отца широко открытыми, но все еще пустыми глазами и безвольно припала к его плечу.
Волчица, а вслед за ней и Борис Иванович, уходя от загонщиков, вышли на «номера».
Волчицу убил капитан Ступак.
А Бориса Ивановича головинцы «взяли живьем».








