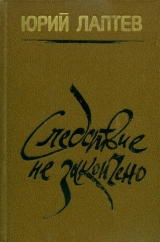
Текст книги "Следствие не закончено"
Автор книги: Юрий Лаптев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 49 страниц)
Бубенцову Ельников обрадовался. Наконец-то клиент.
– Здравствуйте, Федор Васильевич! Побриться зашли? Пора, пора вам освежить лицо.
– Спасибо. Оно у меня и так свежее, как у младенца. Ты вот что, Антон Степанович, закрывай-ка свое заведение да иди на поле. К Камынину в бригаду.
– Позвольте!..
– Я тебе дело говорю. За бороной ходить можешь? Сможешь. Чай, на селе вырос.
– Во-первых, меня с трудодней сняли, как вам известно, – загорячился оскорбленный таким неожиданным предложением парикмахер.
– Поработаешь – и выпишем. А нет – будешь бегать за харчами в «Светлый путь». И вообще лучше ты со мной не ссорься. Все сегодня на работу вышли. Неужели ты хуже других?
Направился в поле и Антон Ельников. И, неожиданно даже для самого себя, оказался неплохим работником, никак не хуже других. Два дня походил за бороной, потом перешел на культиватор, потом на сеялку. Всего десять дней проработал на посевной парикмахер – посвежел, загорел, бородой оброс. В азарт даже вошел, работая с одним из лучших сеяльщиков колхоза, Михаилом Шаталовым. Чуть-чуть на первое место не вышли. Аникеевы только не пустили.
Вот тебе и левша!
А впоследствии, занимая клиентов разговором, Ельников стал часто употреблять такую фразу:
– Намереваюсь сменить профессию, поскольку у меня больше склонности к физическому труду, нежели к умственному.
4
Был обеденный час. Высоко стояло солнце. Над полями струился воздух, насыщенный испарениями земли. Наискось тянулись к небу дымы бригадных костров.
Расположившись прямо на земле, вокруг артельных плошек, чинно и неторопливо люди ели суп. Правда, не все с хлебом, некоторые прикусывали картошкой.
На приварок колхоз выделил для посевной несколько баранов, отпустил пшена, картошки. Но хлеба оставалось только для детского сада и больницы.
Колхозники обедали, но основные работы – пахота, боронование и сев – не прекращались ни на час, ни на минуту. Народу сегодня было достаточно, и на обед один заменял другого. Лошадей подкармливали в борозде.
– Мое звено нынче получит только одной премии полтораста пудов зерновых, как не больше, – говорила в одной группе обедающих Дуся Самсонова.
– Врать – так уж до тысячи! – усомнился немолодой колхозник Василий Степунов и звучно схлебнул с ложки суп.
Другие рассмеялись, но Самсонову это не смутило.
– Если нет, вот при всех говорю, – осенью приходи, товарищ Степунов, и забирай у меня десять пудов. Хочешь ржи, хочешь проса. Даю честное комсомольское!
– Рожью, Василий, бери. Пшена-то и на огороде насобираешь, – посоветовали Степунову.
А он, явно заинтересованный таким разговором, даже жевать перестал. Не отрываясь, смотрел на Дусю. Долго смотрел. Потом сказал:
– И приду. Сегодня же бабе прикажу два чувала припасти.
– Но уж если звено получит полтораста пудов премии – с тебя пуд! Такой уговор. – Самсонова говорила очень серьезно. Только в глазах ее то появлялись, то пропадали озорные чертенята.
– Вот тебе так! – Тут уж все приостановили еду. Интересно все-таки. – Да что ж ты, Дарья, в два горла есть собираешься, что ли? С колхоза полтораста получишь да со Степунова пуд. Не давай, Василий!
Дуся расхохоталась.
– На то спор. Ведь Степунов не верит? А за науку надо платить. Ну, ударили по рукам?
Но хоть и хотелось Степунову получить ни за что ни про что десять пудов ржи, так было и решил – не пшеном брать, а рожью, но от спора он воздержался. Черт ее знает, а вдруг получит? Знал, конечно, Василий Степунов про постановление правительства. Но по-серьезному как-то над ним не задумывался.
Да и других, слушавших этот разговор, слова Самсоновой навели на размышление.
«Вот оно к чему клонится…»
5
Начала, наконец, пахоту и первая бригада. Точно «с полдён», как и обещала Марья Николаевна Коренкова.
Только не семь, как было намечено, а девять плугов сразу вышли у нее на борозду. Два добавочных плуга Балахонов ей, можно сказать, из ничего собрал.
Тягло Коренкова освободила из-под борон. А в бороны запрягла коров. Первую дала сама, свою личную, хоть и было у Марьи Николаевны четверо детей, а уж какое молоко у коровы, если на ней пашут! «Ничего. Не отощают ребята за каких-нибудь пять дён».
И еще нашлись в бригаде такие люди.
Труднее было с пахарями. Еще по осени два самых лучших плугаря перевелись к Брежневу. Правда, за один добавочный плуг становилась Настя Балахонова. А за другой?. Хоть сама становись. И это бы, конечно, не испугало Коренкову, – а то не приходилось в войну и пахать! Но нельзя: бригада – везде нужно последить, а раз пошел за плугом, кроме борозды, ничего не увидишь.
Выручило неожиданное.
Пришли на стан двое Шаталовых – Иван Данилович и сын его Николай.
– Ну, бригадир, куда становиться прикажешь?
Коренкова даже обомлела от изумления. Хоть и числились они оба в ее бригаде, но… Шаталов ведь! Да еще в такой обиде человек. Утром повстречались – и картуза не снял, так мотнул головой, как нищенке.
А тут сам пришел и сына привел. Вот как можно ошибиться в человеке!
– Не знаю уж, Иван Данилович, куда вы пожелаете.
– Умная ты женщина, а говоришь пустые слова, – наставительно пробасил Шаталов. – «Куда пожелаете»!.. Да, может, я министром пожелаю… За плуг, что ли, становиться прикажешь?
– Вот бы удружил!
– А ну, Николай, – обратился Иван Данилович к сыну, – покажем людям, какие такие Шаталовы!
На борозду вышел первым. Хоть и отвык Иван Данилович от такой работы, но не прошел и круга, как приноровился. Недаром ведь смолоду лет десять батрачил – тогда пахать приходилось от зари и до зари.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ1
Ивана Григорьевича Торопчина в тот день, когда Бубенцов «гулял по колхозу», на селе не было. Он с раннего утра поехал в район получать продовольственную ссуду. Сам поехал, чтобы на месте ликвидировать задержку, если такая возникнет. Торопчин отлично понимал, что, если раздать колхозникам в такие трудные и напряженные дни хоть по нескольку килограммов муки на едока, – это окрылит народ. Ведь не секрет, что многие настоящего хлеба не едали чуть ли не с самого рождества. И сколько ты такому человеку ни говори правильных хороших слов, сколько ни убеждай его напрячь весь остаток сил для того, чтобы ушла и никогда не вернулась в колхоз нужда, – голова у него понимает, а живот возражает. Ты ему одно, а он тебе другое. «Ну ладно, говорит, была война, была нужда. А ведь теперь мирное время».
Может быть, и сознает такой в душе, что, не прав, что глупые, неверные это слова. Знает ведь отлично даже тот, кто в начале войны еще в одной рубашонке бегал, и тот, кто по дряхлости дальше чем на десять шагов от избы не отходил, – чего стоила стране и народу победа. Сколько сожрала за четыре года ненасытная война. А засуха?
Выйдут, конечно, колхозники на работу. Почти все выйдут. Другой дня три поворчит, а на четвертый усовестится. И большинство будет трудиться поистине самоотверженно. Но не все. Найдутся и такие, про которых можно сказать, слегка переиначив поговорку: «От дела не бегает, но и дела не делает».
Не весь народ одинаковый. И сколько сил еще должен положить Иван Григорьевич Торопчин, да и все коммунисты на селе, для того чтобы каждый колхозник понял великую правду.
Поздно вечером, почти ночью, подкатили к колхозному амбару два грузовика, груженные мукой.
Уже замерла на селе жизнь после закончившегося чуть ли не с зарей трудового дня. Опустела темная улица, погасли почти во всех избах огоньки. Даже собаки – только две выскочили облаять машины, с надсадным рычаньем поднимавшиеся от моста вверх по улице.
Однако не успела еще начаться разгрузка хлеба с грузовиков, как буквально вся площадь перед амбарами оказалась запруженной народом. Со всех сторон слышался топот подбегающих людей, звучали возбужденные, веселые голоса, смех. В свете фар грузовиков, как чертенята, приплясывали босые, полуодетые ребятишки.
К Торопчину с фонарем в руках подошел старый конюх Степан Самсонов, не покидавший с начала посевной конюшен круглые сутки. Вслед за конюхом появился кузнец Балахонов в одной нижней рубахе и в калошах на босу ногу.
– Ну, великое дело ты сделал, Иван Григорьевич! – возбужденно сказал Самсонов.
– Разве я?
– Тоже верно, – согласился с Торопчиным Балахонов и посоветовал: – Вот и надо бы объяснить народу, откуда она, помощь, нам идет.
– Знаю, – Торопчин потянулся, мотнул головой. Он очень устал, Пришлось побегать полных два дня, пока все оформили. Не один ведь колхоз «Заря» получал ссуду, а все колхозы. В районе – как на ярмарке. И мешки вдвоем, с младшим конюхом Никитой Кочетковым от склада и до машины на себе перетаскали и погрузили.
– Я уж всю дорогу думал…
Но Ивану Григорьевичу не удалось рассказать, о чем он думал всю дорогу. К нему, чуть не сбив, с ног закуривавших шоферов, метнулась девичья фигур. Девушка обняла Торопчина и звонко чмокнула его прямо в губы.
Это была Дуся Самсонова.
А другая девушка – Клавдия Шаталова, стоявшая очень близко от Ивана Григорьевича, но невидимая в густом полумраке, – обиженно склонила голову и отошла. И даже слов Самсоновой слушать не стала.
– Это я не тебя целую, а знаешь кого… – У Дуси даже в темноте светились обычно озорные, а сейчас наполнившиеся радостными слезами глаза.
И много людей, непрерывно сменяя друг друга, подходили к Ивану Григорьевичу. Колхозники пожимали ему жесткими пальцами руку, говорили скупые, хорошие слова.
Но Ивана Григорьевича это только смущало. При чем тут он? Разве его нужно благодарить?
И Торопчин решительно направился к грузовику. Ступил на скат и легко вскинул на машину свое худощавое, сильное тело. Его белая от мучной пыли фигура ясно вырисовывалась на темном пологе неба.
Говор утих, и только откуда-то издалека донесся радостный женский крик:
– Анюта-а!.. Бежим скоре-ея! Хлебушко раздавать будут.
Торопчин стоял на грузовике молча и неподвижно. Пытался разглядеть еле различимые в темноте лица колхозников. А когда заговорил, то по неровному, ставшему глуховатым голосу все почувствовали, что Иван Григорьевич взволнован.
А разве кто-нибудь был спокойным в эту минуту?
– Жаль, что не вижу я ваших лиц, друзья мои дорогие. Но знаю, сердцем чувствую – у всех нас сейчас одна общая радость, одна дума, одно, только одно стремление…
Поднимаясь на грузовик, Иван Григорьевич еще не знал, что же он скажет народу. Вернее, знал что, а только слов не успел обдумать. Но они сами рождались – эти слова. И прямо в душу слушавших ложились.
– Хоть и трудно мы жили эти годы, хоть и голодали, но сейчас, как никогда, выросла сила колхозная. Да случись такая засуха в старое время – сколько народу еще с осени пошло бы по колючей дороге «христа ради» жизнь вымаливать!
– Верные слова. Было такое бедствие в девяносто первом, не то втором году. Не осталось тогда на селе ни одной животины. Собаки, и те посдыхали, – негромко, но явственно, так, что услышали многие, подтвердил старый конюх Степан Самсонов.
– А какой хозяин смог бы по весне землю обработать? – зычно выкрикнул кто-то издали.
– Правильно! – Иван Григорьевич чувствовал, что каждому хочется поддержать его слова, самому высказаться. – Правильно! Может быть, один из сотни, и то если бы к толстосуму в кабалу пошел, в подневольный труд. А нам от чистого сердца помогает государство наше. И труд наш колхозный – свободный труд!
– Что и говорить! Жалко, вчера тебя на селе не было!
Эту фразу, произнесенную язвительным бормотком, слышали немногие. В числе немногих был и Федор Васильевич Бубенцов. Он резко повернулся и встретился взглядом с Елизаветой Кочетковой.
Женщина ничуть не смутилась. Она давно уже заметила председателя и именно с расчетом, чтобы он услышал, сказала:
– Что смотришь, а не лаешь? – теперь уже Кочеткова обратилась непосредственно к Федору Васильевичу. – Слушай лучше, что говорят правильные коммунисты.
Ничего не ответил Бубенцов Елизавете, понимая, что нельзя в такой момент затевать ссору. Но разволновался так, что зубы застучали, как от озноба.
Глухой гул, в который слились десятки голосов, возник после слов Торопчина и раскатился по всей площади. Многим, очень многим хотелось высказать горячие слова благодарности. Но всех опередила Коренкова.
Марью Николаевну, подступавшую за время речи Торопчина все ближе к машине, охватил огромный искренний порыв.
– Пустите меня, товарищи!
Чьи-то сильные руки подхватили женщину, подняли ее на грузовик.
– Тихо! Тихо!
Но когда наступила тишина, Марья Николаевна вдруг ощутила, что не знает, какими словами выразить свое несказанно сильное чувство.
Молча стояла на грузовике рядом с Торопчиным, может быть, минуту, может быть, две.
– Говори, Маша. Чего надумала, то и говори, – донесся снизу до Коренковой голос Балахонова.
– Что же говорить? – Никто не видел, да и сама Марья Николаевна не замечала, как по лицу ее скатывались одна за другой светлые капли слез. – Словами разве отблагодаришь…
– Подарить бы чего, да не придумаешь, – негромко и нерешительно прозвучал из толпы женский голос.
– Правильно! – Коренкова обрадовалась. Теперь она знала, что сказать. – Самую дорогую вещь должны мы подарить нашему правительству! А что всего дороже?.. То, без чего человек жить не может. Труд наш! Нет ему цены, нашему колхозному труду! Ведь во всех городах советских, и на заводах, и на фабриках, и на шахтах, и на кораблях, по морям плавающих, – всем людям, от мала до велика, мы, колхозники, обеспечиваем пищу!
Так говорила Марья Николаевна Коренкова.
Но разве в колхозе «Заря» только у Коренковой зародилось в тот вечер такое благородное чувство? А разве только один колхоз особенно полно в эту тяжелую годину ощутил могучую поддержку своего государства?
В укромных лесных тайничках, в степных овражках и балках, в расщелинах скал неприметно зарождаются тысячи родников и родничков, ключей и ключиков. Выбиваются из-под земли, журчат, пробивая себе путь по извилистым низинкам, сбегаются в ручьи, речушки, речки. А речки стремятся одна к другой.
И вот уже катит свои воды по степным просторам, мимо лесов и пашен, городов и сел, все наполняясь и ширясь, величавая, неторопливая русская река.
До самого синего моря.
Так и народная благодарность. Как хрустальные родники, зарождаются чистые мысли в сознании каждого честного труженика. Звучат слова благодарности в одном колхозе, в другом, в третьем. И, сливаясь в один поток человеческого чувства, неудержимо стремятся в одном направлении…
«Москва. Кремль. Товарищу Сталину».
2
Очень усталый, но радостно возбужденный пришел Иван Григорьевич Торопчин к себе домой. Хотелось только одного – помыться, поесть и растянуться на кровати. Но так не получилось.
Первое, что он увидел, это сидящего за столом рядом с Васяткой Ивана Даниловича Шаталова.
Васятка читал «Песнь о Соколе», а Иван Данилович сидел рядом, обняв мальчика за плечи, и внимательно слушал.
Увидав вошедшего Торопчина, Шаталов поднялся и сказал, широким радушным жестом протягивая руку.
– Ну, молодец ты, Иван Григорьевич. Особый молодец! Хорошие слова сказал. Поверишь, я и сам хотел… это самое. Да разве Коренкову упредишь? Обожди, она и Брежневу еще очко даст. И чем берет? Шепотом прикажет, а по всему полю слышно. Вот кому бы председателем-то быть. А не этому… хлюсту.
– Брось. Ты еще Бубенцова не оценил, – недовольно возразил Торопчин. Его ничуть не обрадовал поздний гость. «Ну, чего пришел, спрашивается? Опять на что-нибудь будет жаловаться».
– Кабы я один.
Слова Шаталова прозвучали многозначительно. Торопчин насторожился.
– Случилось что-нибудь, Иван Данилович?
– Есть новости. Полагаю, бюро собрать придется.
– Так. – Торопчин снял испачканный в муке пиджак и устало опустился на лавку. Рассеянно оглядел горницу. Задержал взгляд на младшем брате. Сказал сердито: – Васятка, ты чего не спишь до каких пор? А ну!
Потом обратился к Анне Прохоровне, появившейся из-за занавески:
– Здравствуй, мать, умыться бы мне дала. Да перекусить чего-нибудь.
И лишь после этого вновь повернулся к Шаталову:
– Бубенцов?
– Дураком его назвать, – раздумчиво заговорил Иван Данилович, – не хочется. О вредности – и разговору быть не может. А поставил себя так, что двадцать шесть человек написали на него заявление. В райком просили передать. Тут третьего дня твой Бубенцов такой цирк устроил… На, почитай сам.
Шаталов достал из кармана большой, сложенный вчетверо лист и передал Торопчину.
– Все описано, как в календаре.
Но Иван Григорьевич не успел закончить чтение, как дверь широко распахнулась и вошел сам Бубенцов.
Увидав Шаталова, Федор Васильевич на секунду задержался у порога, но затем решительно подошел к столу и молча поздоровался за руку сначала с Торопчиным, потом с Шаталовым.
– Садись, Федор Васильевич, – сказал Торопчин и вновь углубился в чтение.
Бубенцов, почувствовав что-то неладное, насторожился. Подозрительно покосился на Шаталова, потом уставился на бумагу острым взглядом полуприщуренных глаз. А когда Торопчин кончил читать и аккуратно сложил заявление, сказал:
– Порви.
– Нет, зачем же, – ответил Иван Григорьевич. Встал, положил заявление на полочку под книги и сказал Бубенцову с горечью и укоризной: – Что же это ты, Федор, делаешь?
– Слушай, Ваня, очень я тебя прошу, – тоже негромко и, пожалуй, просительно, сказал Бубенцов, – Давай этот разговор сейчас отставим. Я ведь за трое суток, поверишь, гимнастерки не скидал. Умаялся.
– Я тоже. И многие так. Только это, Федор Васильевич, не оправдание.
Бубенцов ответил не сразу. Опять сердито покосился на Шаталова. Но тот внимательно рассматривал обложку книги, как будто разговор его совсем не интересовал.
– Ну, оправдывается пусть кто-нибудь другой, – вновь повернувшись к Торопчину, решительно заговорил Бубенцов. – А я… Вот закончу сев, как говорил, по району первым, тогда выяснится, кто тут прав, а кто виноват.
Торопчин долго глядел на небритое, осунувшееся за последние дни лицо Федора Васильевича, сказал уже строже:
– Видишь ли, товарищ Бубенцов, сев закончишь не ты, а колхоз. А разговаривать с тобой буду не я, а партия! Не хочешь здесь – хорошо, соберем бюро.
– Собирайте хоть весь райком! Я ничего не боюсь! – запальчиво выкрикнул Бубенцов.
– Так и тебя ведь никто не боится, Федор Васильевич, – внушительно вмешался в разговор Шаталов. – Грозен Семен, а боится Семена одна ворона. О том подумай – кто за твои безобразные поступки перед колхозниками будет отвечать?.. Ведь мы первые оказали тебе доверие.
Но увесистые слова Шаталова вызвали у Бубенцова реакцию, которой меньше всего ожидали его собеседники. Федор Васильевич неожиданно рассмеялся.
– Ловко! Как говорится, грех вместе и барыши пополам. Вот только теперь, Иван Данилович, я тебя понял. Знаешь, где ягоды! Еще и посеять не успели, а ты уж урожай подсчитал. То-то и пахать вышел сегодня. Молодец! Старайся… А вот тебя, – Бубенцов повернулся к Торопчину, – я никак не пойму. За кого заступаешься?.. За лодырей? А кто говорил, что все до одного на работу выйти должны?. Вот у меня и вышли. Впереди других чешут на поле. Погоди, еще и в стахановцы запишутся.
– Вот это да!.. – Торопчин тоже улыбнулся. Подсел ближе к Бубенцову и положил ему на плечо руку. Казалось, напряжение начало рассеиваться. – Слушай, Федор Васильевич, если ты прикидываешься дурачком, это мы быстро выправим. Но если ты рассуждаешь так серьезно… Дубиной лодыря в стахановца не превратишь. Ни-ког-да!.. Вот почитай выступление комбайнера Оськина…
– Так, так, – одобрительно пробасил Шаталов, – газетку почитать не мешает.
– В таком совете не нуждаюсь, – Бубенцов поднялся со скамьи, надвинул на голову фуражку. – Это вам надо газету держать поближе к глазам. Вот!
Он достал из кармана смятый газетный лист и, не развертывая, прочитал, видимо, заранее выбранные строки:
– «Первейшая, святая обязанность всех руководителей колхозов и совхозов – всеми мерами, – Федор Васильевич особенно выделил последние два слова и даже повторил их, – всеми мерами добиться проведения весенних посевных работ в кратчайший срок и на высоком агротехническом уровне…» Все понятно или повторить?
Ни Торопчин, ни Шаталов ничего не ответили. Вернее, Иван Григорьевич только было собрался сказать, но Бубенцов его предупредил:
– Слушай еще… «Каждый коммунист на селе должен всячески поддерживать председателей колхозов в деле внедрения самой жесткой трудовой дисциплины. В этом залог урожая…» Вот. А теперь собирайте бюро. Пусть все послушают!
Бубенцов с торжеством оглядел Торопчина и Шаталова.
Но если на лице Ивана Даниловича он увидел некоторую оторопелость, то совершенно иначе отнесся к услышанному Торопчин.
– Это хорошо, Федор Васильевич, что ты интересуешься тем, что пишут о нас и для нас. Очень хорошо, – сказал Иван Григорьевич с одобрительной улыбкой. – Только давай уж почитаем всю статью. А то ведь одна строка песни не делает.
Но Бубенцов уклонился.
– Завтра агитаторы будут читать газеты на поле. Сходите и послушайте. А у меня часы считанные, – сказал он и пошел. Но, уже взявшись за скобу двери, повернулся и добавил: – Слова ЦК нашего не забывайте. Надо на лодырей наступать яростно. В лепешку их разбивать, сукиных детей!
– Андрей Андреевич сказал не так, – поправил Бубенцова Торопчин. – Перевирать не годится.
– А я за слова не цепляюсь. Идея уж очень знаменитая, по душе мне пришлась. До свиданьица!
Хлопнула за Бубенцовым дверь, Торопчин и Шаталов взглянули друг на друга.
– Вот, брат, где она, арифметика! – опасливо забормотал явно сбитый с толку Иван Данилович. – Торговали кочета, а купили коршуна!
Глядя на оторопелое, с обмякшими усами лицо Шаталова, Торопчин не мог сдержать улыбки. Протянул неопределенно:
– Да-а… История.
И отошел к умывальнику.
Сполоснулся студеной колодезной водой. Принял от матери полотенце. И лишь тогда заговорил, крепко растирая жесткой холстинкой лицо и шею.
– Вот что, Иван Данилович, пожалуй, бюро мы собирать не будем.
– Какое там бюро! – охотно согласился Шаталов.
– Не время сейчас, – закончил свою мысль Торопчин. – Но соберемся! А еще лучше – обсудим поведение Бубенцова на открытом партийном собрании. Как ты думаешь?
– Смотри, как лучше. – Иван Данилович предпочел уклониться от прямого ответа. – Слышал ведь, как он режет. Подковался, видно, на все четыре ноги.
– Хорош! – Иван Григорьевич неожиданно для Шаталова рассмеялся. – Ну-ка, расскажи поподробнее, как это Федор у Елизаветы Кочетковой печь растапливал… Мать, ты слышала?
– Тут и глухой услышит, – накрывая стол и тоже улыбаясь, сказала Анна Прохоровна. – Об этом только и разговору второй день. Знаешь, ведь какая она, Елизавета. Муж, и тот у нее половицей не скрипнет. А тут… Пошла все-таки баба на поле!
– Скажи, пожалуйста! – изумился Иван Григорьевич.
– Это что! Парикмахер наш второй день ходит за бороной.
– Антон Ельников? – Торопчин, изумленный словами матери, вопросительно взглянул на Шаталова.
– Заходишь, – угрюмо подтвердил Иван Данилович. Он сидел красный, насупленный, не на шутку раздосадованный.
Торопчин расхохотался. Искренне, как не смеялся давно.
– А ведь молодец!.. Ей-богу, молодец Федор! Смотри, как всех мобилизовал.
– Так, – заговорил, наконец, Шаталов, сердито упершись острыми глазками в Ивана Григорьевича. – Значит, вы, товарищ Торопчин, одобряете такие ухватки председателя?
– Брось, Иван Данилович. – Улыбка сразу сошла с лица Торопчина, – Ну, зачем нам с тобой казенный разговор?
– Казенный?
– Да не цепляйся. Вот скажи по совести: разве не бывало с тобой так, – говоришь, говоришь иному человеку, убеждаешь его, а он как пень! А то еще назло дурачком прикидывается. И подумаешь: «Эх, врезать бы тебе, голубчику, по уху, чтобы не качалась голова!»
– Не понимаю такого разговора, – Шаталов даже обиделся.
– Не понимаешь? – Торопчин взглянул на Ивана Даниловича насмешливо. Очень хотелось сказать: врешь! И даже кое-что напомнить. Но сказал другое: – Ну, значит, ты кристальный человек. А я – нет. Не переношу я, понимаешь, в людях тупости и подхалимства! А эти «цветочки» в нашем саду еще не совсем завяли.
– Ну ладно.
Ивану Даниловичу разговор совсем разонравился. Даже непонятно ему было, почему вдруг Торопчин так заговорил. Он взял с подоконника фуражку.
– Пока до свиданьица. Завтра в четыре хотим начать. Мы ведь пахать взялись на пару с сыном.
– Молодцы! Вот и я хочу… Устаешь небось? – сочувственно спросил Торопчин.
– Ничего, нам не привыкать к работе.
Когда Шаталов вышел, Иван Григорьевич сел к столу и задумался. Вновь почувствовал сильную усталость.
– Вот, сынок, какой герой проживает у нас на селе. Приходи, сватья, любоваться! – сказала Анна Прохоровна, подавая на стол чугунок с картошкой.
– Да. Не простой человек Иван Данилович Шаталов, – ответил матери Торопчин, – Такого не скоро раскусишь.
– А и раскусишь, так не обрадуешься. Больше пустой орех в скорлупу идет. Хорошо Данилычу как-то отец твой сказал, Григорий Потапович. Вот за этим же столом они сидели. «Тебя, говорит, Иван, советская власть человеком сделала, а ты до сих пор работаешь на барина. Только теперь в бороде у тебя барин-то поселился. Отощал, паскудный стал, а любит, чтобы люди ему кланялись».








