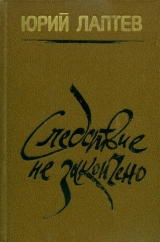
Текст книги "Следствие не закончено"
Автор книги: Юрий Лаптев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 49 страниц)
Ефим Григорьевич Чивилихин, моложавый для своих пятидесяти лет колхозник с приятным лицом, которое несколько портили неряшливая бородка и суетливые глазки, сидел за столом и ждал блинов. Его дочь, Настя, возилась у печи.
Потрескивали сосновые дрова, с язвительным шипением разливалось по горячей сковородке жидкое тесто, по избе распространялся вкусный масляный чад, распалявший аппетит Ефима Григорьевича. Глядя на неторопливые движения своей дочери, на ее раскрасневшееся от жара лицо, он вяло и не зло поругивался:
– Ну никакой в девке расторопности нет. Все бабы еще когда устряпались, а она до полдён отца морит голодом.
– Сами вы посылали меня за премией, – отозвалась Настя.
– Премия! – обиженно фыркнул Ефим Григорьевич. – Курам на подкормку. Лопатины-то сколько получили?
– Сорок четыре пуда зерна и двести семьдесят рублей деньгами.
– Прилично. А мне девять пудов и сорок рублей!
– Сорок пять.
– Не нуждаюсь!.. А все Егорка Головин: на собранье репьем закидал, паршивец!
Настя ничего не ответила, но, как показалось отцу, улыбнулась. Ефим Григорьевич возвысил голос:
– Ты об нем и думать прекрати!.. Слышишь?
– Щи кушать будете? – спросила Настя.
– Блины давай!
Подавая отцу блины, Настя машинально взглянула в окно. На ее лице появилось беспокойство. Всмотрелась пристальней, старательно пригладила распушившиеся волосы.
– Что ж это я про корову-то не вспомню, – озабоченно проговорила она и, накинув полушалок, поспешно вышла из избы.
В крытом дворе Настя встретила подходившего к крыльцу Егора Головина.
– Здравствуйте, Настасья Ефимовна, – поздоровался Егор.
– Ты что? – спросила Настя.
– Да все то же… Вот собрался поговорить с Ефимом Григорьевичем.
– О чем, интересно? – удивилась Настя.
Егор медлил с ответом, стоял и исподлобья смотрел на девушку. Но Настя догадалась сама, а догадавшись – испугалась. Заговорила встревоженным бормотком:
– Когда же ты это, Егор Васильевич, надумал-то, а?.. Да если бы я знала такое, я бы… И как это у вас, парней, быстро делается. – Говоря, Настя торопливо перебирала пальцами бахрому полушалка. Увидев, что у парня помрачнело лицо, закончила неожиданно: – Ну, чего стал?.. Проходи, коли так, в избу.
Встревоженно передохнула, повернулась и ушла, оставив дверь в сенцы приоткрытой.
Егор удивленно посмотрел вслед девушке, покосился на сверток, который держал под мышкой, и нерешительно поднялся на крыльцо. Охлопал веником снег с валенок. Уже входя в избу, он услышал сердитые слова Ефима Григорьевича:
– Девке замуж пора, а понятие о жизни – как у курицы.
Некоторое время Ефим Григорьевич и Егор Головин молча смотрели друг на друга. Потом Егор снял шапку и сказал:
– Приятного аппетита, Ефим Григорьевич. Здравствуйте.
– Милости просим, – не очень приветливо отозвался Чивилихин и стал накладывать себе сметаны.
Егор положил сверток на лавку, прикрыл его полушубком, затем, неловко ступая, подошел к столу и поздоровался с Ефимом Григорьевичем за руку.
– Ишь ты, вырядился как, – удивленно оглядывая Егора, заметил Ефим Григорьевич.
– Масленая на сегодняшний день, праздник.
– Разве? – Ефим Григорьевич с хитрецой скосил на Егора глазки. – А вот Никифоров вчера в правленье объяснял бабам, что этот праздник попы выдумали. Чтобы, значит, народ через блины бога вспоминал.
– Может, и так, – согласился Егор. – Однако, ежели бог в церквах не удержался, на блинах тоже, надо полагать, не усидит.
Настя, потупившись, поставила перед Егором тарелку, положила вилку и нож, сказала:
– Кушайте, Егор Васильевич.
– Спасибо, – отодвигая тарелку, сказал Егор и решительно взглянул на Чивилихина. – Я ведь к вам, Ефим Григорьевич, пришел по серьезному делу. С Настасьей Ефимовной у меня, правду сказать, еще настоящего разговору не было…
У Насти соскочила с чепка сковородка и заюлила по полу.
– Эка разиня! – сказал Ефим Григорьевич, сердито глядя на растерянное лицо дочери. Затем так же неодобрительно взглянул на Егора. – Подождать придется с разговором-то, товарищ Головин.
– Что так? – тихо спросил Головин.
– Наспех такое дело не решается. Да и… прямо тебе скажу, несамостоятельный ты человек, а сердит не по делу. Вот тот же случай: осрамил меня на отчетном собрании перед всем народом, а за что?.. Я, брат, не хуже других колхозников в делах-то разбираюсь, – Ефим Григорьевич стал с достоинством размазывать по блину сметану.
– Каждому так кажется, – пристально наблюдая за руками Чивилихина, сказал Егор.
– Вот и отец у тебя такой же был неприветливый. Бывало, придет бредень попросить или по другому какому делу, а сам обязательно к чему-нибудь прицепится.
– Отца моего ты по-дурному не поминай, товарищ Чивилихин! – Егор порывисто поднялся из-за стола. – Он за то, чтобы колхозники блины кушали, жизни не пожалел.
– Вон как! – Ефим Григорьевич задержал руку с блином. Удивленно взглянул на Егора. – Ну, коли так, прошу прощения, товарищ Головин, – и отправил блин в рот.
Настя, не поворачиваясь от печи, прислушивалась к разговору отца с Егором. Девушка старалась казаться равнодушной, но по тому, как неуверенно двигались ее обычно ловкие руки и беспокойно щурились глаза, видно было, что она сильно взволнована. Когда Егор вышел, Настя подала отцу еще блинов. Тарелку поставила на стол излишне резко.
– Ты не швыряй! – прикрикнул на дочь Ефим Григорьевич.
– Простите. – Настя отошла к печи, отерла фартуком распаленное жаром и волнением лицо.
– Какой жених выискался, а?.. При галстуке! – возмущенно заговорил Ефим Григорьевич. – И как это вы, девки, в людях не смыслите. Поманит какой-никакой, а вас будто сами ноги несут, и на родительский дом не оглянется… Видишь ведь, какой он колючий. А не видишь, так людей спроси, отца. От этого Егорки все матери дочерей прячут, родные сестры – и те сбежали не знай куда. Охальник!
– Не хуже других, – подгребая к шестку жар, сказала Настя.
– А ты лучше ищи! Вот как мать твоя – от четырех женихов отказалась, поскольку родители не присоветовали. Ну, и нашла подходящего. Все бабы по скольку лет без мужей маялись да писем с войны ждали, а Марья жила да жила в заботе, царство ей небесное.
Настя знала, что ее мать, когда-то признанная красавица Марья Жукова, вышла за Ефима Григорьевича по настоянию родителей в трудное время, когда все лучшие парни ушли на германскую войну, а Ефим Григорьевич, как белобилетник, остался дома. Знала также Настя и то, что жизнь ее матери не была счастливой. Очень хотелось девушке сказать сейчас об этом отцу, но она сдержалась. Разговаривая, Ефим Григорьевич не забывал о блинах, а насыщаясь, становился благодушнее. Закончил он свои наставления, как всегда, словами:
– Нет, не в меня, не в меня вы с Серегой пошли. Материна кровь.
На что Настя ответила отцу строго:
– Вы их не корите, батя. Мать упокойница, а от братца Сергея Ефимовича больше месяца письма нет. Жив ли, нет ли?
– Жив. Подкинь-ка еще на заедку горяченьких.
Но «еще горяченьких» Ефиму Григорьевичу покушать не удалось, помешал Антоша-письмоноша. Он принес две телеграммы.
Колхозники далекого сибирского села получали телеграммы не часто и почему-то больше с дурными вестями. Однако не успели Ефим Григорьевич и Настя испугаться, как письмоносец сказал:
– Поздравляю вас, товарищ Чивилихин. Первым человеком по району вы стали. Ба-альшое дело!
– Вот и главное, – сдавленным голосом отозвался Ефим Григорьевич и одеревеневшими от волнения руками развернул первую телеграмму.
Телеграмма была пространная – больше тридцати слов. В ней командование штаба Ленинградского военного округа поздравляло колхозника Ефима Чивилихина с тем, что его сын, младший командир Сергей Ефимович Чивилихин, за доблесть, проявленную на фронте, награжден высоким званием Героя Советского Союза. Однако смысл этого события дошел до Чивилихина не сразу.
Вторая телеграмма была от обкома партии, тоже с поздравлением.
– Покорно благодарим, – забормотал Ефим Григорьевич, обращаясь к письмоносцу.
– Не за что, – скромно отозвался тот. – Распишитесь в получении.
– Это можно. Почему же не расписаться, раз полагается. Мы, как говорится, всецело на страже… Наська! Сережка-то герой оказался!
Ефим Григорьевич бесцельно крутанулся по избе, как сытый телок по загону, затем сорвал с гвоздя шапку и опрометью кинулся к двери.
– Батя! – крикнула Настя и, схватив полушубок, выскочила за отцом.
– Расстроились, – вздохнул письмоноша. – Оно, конечно, дело непривычное.
Настя догнала отца уже за воротами.
– Это же надо выдумать, – бормотал Ефим Григорьевич, просовывая одну руку в рукав полушубка, а другую – с телеграммами – держа на отлете.
Потом Настя видела, как отец выскочил на середину улицы. Побежал в одну сторону, затем круто повернул, хотел податься в другую. Остановился и, переминаясь с ноги на ногу, начал перечитывать телеграммы. Около него задержались две женщины, возвращавшиеся от колодца…
– Сын-то у меня… в герои махнул! – обратился к женщинам Ефим Григорьевич.
– Сережка? – недоверчиво спросила одна из женщин.
– Был Сережка, а теперь… вроде Чкалова стал! – Чивилихин хохотнул и потряс телеграммами.
– О! – Женщины обомлели.
Настя вернулась в избу. Скинула в бадейку подгоревший блин, сказала письмоноше:
– Раздевайтесь, Антон Федорович, и садитесь блины кушать. Прошу вас.
– Благодарю. – Письмоносец снял дубленку и пошел к умывальнику. Настя подала ему чистое полотенце. Взволнованная разговором отца с Егором Головиным, она вначале отнеслась к известию о награждении брата почти равнодушно. И только теперь до ее сознания стало доходить то, что произошло в их семье.
– Вот она, как жизнь-то может обернуться, Настасья Ефимовна, – многозначительно произнес письмоносец. – Могли разве вы с папашей мечтать о таком явлении? Герой Советского Союза – первый человек! Ай-яй-яй!..
3Ефим Григорьевич метался по деревне, как весенний грач над осиновой рощей. Куда бы он ни забегал, везде его уже ждали и сразу сажали за стол на почетное место. Затем Ефим Григорьевич читал вслух телеграммы. Слова «штаб Ленинградского военного округа», «обком партии» и «Герой Советского Союза» он произносил бережно, вполголоса. Потом все смотрели на Ефима Григорьевича с удивлением, а ему очень трудно было держать приличествующий моменту вид. Несмотря на то, что в каждой избе Ефима Григорьевича старались угостить, он нигде подолгу не задерживался. Никто его за это не осуждал, потому что все понимали, что человеку в таком состоянии усидеть на одном месте трудно.
Вскоре к Чивилихину пристроились два почитателя, которые полагали своей прямой обязанностью сопровождать его. Один из них, никудышный колхозник Андрей Бунцов, сказал Ефиму Григорьевичу:
– Тебе, брат, тоже должны почетную бумагу прислать.
– Да ну? – радостно изумился Ефим Григорьевич.
– Ясное дело, – поддакнул колхозный счетовод Алексей Глухих, мужчина щуплый, длинноносый, завистливый. – Кто Серегу кормил, поил, воспитывал?
Однако, когда Чивилихин зашел в избу «партийного секретаря» Ивана Анисимовича Никифорова, орденоносца и героя гражданской войны, спутники остались ждать его у ворот.
У Никифорова сидел председатель колхоза Борис Сунцов. Они оба поднялись навстречу Ефиму Григорьевичу и пожали ему руку. Потом Никифоров неторопливо прочел обе телеграммы, бережно их сложил, передал владельцу и сказал:
– Да, всей нашей Новожиловке Сергей Ефимович радость принес. Напиши ему от всех колхозников спасибо. И из райкома звонил Коржев, тоже тебя поздравляет.
И только одно происшествие несколько омрачило настроение Ефима Григорьевича: когда Чивилихин с двумя спутниками пересекал улицу, он на середине встретил Егора. Парень шел на лыжах с карабином, перекинутым через плечо. Сбоку послушно трусила лайка. Ефим Григорьевич прошел было мимо. Но потом, не сдержавшись, обернулся и окликнул Егора:
– Эй ты, крытик!
Егор задержался, взглянул на Чивилихина через плечо.
– Не уважаешь меня, значит? – хитро подмигнув спутникам, спросил Ефим Григорьевич.
– Так ведь ни к чему оно вам, мое уважение.
Ефим Григорьевич подошел к Егору, протянул ему телеграммы, произнес торжествующе:
– А на такую идею что скажешь?
Егор прочитал телеграммы. Взглянул на преисполненное гордости лицо Чивилихина.
– Поздравляю в таком разе. Подвезло вам.
– Подвезло?! – сердито изумился Ефим Григорьевич. – Ты, парень, думай, о чем говоришь. Вот ты там был?
– Был.
– Чего ж тебе не подвезло?
Широкоскулое, лобастое лицо Егора стало насмешливым. И так же насмешливо прозвучал вопрос:
– А вы, папаня, там были?
Чивилихин несколько опешил, но быстро оправился.
– Это все единственно. Кто Серегу поил, кормил, воспитывал?
– Советская власть и Красная Армия, – уже с явной насмешкой глядя в лицо Ефима Григорьевича, ответил Егор. И добавил: – Только и Сергея Ефимовича, как и меня, могло в первом бою из строя вывести. Рядом мы шли.
– Поп тоже рядом с богом ходит, а на него не молятся! – отпарировал Чивилихин.
Его спутники захохотали, а Бунцов подтвердил:
– Вот именно.
Егор посуровел. Поправил на плече ремень карабина и сказал, глядя мимо лица Ефима Григорьевича:
– А попадья и вовсе дома сидит, а любит, чтобы все ей кланялись.
– Ты это к чему? – уже не на шутку озлившись, спросил Ефим Григорьевич.
– Да все к тому же. Бабий у вас характер, товарищ Чивилихин. Не в сына задались.
Егор повернулся и пошел в сторону. Ефим Григорьевич некоторое время остолбенело глядел ему вслед. Потом заорал:
– Арестант! К Наське притулиться хочешь. Вот! – и показал вслед парню кукиш.
– А что мне тулиться, – не поворачиваясь, отозвался Егор. – Сама придет.
4Настю все больше и больше радовало известие. Она сняла со стены карточку и долго рассматривала лицо брата. Потом перевела взгляд на второго парня, с которым снялся Сергей Чивилихин. Это был Егор Головин. Два красноармейца были сняты на фоне субтропического пейзажа с лебедями и колоннами. Настя сокрушенно вздохнула, вполголоса спела частушку:
Снился милый мне во сне
В полной форме на коне,
Два дня не просыпалася,
Очень любовалася…
Повесила карточку, глянула в окно и начала заметать в избе.
Заметая под лавкой, Настя натолкнулась на оставленный Егором сверток. Развернула и сначала очень удивилась. Потом догадалась, вспыхнула девичьим смущением и прижала полушалок к зардевшемуся лицу. Долго стояла так.
Под окном заскрипел под ногами снег, зазвучали голоса. Настя отняла от лица полушалок, поспешно спрятала его под фартук. Выглянула в окно. У избы стояли парни, стояли не зря. Девушка смутилась, взглянула на себя в обрамленное расшитым рушником зеркало.
Настю нельзя было назвать красавицей: круглое лицо, веснушки, и нос вздернут больше, чем допустимо для красивого лица. Но стоит Насте улыбнуться – и желтоватой кипенью блеснут подковки зубов, словно выточенные из слоновой кости, переливчатыми становятся под густыми козырьками ресниц глаза, а на смуглых щеках заиграют притягательные ямочки.
Смотрел бы да смотрел!
А по-настоящему красивыми в Новожиловке считались сестры Любовь и Надежда Шураковы, и парни обычно подолгу разговаривали около их избы. Разговаривали больше о войне, но девушкам все равно было лестно. А сейчас под окном Насти парни завели длинный разговор о ее брате.
– Ведь мы с Серегой чивилихинским в одногод семилетку кончали, а? – недоумевал гармонист Костюнька Овчинников, то и дело поправляя сползавший с плеча ремень гармоники.
– Да, был Серега, а стал полный Сергей Ефимович, – не без зависти сказал другой парень, сдвигая на затылок шляпу. – Ведь думали и мы с Игнашкой Седых добровольно на фронт податься, уж заявление сложили, так нет, мать сбила: «А то, говорит, без вас там войска не хватит».
– Молчи уж, – насмешливо протянул Овчинников. – Вам с Игнашкой самое большое на двоих одну медаль выписали бы, да и то… Вон Егор Головин – не вам чета! – а вместо награды схватил пулю.
– Да, Егора жалко, – поддакнули Костюньке. – И поранило его не ко времени, и… Настасья-то теперь, пожалуй, подумает.
– Очень просто.
Проходящая мимо соседка Чивилихиных Анна Ложкина замедлила шаги, прислушалась. И хотя торопилась в магазин, зашла к Насте сообщить об услышанном. От себя добавила:
– Теперь все парни о брате говорят, а сестру в уме держат. Хоть кому.
– Радость какая! – сказала Настя.
– Вот именно… В город поедешь?
– Чего я там не видала? – Настя недоуменно взглянула в лицо соседки, выражавшее простодушное любопытство.
– К брату!.. Он теперь небось с лейтенантами дружит.
– Ну и что?
– О!.. О!.. Сестра ты Сергею Ефимовичу или нет?
Настя ничего не ответила. С сердцем шуганула кошку.
– Ефиму Григорьевичу-то радость какая, – сокрушенно вздохнула Анна. – Прямо не знает человек, куда податься.
Пришла еще одна женщина, с другой окраины села, – Василиса Бунцова. С деланным сочувствием сообщила, что Ефим Григорьевич сказал председателю, что и ему награду должны дать. И хотя фразу эту сказал не Ефим Григорьевич, а муж Василисы, но Настя этого не знала. Девушке стало стыдно за отца, и она сказала:
– А вы бы, Василиса Никоновна, эти слова не повторяли. В шутку ведь такое говорится.
Под окном рассыпчатым перебором зазвучала гармонь.
– Вызывают! – кивнула на окно Василиса и добавила: – Шураковские-то девки небось злятся. Теперь им до тебя далеко.
– А куда я переехала?
Потом пришли две сестры Шураковы – Любовь и Надежда. Совсем не похожие одна на другую, обе красивые. Расцеловались с Настей, похвалили кофточку и «между прочим» рассказали, что «Ефим Григорьевич чуть было не подрался с Егором Головиным». Передали шепотком Насте и последнюю фразу Егора «сама придет», от себя добавив только три словечка: «Не таких видали!»
– Долго ждать придется, – равнодушно сказала Настя и вышла из избы.
– Как воображают о себе люди! – вздохнула вслед Насте Василиса Бунцова, женщина сырая, неудачливая, скучно прожившая жизнь.
Настя вышла в полумрак крытого двора. От сенника к ней метнулась легкая девичья фигура. Настя присмотрелась, спросила удивленно:
– Клаша, ты?
– Я, Настасья Ефимовна.
– Чего же в избу-то не заходишь?
– Да у тебя небось бабы?
– Ну-к что ж.
Тут только Настя заметила не просохшие от слез глаза подруги, подрагивающий подбородок.
– Ты что, Клаша, не в себе будто?
У Клаши вновь покатились слезы. Она сказала, стараясь не расплакаться сильнее:
– Сергея Ефимовича-то наградили как. О господи! – неожиданно припала к Насте, уткнулась лицом в ее плечо.
Настя не сразу нашлась что сказать. Бережно обняла подругу. Некоторое время девушки постояли молча. Потом Настя зябко повела плечами, спросила:
– Писал он тебе?
– Давно. В последний раз махонькое письмецо прислал. А теперь и вовсе не напишет.
Клавдия отстранилась от Насти, утерла глаза концом пухового платка, как-то по-старушечьи горестно покивала головой и вдруг зашептала торопливо и испуганно, оглядываясь то на сени, то на ворота:
– Не к добру, видно, я во сне телка вашего видела. Будто подошел к окну и стекло лижет, а язык белый-белый, как холстина. Потом глянул на меня, реванул да как побежит!.. Я за ним, а он от меня. И к лесу…
– Суеверные глупости! – строго сказала Настя. – Вернется Сергей Ефимович и опять с тобой гулять будет. Даже смешно.
– Кабы так.
Клавдия настороженно перевела дыхание. Потом взглянула на Настю по-иному, с простодушной хитрецой.
– Говорят, Егор Васильевич к вам сегодня приходил?
– Был, наверное, раз люди видели.
– Удивление. Чего ж это он?
– А кто его знает. – Настя безразлично отвела взгляд. Увидела лежавшее у крыльца полено, подняла и отбросила в сторонку.
– Разговору-то не было? – уже с явным любопытством спросила Клавдия.
– О чем?
– С Ефимом Григорьевичем. И вообще…
– Какой же может быть разговор? – Настя зябко поежилась. – Ну, пойдем, Клавдия, в избу, а то задрогла я.
– Нет, нет. Я лучше потом забегу. – Клаша заправила под платок выбившуюся прядь волос. Спросила деловито: – Гулять-то вечером выйдешь?
– А ты?
– Вместе если.
– Дело покажет. До вечера-то еще жить да жить, – рассудительно сказала Настя.
Клавдия пошла. У калитки задержалась, взглянула на подругу через плечо, сказала многозначительно:
– Ты теперь построже с ним будь, с Егором, лишка не позволяй. Пусть поухаживает, как полагается.
5Егор уходил на лыжах в тайгу. Шел машисто, не выбирая дороги, обходя только бурелом да пригибаясь под низкими разлапинами кедров. Кружившая по сторонам лайка временами тонко и отрывисто подавала голос то на звериный след, то на осыпающую с ветвей снег белку. К ее удивлению, хозяин ничего не замечал. Тогда собака забегала вперед и, поджидая Егора, вопросительно смотрела ему в лицо, разметая пушистым хвостом снег. Обычно цепкий, настороженный взгляд охотника сегодня стал вялым и беспокойным, как у человека, который куда-то спешит, будучи уверенным, что все равно опоздает. Иногда Егор что-то бормотал невнятно и недовольно, задерживал шаг, как бы собираясь повернуть вспять, и вновь устремлялся вперед, через чащобы и прогалины.
События дня выбили Егора из состояния уверенности, обычно присущего этому сильному и упрямому парню. И особенно поразила весть о награждении Сергея Чивилихина. «Сережка Чивиленок – и вдруг Герой Советского Союза!» Тот самый неторопливый и застенчивый паренек, которого Егор в юные годы нещадно тузил, как, впрочем, и всех своих сверстников, и который, когда они из подлетков стали парнями, почтительно дружил с Егором, навлекая этим на себя неудовольствие Ефима Григорьевича. Правда, Егор Головин и вообще пользовался среди взрослого населения села нелестной репутацией. Вспыльчивый и упрямый, непочтительный к старшим, зачинщик почти всех драк и озорства, он доставлял много хлопот отцам и матерям и немало огорчений своим сверстникам, втайне уважавшим Егора за силу, прямоту и товарищескую неподкупность.
А у Ефима Григорьевича Чивилихина, помимо этого, были с Егором свои особые счеты – неудачное для Ефима Григорьевича увлечение вдовой Антонидой Козыревой.
До появления в Новожиловке Антонида жила в районном центре со своим мужем портным, помогая ему в работе. А после смерти тщедушного супруга, умершего, как говорили завистницы, от «шибко веселой жены», а по заключению врачей, от детской болезни – коклюша, переехала в село Новожиловку к сестре, в семью соседа Чивилихина Кирилла Ложкина. Занималась Антонида тем, что обшивала сельских модниц по московским картинкам, и, хотя всем угождала работой, особым уважением среди женского населения деревни не пользовалась. Многие молодые женщины и девушки недолюбливали невысокую, но проворную и складную хохотушку Антониду, втайне завидуя ее уменью одеваться и держать себя на людях. А держать себя Антонида умела! Недаром парни да и семейные мужики не прочь были пошутить с веселой вдовушкой, а при подходящем случае – и уединиться, что, впрочем, до поры никому не удавалось. Не избег обаяния Антониды и Ефим Григорьевич, мужчина еще не старый, обходительный, да и вдовый к тому же. Однако на все прозрачные намеки Чивилихина Антонида отвечала шуточками:
– Портной – образованный человек, и тот моей красоты не выдержал, где уж вам…
Ефим Григорьевич обижался, уходил, не оглядываясь, но через некоторое время снова шел навестить Кирилла Ложкина, выбирая время, когда того не было дома. И опять завлекательный разговор кончала неделикатная фраза Антониды:
– У вас вон дочь невеста, скоро женихи под окнами у Настёнки траву топтать будут, а я до парней женщина ласковая. Ладу в доме не будет.
А вот Егора Головина Антонида приметила почти сразу по приезде в деревню. Рослый, крутоплечий, диковатый парень уже в семнадцать лет обогнал физическим развитием не только своих сверстников, но и взрослых мужчин. Подручный кузнеца, прекрасный стрелок и неутомимый таежник – он жил независимо, никому не кланяясь и никого не боясь. А женщин Егор в то время, по свойству своего характера, обходил сторонкой.
Вскоре при редких встречах с Егором Антонида стала чувствовать сладостное томление, а в голове начали появляться грешные мысли. Но парень не замечал притягательных взглядов молодой вдовы, а иногда проходил мимо, даже не кланяясь. Так было до того дня, когда Егор приволок из тайги убитого им матерого волка и на полученную премию гульнул с приятелями. В тот вечер Антонида решилась окончательно; кутаясь от нескромных взоров в пушистую шаль, пришла к Егору в холостяцкую избу приторговать на воротник лису. Была уверена, что купит, и потому для магарыча захватила с собой бутылку водки.
А ушла на другое утро, ни от кого не таясь, перекинув через плечо пламенеющую на солнце шкуру лисицы.
Многие женщины этому происшествию обрадовались: «Не будет теперь бесстыжая чужих мужей привечать!» Некоторые парни завистливо похохатывали, между девушками произошел негласный сговор против Егора, а Ефим Григорьевич Чивилихин с горя и обиды гулял два дня и на крик поссорился со своим сыном Сергеем, когда тот заступился за дружка. А с Егором и Антонидой Ефим Григорьевич с того дня перестал раскланиваться и начал распускать про них различные нелепые слухи, уверяя всех, что «Егор вдову бьет и обирает начисто». Народ изумлялся, хотя и не особенно этому верил. «Оберешь такую, как же. Антонидка, брат, сама из стакана пшена полный чугун каши наварит».
И только когда Егор ушел на военную службу, Ефим Григорьевич вновь возмечтал и, выждав для приличия недельку, пришел навестить по-соседски снова оставшуюся одинокой вдову. Однако нарвался на такой прием, что несколько дней ходил взъерошенный, как воробей, чудом вырвавшийся из лап кошки. Антонида припомнила Чивилихину все его домыслы и изругала последними словами:
– Гляди, гляди, – обрадовался, суслик старый!.. Да мне и смотреть на тебя противно и слушать язык твой сорочий. Тьфу! А на месте Егора Васильевича я бы всю твою мусорную бороденку повыдергала. Фармазон!
После таких речей, особенно последнего, непонятного Ефиму Григорьевичу слова «фармазон», ему стало ясно, что вдова недосягаема. Время остудило чувство, но обида и неприязнь остались. И хотя Ефим Григорьевич, как и все в деревне, видел, что Егор Головин вернулся после фронта на село уже не тем озорным парнем, каким два года тому назад ушел в армию, своего отношения к Егору Чивилихин не изменил.
Очень сильно повлияла на Головина служба в армии. Правда, первое время ему пришлось туговато. Дисциплина, строгий распорядок дня и беспрекословное послушание сначала пришлись своенравному парню не по душе, и немало взысканий получил он за первые месяцы службы, пока им не занялся вплотную младший политрук Завьялов.
– Слушай, товарищ Головин, – спросил как-то Завьялов Егора, – чего ты такой?
– Какой? – Егор насторожился.
– Вроде ежака – шершавый.
– Мамашу спроси – для какой цели уродила такого?
Егору разговор был неприятен, и, чтобы скрыть свое неудовольствие, он с повышенным старанием стал протирать концами пряжи затвор винтовки.
Завьялов некоторое время с сочувствием рассматривал хмурое лицо Егора, его плечистую, неподатливую фигуру. Потом сказал с улыбкой:
– А ведь, пожалуй, про тебя это частушку сложили: «Меня маменька рожала, вся деревенька дрожала».
Егор промолчал. Прищурившись, проверил на свет нарезной ствол винтовки.
– Вот если бы ты горбатым родился, – снова заговорил Завьялов, – ну, тогда, конечно, исправить было бы трудновато, а то… Что ж, ты не хозяин своему характеру, что ли?.. Со стороны даже обидно. По физической и строевой подготовке – отличник, на стрельбище – кладешь пули аккуратно, словно пуговицы пришиваешь, теорию тоже усваиваешь без нажима, а вот… в ответственное, боевое поручение я бы тебя не послал.
Егор повернулся. В упор взглянул в худощавое, простодушное, насмешливое лицо Завьялова, присыпанное веснушками.
– А вы пробовали?
– Боевые поручения не для пробы даются, а для исполнения, – серьезно ответил Завьялов. – А если у бойца дисциплина хромает – полного доверия к нему нет! Неслаженный человек. Вот возьми винтовку: нажимаешь на спуск и знаешь, что она но подведет, приказание бойца выполнит беспрекословно и пулю пошлет куда надо. Поэтому про нашу русскую винтовочку и песен немало сложено. Я это тебе почему говорю? – Завьялов опять улыбнулся, положил руку Егору на бугристое плечо. – Нравятся мне ваши ребята, сибиряки! Сильный народ и строгий.
Этот разговор и дальнейшие беседы с младшим политруком не прошли для Егора бесследно. Также влияла на него и дружба с Сергеем Чивилихиным. Всегда спокойный и добродушный, немного мешковатый, Сергей казался полной противоположностью Егору. Глядя на них, Завьялов шутил:
– Друзья-то вы друзья, а вот характерами друг с другом поделиться, видно, не хотите. А помогло бы обоим.
Обычно на такие слова политрука Сергей отвечал невозмутимо:
– Хорошо бы карасю да щучьи зубы…
Однако Сергей Чивилихин, относившийся к Егору Головину с детских лет с почтением, недооценивал себя. Правда, по строевой подготовке он вначале отставал от Егора, но, благодаря своему трудолюбию и упорству, по второму году службы начал догонять своего дружка, а по теории и политподготовке даже оставил позади. Именно поэтому Сергея Чивилихина, а не Егора Головина командир роты дважды поставил в пример остальным бойцам. И так же незаметно Сергей перестал смотреть на Егора снизу вверх, что, впрочем, только укрепило их дружбу. Сергей часто получал письма из дому, от Насти, и оба дружка по нескольку раз перечитывали их, вспоминая родные места и подробно обсуждая незначительные деревенские новости. В каждом письме Настя не забывала приписать низкий поклон Егору, и это почему-то заставляло его испытывать некоторую неловкость перед другом. А когда пришла из далекой Сибири посылочка, в которую Настя вложила и для Егора теплые рукавицы, Егор растерялся, как сельский паренек, которому незнакомый городской человек подарил пряник. Но Сергей будто и не заметил смущения друга. Сказал простодушно:
– Молодец сестричка! Взял бы ты ее за себя, Егор Васильевич, свояками стали бы!
– Да что вы, Сергей Ефимович! – Егор, оторопев от неожиданности, даже назвал своего друга на «вы» и полным именем.
– А что? Хоть и не годится родней хвастать, а я Настасью похвалю: послушная и по хозяйству способная. Вроде моей Клаши.
– Что Настасья Ефимовна хорошая – слов нет, да я-то какой?
В первый раз самолюбивый Егор не побоялся унизить себя в глазах друга. Но не унизил.
– Побольше бы таких, – ответил Сергей.
Для Сергея этот разговор прошел между прочим, он и сам не придал особенного значения своим словам, зато Егор долго ходил притихший и задумчивый. А когда увидел, что Чивилихин сел в красном уголке писать письмо, бочком подобрался к нему и сказал не очень внятно:
– От меня припиши поклон Настасье Ефимовне.
– А я в каждом письме приписываю, – улыбнулся Сергей.








