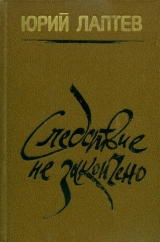
Текст книги "Следствие не закончено"
Автор книги: Юрий Лаптев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 49 страниц)
Следствие не закончено
МИХАИЛ И МИТЬКА
Роман
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ1
Хотя отношения между ними были выяснены предостаточно, оба – Михаил Громов и Катюша Добродеева – в это утро словно бы стеснялись друг друга. Девушка стояла перед приемником, крепко сцепив под подбородком пальцы рук, и чуть ли не благоговейно слушала литературную передачу из Москвы, а Михаил сидел в другом конце комнаты с газетой и, казалось, усердно вчитывался в статью «Качественная обработка паров – залог урожая!».
…Поступь нежная, легкий стан,
Если б знала ты сердцем упорным,
Как умеет любить хулиган,
Как умеет он быть покорным…
Может быть, сказывалось настроение, но распаренный вдохновением баритон далекого чтеца все больше волновал Катюшу.
– Какие слова!
– Предположим, хулиган – словечко тухловатое, – не отрывая взгляда от газеты, отозвался Михаил.
…Я б навеки пошел за тобой
Хоть в свои, хоть в чужие дали…
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить…
Громов неожиданно для Катюши рассмеялся:
– Вовремя перекантовался лирик!
Такое отношение возмутило Катюшу.
– И не стыдно?
«На этом мы заканчиваем передачу, посвященную одному из любимейших молодежью поэтов – Сергею Есенину», – возвестил диктор.
– Ага, слышал, скептик несчастный! – торжествующе произнесла Катюша. – Любимейший поэт молодежи!
Однако и этот довод не подействовал на Михаила.
– А что ж она – вся под один стих причесана, как пишется, наша замечательная советская молодежь? Да и поэтов сейчас расплодилось. Мы как-то тех же Сергеев, кроме Есенина, насчитывали полный десяток: Михалков, Васильев, Смирнов, Орлов, Наровчатов, Островой… Или вот, – Михаил перевернул газетный лист, – еще один одаренный Серёнька объявился, некий Черенков. Машистый, видать, стихоплет: в одном опусе увековечил всех космонавтов. По четыре строки на брата!
– Ми-иша!.. Ну как ты можешь газетные стишки какого-то Черепкова…
– Не Черепкова, а Черенкова! И рифма, заметь, притертая: Вера – Венера, космическая мгла и невесомые тела. Да вот послушай…
– Не хочу!
Катюша обиженно отвернулась и пошла к двери, ведущей на террасу.
– Катюша, подожди! Неужто и пошутить нельзя? – Михаил догнал девушку, обнял за плечи.
– Ну, почему вы все… – Катюша обиженно отстранилась от парня.
– Что?
– «Поступь нежная, легкий стан! Если б знала ты сердцем упорным…» А вот ты никогда не говорил мне таких слов. И вообще мне иногда кажется…
Хотя Катюша снова не договорила, Михаил догадался, поэтому заговорил обидчиво:
– Во-первых, Екатерина Кузьминична, прежде чем мы с вами… второго мая это произошло…
– Запомнил все-таки!
– Все-таки! Да ведь до того вечера я целую зиму маячил по Фалалеевой протоке, вдоль вашего забора: тридцать два шага от угла до калитки, тридцать два – обратно. Как Зарецкий. А к тебе даже подойти не решался, не то чтобы высказать красивые слова. Но знал твердо: не отступлю!.. А вот Павлику Пристроеву – любимчику твоей благочестивой тети – я… высказал! Да я бы из этого пуделя белоглазого всю душу вытряс!
Хотя Громов говорил сердито, Катюше его слова понравились.
– Ты такой!
– Какой?
– Ох и напористый ты, Мишка!.. И правильно написал о тебе тот журналист бородатый: такие комсомольцы, как Михаил Громов, вступают в коммунизм, как молодые хозяева заходят в не достроенный еще дом, чтобы осмотреться!.. Я эту статью вырезала. И твой портрет.
– Стоило того: аллилуйщик он – твой борзописец бородатый. В ботву, видать, пошел.
– Не надо!
Катюша нерешительно приблизилась к Михаилу, обняла его, заговорила негромко, почти шепотом:
– Миша… Мишка! Мишенька!.. До сих пор не могу поверить, что скоро… Знакомьтесь, пожалуйста, – это мой муж. Муж! Даже смешно. Только… Ну что мне делать с твоими волосами!
Катюша достала из кармана пиджака Громова расческу.
– Да нагнись же!.. Вот и характер у тебя такой же.
– А точнее?
– Фу! Никак не расчешешь…
И, очевидно, желая задобрить неподатливую шевелюру, Катюша звонко чмокнула парня в щеку.
2
Хотя день был субботний, Кузьма Петрович Добродеев успел спозаранку побывать у себя в «Сельхозтехнике». И в райком наведался. А по пути к дому как бы мимоходом завернул в «боковушку» продовольственного магазина к Антониде Тихоновне Малининой – благодушной упитанной женщине, которой кто-то из местных остряков присвоил кличку «Антих с малиной». Здесь Кузьму Петровича уже ожидал сверток стоимостью в двадцать шесть рублей сорок копеек: две бутылки армянского коньяку, килограмм копченой колбаски, шоколадный набор.
С булькающей покупкой под мышкой, в отличном настроении пришагал Добродеев в особнячок, что приютился на углу улицы Дружбы народов и Фалалеевой протоки – узенькой и тенистой, неровно замощенной булыжником улочки, сбегавшей вдоль дачных участков к купальням и городским пристаням.
– Н-но и денек сегодня: с утра двадцать восемь градусов, и все выше нуля! – весело заговорил Кузьма Петрович, заходя через террасу в комнату. – О, да у дочурки, оказывается, ранний гость! Привет, привет передовой молодежи!
Кузьма Петрович привычно поцеловал дочь, здороваясь с Михаилом Громовым, задержал его руку в своей.
– Так вот он каков – свежеотмеченный бригадир Громов. В газете-то вы постарше выглядите. И побрюнетистей.
– А разве вы меня только в газете видели, Кузьма Петрович!
– Видеть – одно, приметить – другое. Живой пример: дочка моя, Екатерина Кузьминична, каждый день видит предостаточно молодых людей, а приметила, как выяснилось, только одного. Зато самого кучерявого.
– Папаша, – смущенно произнесла Катюша.
– Ну, ну, дело житейское.
Добродеев подошел к дочери, обнял ее, заговорил, обращаясь к Громову:
– Приветливая она у меня, в мать пошла характером, светлая память Марфуше. Не то что сынок, Андрей Кузьмич наш…
Полное, не по годам моложавое лицо Кузьмы Петровича утеряло благодушие, недовольно сощурились глаза.
– Впрочем, если не ошибаюсь, Михаил…
– Иванович, – подсказала Катюша.
– Хорошо – полный тезка Калинину. Помнится, дочка говорила, что и у вас с родителями вашими что-то…
Кузьма Петрович, не договорив, испытующе уставился в лицо Громова.
– Да. Было, – сказал Михаил.
– Что именно?
– Мой отец, Иван Алексеевич Громов…
Михаил напряженно замолчал.
– Он генерал – Мишин папа, – попыталась прийти. Михаилу на помощь Катюша. – И ветеран: в трех войнах участвовал!
– Вот как?.. Это похвально, – одобрил Кузьма Петрович. Правда, не очень кстати, потому что…
– А мы с отцом… расстались! – решительно и, пожалуй, вызывающе сказал Михаил. Помолчал и добавил уже тише: – И из университета меня отчислили тогда же. В шестьдесят седьмом году это произошло.
– Так, так, так, – несколько обескураженный таким самоуничижительным признанием, затакал Кузьма Петрович.
– Ничего страшного, – снова попыталась разрядить возникшую натянутость Катюша. – В прошлом году Миша опять стал студентом: только не Московского, а Казанского университета. Заочником. Он будет юристом.
– Юристом? – удивленно переспросил Добродеев.
– Вам, Кузьма Петрович, это не нравится? – напряженно передохнув, спросил Михаил.
– Незаметная профессия: что юрист, что экономист. Для одышливых людей.
– Я не про то.
– Видите ли, Михаил Иванович, – после небольшой паузы наставительно заговорил Кузьма Петрович. – С Иваном Алексеевичем Громовым я не имею счастья быть знакомым. Да и причины вашей размолвки мне неясны. Но я тоже – отец. Отец!.. А некоторые молодые люди – родитель слово, а сынок или дочка в ответ десять слов. Да каких! Вот над чем всем нам надлежит крепко задуматься. Ведь, если говорить откровенно, пожалуй, легче будет нашим ученым целиком хор Пятницкого в космос подбросить для культурной связи с марсианами или венерянами, чем… Эх, и цепкое слово – пережитки! И удобное, кстати сказать: есть на что списывать собственные огрехи. А вообще… Сорняк ведь чем силен: знает, паразит, что на земле советской ему пощады не будет, так он под землей укрылся. В корень пошел.
– Значит, с корнем вырвем! – упрямо пригнув вихрасто-лобастую голову, сказал Михаил. – Как кулака. Тоже ведь кое-кому казался несокрушимым.
– Не кое-кому, а всей крестьянской матушке России! – Добродеев внушительно откашлялся. – Это времечко я твердо запомнил: меня тогда в Старобельский район забросили – налаживать светлую жизнь. А кулачье… Трое суток, поверите ли, отсиживался в погребище у одной солдатской вдовы. Отзывчивая такая была женщина – Екатерина Васильевна Прянишникова. Сейчас, заметьте, депутат Верховного. В честь ее я и дочери своей имя определил.
– Имя хорошее – Екатерина.
– Угодил, значит, будущему прокурору? – спросил Кузьма Петрович, как показалось Громову, с подкусом.
– Почему – прокурору?
– Самая гуманная должность в нашем социалистическом обществе. Оздоровитель! А вы, видать, хлопец настойчивый, и по работе и… уж если мою царевну-недотрогу сумел приручить…
– Папаша! – воскликнула Катюша.
– Есть папаша. Только этому папаше обидно.
– Что именно? – спросил Громов.
– Как-то не по-людски у теперешних невест да женихов все делается. Наспех. Семья – дорога длинная, ухабистая. А у нас девица венчаться идет, словно тапочки купить или путевку на курорт выправить. И в дальнейшем… Ну, хорошо, что у дочери Кузьмы Добродеева есть свой угол площадью восемнадцать метров…
– Я тоже не бездомный, Кузьма Петрович! – Слова Михаила снова прозвучали вызывающе.
– Тоже, а не похоже. Конечно, с милым не только за ширмочкой в общежитии, а как в давнее время шутили – и в шалаше рай, но… Хорошо у Алексея Максимовича где-то сказано: верую в бога, но предпочитаю коньяк!
– Не знаю, как было в давнее время, – уже совсем непочтительно возразил Добродееву Михаил, – а сейчас… Для кого, по-вашему, уже отделываются два четырехэтажных «шалаша» на Верхней набережной?
– Вот куда вы целите: под одну крышу с начальством! Ну что же, блажен, кто верует.
– А я, между прочим, стал верующим! И именно здесь – в Светограде. Только не в бога, конечно. И не в коньяк!
После такого неожиданно обострившегося разговора Михаил предпочел откланяться.
И, пожалуй, напрасно.
Во всяком случае, если бы Громов услышал разговор отца с дочерью, который произошел после его ухода, он, вероятно, даже удивился бы.
– Да, силен мужик, не иначе – в вояку-родителя характером задался, – сказал Кузьма Петрович после довольно томительной для Катюши паузы.
– Папаша, ты, очевидно, не так понял Мишу.
– А как следует понимать?
– Он совсем не такой стал, каким… Честный, прямой!
– Маловато для героя. Оглобля, заметь, тоже прямая, а ценится дешевле, чем согбенная дуга!.. Ну, ну, не топорщись. Твой Михаил, пожалуй, действительно далеко пойдет. Орел!.. А орлы, как известно, мух не ловят.
– Папочка! Я так и знала, – Катюша приблизилась к отцу, обняла, доверчиво прижалась щекой к его плечу.
В таком положении и застала их по-кошачьи бесшумно проникшая в комнату сестра Кузьмы Петровича, Елизавета Петровна, полная противоположность брату – тощая, великопостного обличья старуха. Вошла, полюбовалась и произнесла умиленно:
– Прямо душа радуется!
– Есть чему, – ласково приглаживая распушившиеся волосы дочери, отозвался Кузьма Петрович. – Наконец и меня дочка познакомила с… будущим зятьком, надо понимать.
– Это еще что за зятек? Неужто…
– Он самый. Генерала Громова единственный наследник.
– Мать пресвятая дева! Никак ты, Кузьма, ума решился, – испуганно зачастила Елизавета Петровна. – Да от таких генеральских сынков чужие родители в голос ревут. Он и бригаду-то подобрал себе под масть – из футболистов да уголовников. Не зря и кличут его – Мишка-гром!
– Тетя Лиза!.. Вы не имеете права порочить Мишу, – отстраняясь от отца, возмущенно воскликнула Катюша.
– А ты не учи меня, родную тетку, невеста самосватаная! Уж если родной отец отрекся от такого… волосатого!
– Неправда!.. Неправда!
– Ну вот что, девицы, одна перезрелая, другая недозрелая, – недовольно заговорил Кузьма Петрович. – Обсуждение кандидатуры товарища Громова на выдвижение в женихи можете продолжить в кухонной аудитории!
– Кузьма! – умоляюще прижав одну к другой ладони, воззвала к брату Елизавета Петровна.
– Все! – властно поставил точку Кузьма Петрович.
ГЛАВА ВТОРАЯ1
Первая, правда, не столь ощутимая трещина во взаимоотношениях отца и сына Громовых наметилась, когда «Мишунчик» – только так именовала сынка его безмерно заботливая мамочка Алевтина Григорьевна, – не без натуги преодолев среднюю ступень в своем образовании, решил посягнуть на высшую. Однако в этом вообще-то вполне доступном молодому человеку деле мало возжелать. А уповать на общественный авторитет родителя и вовсе негоже. Что и подтвердилось, когда Михаил на первом же экзамене – письменной работе по русскому языку – «хватанул лебедя» (так абитуриенты именовали двойку по сходству с лебединой шеей). Поскольку «Мишунчик», непонятно по каким соображениям, метил поступить на филологический факультет, на этом его «непосильные испытания» и закончились.
А когда незадачливый сын, словно малолеток, ведомый мамашей за руку, предстал перед недовольно сощуренными очами отца, он услышал из уст Ивана Алексеевича слова, которые глубоко разочаровали парня: ведь до сих пор ничто так не помогало ему преодолевать пока что не препятствия, а мелкие, по сути, рытвинки на житейском пути, как именитость папаши.
– Вперед будет умнее. Университет – это не футбольные ворота, куда неуча, как мяч, пинком можно направить!
– Иван! Что ты говоришь?! – панически воскликнула Алевтина Григорьевна.
– Хвалить прикажете?
– Боже мой, не хвалить, конечно, а… действовать. Да, да, действовать! Неужели тебе трудно снять трубку и протелефонить тому же Платону Сергеевичу? Или хотя бы Якову Ананьевичу. Ведь если Мишунчик не поступит в этом году в университет…
– Пойдет в армию!
И, видимо желая смягчить эти прозвучавшие сурово, как судебный приговор, слова, Иван Алексеевич добавил:
– Ничего страшного. И мы с этого начинали. А для таких баловней, как твой Мишунчик, наша Советская Армия – а-атличная школа!
И хотя сынолюбивой мамаше, действовавшей «скрытыми путями сообщения», удалось добиться того, что Михаилу разрешили переадресовать документы из университета в педагогический институт, на сей раз – чего Алевтина Григорьевна уже никак не ожидала – проявил характер сам «Мишунчик».
– В армию так в армию! – сказал он таким тоном, как будто отец обрекал его на заключение в концлагерь строгого режима.
Правда, и солдатская служба, которую Михаил Громов проходил в одном из южных военных округов, оказалась для него не обременительной. И здесь пользовалось заслуженным уважением имя и звание его отца, который не раз приезжал в округ инспектировать, а кроме того, Михаилу значительно облегчило пребывание на действительной то обстоятельство, что он с юношеских лет весьма успешно проявил себя как центр нападения: уже в восьмом классе защищал цвета футбольной школьной команды, завоевавшей переходящий приз, а перекочевав на «птице-тройке» в десятый, был включен, правда на первое время запасным игроком, в одну из ведущих клубных команд столицы.
Ну, а поскольку от вируса футбольной лихорадки не застрахованы даже маршалы Советского Союза, уже на шестом месяце службы рядовой Михаил Громов был произведен в сержанты и зачислен в сборную команду военного округа на должность одного из центральных нападающих. Боевой расчет команды определялся формулой: один, четыре, четыре, два.
Правда, к чести начальника «футбольного подразделения» лейтенанта Гаврюшина, в прошлом комсомольского работника на одной из шахт Донбасса, нужно сказать, что в команде неукоснительно проводилась политико-воспитательная работа и, что не менее важно, поддерживалась строевая дисциплина.
Как говорится, не разбалуешься!
Впрочем, и сам Михаил, лишившись безмерно заботливой опеки своей «мамули», скоро пришел к убеждению, что «сколько ты ни гоняй по зеленому полю пестрый мяч, а с годами он наступит – поворот от футбольных ворот!». Да и отцовские черты в его характере все явственнее начали проявляться.
Словом, парень взялся за ум.
А если учесть, что демобилизованным из Советской Армии военнослужащим при поступлении в высшие учебные заведения оказывается законное послабление, не было ничего удивительного в том, что вторичная попытка «Мишунчика» добиться высшего образования увенчалась успехом.
– Счастье-то какое! – Алевтина Григорьевна даже всхлипнула от переполнявшего ее умиления и материнской гордости.
Кому из матерей не знакомо это чувство!
Более сдержанно оценил достижение своего уже вполне возмужавшего сына Иван Алексеевич:
– Твой дед, плотогон Алексей Алексеевич Громов, говорил, что «на счастье мужик репу сеял, а выросли лопухи!». А впрочем – хвалю! Вот только хорошо ли ты, Михаил, обдумал, кем тебе быть?
– Разве журналист – плохая профессия?
– Пустой вопрос: плохих профессий в нашей трудовой державе не существует. И в этом отношении у твоего поколения просто огромные преимущества перед нашим, тем не менее очень и очень многого достигшим! Но запомни одно: чем доступнее выбор, тем сложнее молодому человеку обрести свое истинное призвание.
И хотя в тот момент на эти слова отца Михаил ответил по-армейскому коротко – «понятно», истинное понимание пришло к нему значительно позже.
2
Более трех лет прошло после того поистине драматического события, но как сам Иван Алексеевич, так и Михаил, а уж про Алевтину Григорьев рту и говорить нечего – наверное, месяц ходила с подпухшими глазами женщина, – все эти годы семья Громовых вспоминала о том, что произошло, с неизбывной горечью.
Правда, незадолго до этого происшествия, в ответ на застольное рассуждение Михаила о том, что во «все времена и при всех правителях и правительствах истинные художники не только воспевали, но и клеймили!», – Иван Алексеевич сказал:
– С чужого голоса поешь, сынок. Да еще и петуха пускаешь!
И хотя Михаилу слова отца показались обидными, он ответил сдержанно:
– Для вас, папа, я, наверное, и в сорок лет буду выглядеть неоперенышем.
И в тот еще весенний, но какой-то уже по-летнему разморенный майский вечер «горлопаны батьки Феофана», как окрестили эту небольшую дружно-ершистую компанию сами участники поэтических межсобойчиков, собрались, по обыкновению, в однокомнатной квартирке «батьки» – аспиранта при кафедре советской литературы Феофана Ястребецкого, – где целую стену занимал старинный, резного дуба иконостас, унаследованный Феофаном от деда и переоборудованный под книжный шкаф, а вместо люстры над обширным столом нависало потемневшее от времени церковное паникадило.
Ястребецкий не случайно пользовался авторитетом среди не обласканных еще читательским признанием, но уже «возмечтавших» литературных дарований, коими богат факультет журналистики. Сын известного столичного адвоката и внук пользовавшегося в свое время еще большей известностью профессора богословия протоиерея Павла Ястребецкого, чьи лекции заучивались наизусть будущими пастырями человеческих душ, а вдохновенные проповеди «вышибали слезу раскаяния» не только у богобоязненных прихожанок храма Сорока мучеников, но и у закоренелых «во гресех» лабазников, Феофан оказался достойным продолжателем династии «златоустов». И в работе над диссертацией на тему «Закономерность декаданса в творчестве некоторых русских поэтов начала двадцатого века», и в спорах по обширному кругу вопросов литературоведения Ястребецкий не раз проявлял подлинную критическую остроту и цепкость. Да и цитатчиком был просто непревзойденным, что, как известно, в литературных дискуссиях имеет немаловажное значение.
Привлекла внимание уже не только университетской, но и более широкой литературной общественности и развернутая статья Ястребецкого, озаглавленная «Врачу, исцелися сам!», в которой Феофан обвинил одного из поэтов, уже прочно обосновавшегося в «когорте маститых» и опубликовавшего увесистый сборник под многообещающим названием «Раздумье о времени и о себе», ни много ни мало – в перепевности и дидактичности!
И хотя в защиту «поэтического мундира» от заушательства выступили с открытым письмом в редакцию два стихотворца старшего поколения, уже тот факт, что молодой критик «посягнул», еще более возвеличил Феофана в глазах литературной смены.
И не только неожиданность и острота суждений привлекала к нему молодежь. И наружность у Ястребецкого была примечательная: высокий, поджарый, на бледном лице нарисованными казались черные брови и аккуратно выведенные бачки и усики. «Помесь куафера с тореадором» – так самолично пошутил как-то Феофан над собственной внешностью.
Способствовал авторитету «батьки» и его неожиданно возникший бурный роман с известной исполнительницей эстрадных песенок Евдокией Шапо (по паспорту – Шаповаловой), «певуньей Авдотьюшкой», как представил Феофан своим друзьям певицу. И тут же предупредил:
– Только прошу – не влюбляться! Во-первых, право авторства священно, а кроме того – в вопросах любви я не Феофан, а Феодал!
Однако, несмотря на такое предупреждение, почти все «горлопаны» мужского пола смотрели и слушали «Авдотьюшку» вожделенно: уж очень притягательными казались парням и задорно-курносое личико с наивно-бесстыдными взглядами очень какой-то изменчивой расцветки, и не по возрасту («Авдотьюшке» было за тридцать) совсем девчоночья фигурка, и призывно-воркующий голосок: как и большинство модных эстрадных певцов, Евдокия Шапо не пела, а именно исполняла песенки, временами чуть ли не нашептывая слова в микрофон.
Влюбился в певунью с первой же встречи, как ему казалось серьезно и безнадежно, и Михаил Громов, чему, впрочем, способствовало и более предпочтительное отношение к нему самой певицы. «Вот вас, Мишенька, я хотела бы иметь своим пажем!» – шепнула она однажды Михаилу в ответ на его взыскующий взгляд. И в тот же вечер исполнила под аккордеон омузыченную одним из многочисленных композиторов-песенников «Поэзу» Игоря Северянина – «Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж…».
Долго не мог уснуть Михаил после того вечера, проведенного в однокомнатной «келье батьки Феофана». В ушах снова и снова, как наяву, звучал бесовский голосок:
Королева просила перерезать гранат.
И дала половину
И пажа истомила.
И пажа полюбила – вся в мотивах сонат,
А потом отдавалась…
Разве уснешь!
Но еще больше взбудоражил Михаила поэтический межсобойчик, состоявшийся на другой день после возвращения Ястребецкого из двухнедельной поездки в Америку, при которой он сопровождал в качестве переводчика (Ястребецкий свободно владел английским языком) своего литературного босса – профессора Гуменникова. Вечер начался с краткого, но впечатляющего рассказа о стране непостижимых противоречий, где самые высокие достижения научной, технической и бытовой культуры уживаются с «идеологической и национальной поножовщиной», – таким резюме подытожил Феофан свои впечатления.
После «официальной части» радушным хозяином было выставлено такое угощение, после которого «разогревшимся» парням показалось поистине вдохновенным исполнение «Авдотьюшкой» трех песенок, на этот раз из репертуара дореволюционных шантанных див: умела Евдокия Шапо раскрыть душу песни. И не только вокалом, а и соответствующими игривому содержанию телодвижениями.
А я пою
И всем дарю —
Миг возбужденья и услады!
Бурный успех певицы отметили еще двумя бутылками «плиски».
А в первом часу ночи, когда все гости, за исключением «Авдотьюшки» и Михаила – ну, никак не мог решиться парень на «до свиданья», – разошлись, изрядно захмелевший Феофан извлек откуда-то из недр иконостаса небольшую книгу, на лакированной суперобложке которой была оттиснута Спасская башня Московского Кремля, обрамленная витиевато выполненной надписью: «О чем звонят кремлевские куранты».
А в предисловии к этому сугубо целенаправленному сборнику было сказано, что два очерка и два фельетона позаимствованы «из советских журналов», а все остальные материалы «любезно предоставлены нашему издательству известными литераторами, проживающими в Советской России».
– Книжица, конечно, пахучая, – сказал Феофан, небрежно листая сборник, – однако нужно признать, что строчат эти литподенщики с довольно точным прицелом. И хотя от всех любезно предоставленных подпольными литераторами статеек разит, почти в каждой среди навозной кучи дешевого вымысла можно обнаружить зернышко критической правды.
– Правды? – недоверчиво переспросил Михаил.
– Ну, во всяком случае, правдоподобия. Вот, к примеру, очерк «Принято единогласно», в котором описывается отчетное собрание в коллективе колхоза «Красный пахарь». Пасквиль, конечно, но написать такое мог только борзописец, проживающий или проживавший до недавнего времени по соседству с нами. И начинается этот опус прямо как передовица из областной газеты…
– Ну, Фео-фан! – недовольно протянула «Авдотьюшка» и, изловчившись, захлопнула книгу в руках Феофана. – Неужели ты не понимаешь, что нас это ни капельки не интересует. Верно, Миша?
– Да, да. Конечно, – поддакнул Михаил поспешно. Впрочем, не очень уверенно.
А уже уходя сказал в передней провожающему его хозяину:
– Честно говоря, я бы с удовольствием… То есть не с удовольствием, а… Все-таки, понимаешь, интересно знать, что там о нас брешут?
– Понято и принято. Но только, дорогой Михаил Иванович, – Феофан предостерегающе уставил вверх указательный палец, – поскольку эта литература, как говорится, не подлежит оглашению…
Феофан не договорил, потому что в передней появилась «Авдотьюшка».
– Мишенька, уже уходите? Ну-у…
А когда Феофан, заговорщически подмигнув Михаилу, вышел за книгой, «Авдотьюшка» неожиданно подшагнула вплотную к Михаилу, еще более неожиданно обняла и, приподнявшись на цыпочки, жарко прильнула полураскрытыми губками к твердым губам парня.
И так же порывисто отступив, прошептала совсем уж нелогично:
– Вот тебе… бессовестный!
3
«Все – как назло!» Наверное, не было и нет на земле человека, из уст которого но вырвалось бы это горестное восклицание.
Надо же было случиться, что входная дверь была уже защелкнута на предохранитель, а Иван Алексеевич еще не спал, хотя пошел уже третий час пополуночи. Он самолично открыл дверь возвращавшемуся в явном смятении чувств сыну и задал уже заранее обличающий вопрос:
– Опять?!
Михаил промолчал.
– Может быть, ты забыл, что завтра сдаешь диамат?
– Помню, – старательно не глядя на отца, буркнул сын.
– Снова рассчитываешь на удачу?
Михаил поднял голову и, натолкнувшись на осуждающий взгляд Ивана Алексеевича, сказал с неожиданной даже для себя развязностью:
– А какая разница.
Нехорошо ответил: ведь не раз испытывал на себе крутой и властный нрав отца. Да и подлинно отцовскую заботу о нем – «единственном продолжателе потомственной и почетной фамилии волгарей Громовых» – ощущал много раз.
– Ты… пьян? – спросил отец.
– Не пьян, но… выпил, – ответил сын.
Больше Иван Алексеевич ничего не сказал. Резко отвернулся от Михаила и, как-то неподходяще твердо отстукивая шаги, прошел в свою рабочую комнату.
Лучше бы изругал!
Но и это было бы, как говорится, полбеды, если бы…
И как мог Михаил допустить такую поистине роковую оплошность – оставить на столике в передней… Правда, выпил он в этот вечер порядочно. Потом… «Вот тебе… бессовестный». Да и разговор с отцом расстроил не на шутку.
Как говорится, одно к одному!..
– …Откуда у тебя взялась эта… зараза? – спросил Иван Алексеевич в ответ на обычное «Доброе утро, папа!».
– Какая зараза? – удивился было Михаил, но тут же понял бесцельность своего вопроса: на обеденном столе рядом с его прибором, злорадно, как показалось Михаилу, поблескивая глянцево-цветастой суперобложкой, лежала книга, которую дал ему «только до завтра» и со строжайшим предупреждением Феофан Ястребецкий.
– А-а… – напряженно обдумывая ответ, протянул Михаил. – Это я взял… Интересно все-таки.
– У кого взял? – по-нехорошему спокойно спросил Иван Алексеевич.
Напряженную паузу несколько разрядила появившаяся в дверях Алевтина Григорьевна.
– Мишунчик, может быть, тебе сжарить яичницу?
– Да, да, мамочка, я сейчас… – поспешно отозвался «Мишунчик», даже не расслышавший вопроса.
– Кто тебе дал эту книгу? – вновь и требовательнее повторил вопрос Иван Алексеевич.
Михаил ответил не сразу. Да и не ответил, в сущности:
– Этого я вам сказать не могу.
– Ах вот как! Отлично… Ну если ты не хочешь сказать мне – твоему отцу! – придется тебе держать ответ перед… товарищами.
Доселе уводивший взгляд в сторону, Михаил впервые взглянул в словно очугуневшее лицо Ивана Алексеевича и увидел в глазах отца… Никогда отец так не смотрел на него!
– Значит, вы…
Михаил не договорил.
– Нет! Не я, а ты – комсомолец Михаил Громов – пойдешь в свою организацию и там расскажешь… все!
И вот тут Михаилом неожиданно овладел приступ того чувства, которое наиболее точно определяет сочетание таких, казалось бы, разнородных слов, как «решительность» и «отчаяние».
– Хорошо, – произнес он таким тоном, что даже у обычно непреклонного в своих решениях генерал-лейтенанта Громова на минуту возникло сомнение: хорошо ли? И не чересчур ли он… да, пожалуй, жесток? Ведь этот парень, стоящий перед ним с упрямо вскинутой головой и отчужденным взглядом по-ястребиному прицельных глаз, – его сын. Сын!
И, может быть, окажись он на месте Михаила…
Нет!
Не имел права он – командир Советской Армии и ветеран Коммунистической партии – руководствоваться только отцовскими чувствами. И тем более в таком… ну, ясно, непростительном для чести комсомольца вопросе!
– Так вот, Михаил, мое последнее слово: от того, как ты поступишь, будет зависеть многое. Все! И прежде всего – мое к тебе отношение. Решай сам. А вечером… договорим.
Но не пришлось Ивану Алексеевичу Громову довершить трудное для него объяснение с сыном.
– Вот…
Только одно короткое словечко и смогла произнести Алевтина Григорьевна, передавая мужу, раньше обычного возвратившемуся домой, незапечатанное письмо.
«Папа!
Разве не вы говорили, что не хотите даже вспоминать то время, когда один человек, иногда во имя превратно понимаемого долга, а иногда опасаясь за собственное благополучие, давал, как тогда говорилось, «необходимые сведения», порой даже о близких ему людях. И еще вы говорили, что, к счастью для моего поколения, эти искажения коммунистического, а значит, наиболее человечного кодекса морали были осуждены на съезде партии и ликвидированы раз и навсегда!
И разве не ваши слова, что «человек, который дал твердое обещание, обязан его сдержать, иначе он потеряет веру в самого себя»?
А я дал честное слово.
И сейчас мне ясно одно: принимая всю вину на себя, я сам должен и вынести себе приговор…»
Долго, очень долго сидел Иван Алексеевич Громов в кресле за своим обширным письменным столом, пристально вглядываясь в неровные строки, написанные или торопливо, или в большом волнении.











