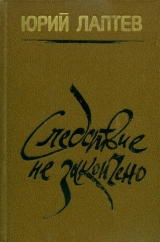
Текст книги "Следствие не закончено"
Автор книги: Юрий Лаптев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 49 страниц)
А за его спиной замерла в напряженном ожидании жена.
И только тогда, когда молчание стало непереносимым, Алевтина Григорьевна спросила:
– Когда обедать будешь, Иван Алексеевич?
И очень – даже до растерянности – удивилась, услышав ответ:
– Никогда!.. Ни-ког-да! – еще раз повторил Иван Алексеевич, разорвал лист бумаги пополам, затем на четыре части и продолжал неспешно и сосредоточенно рвать письмо сына, пока оно не превратилось в мелкие лоскутки.
4
Да, обида горькая…
И денек задался таким солнечным и по-весеннему нарядным, какие и в мае – вдвойне праздничном месяце года – выпадают не часто. Кажется, живи да пританцовывай, парень!
Ан нет!
За все двадцать три года не было в жизни Михаила Громова такого столь угнетающего своей безысходностью дня.
Да и разговоров таких – поистине мучительных – Михаилу вести до сих пор не приходилось: сначала с отцом, а через час…
– Надеюсь, ты, Михаил Иванович, не оказался способным на… предательство? – спросил Феофан Ястребецкий, выслушав расстроенно-покаянный рассказ Михаила о том, как он опростоволосился.
Спокойно и, как в первый момент показалось Михаилу, даже равнодушно спросил. Только тонкие пальцы, разминавшие сигарету, слегка подрагивали, да во взгляде… впрочем, Михаил не решался взглянуть в глаза Ястребецкому.
– Предательство?!
– Видишь ли, дорогой Мишенька… – заговорил Феофан, тоже не глядя на своего собеседника. – Кстати, давай присядем.
Сели.
– Вообще-то можно понять столь радикальную позицию твоего родителя: как говорится, положение обязывает. И я ничуть не сомневаюсь, что, несмотря на то, что вся эта глупейшая история никому и ничему не угрожает – никому и ничему! – генерал Громов не колеблясь принял бы… соответствующие меры. А в эпилоге – аспирант Ф. Н. Ястребецкий, поверивший честному слову своего товарища… А впрочем – решай сам!
«Решай сам». И Феофан, как и Иван Алексеевич, говоря иносказательно, оставил Михаила наедине с самим собой.
– Пока что я не сказал папе откуда… – начал Михаил неуверенно.
Подумал.
И закончил тверже:
– И не скажу!
– Спасибо! И еще раз – спасибо!.. Ты понимаешь, Миша, для меня не может быть большего разочарования, чем разочарование в друге.
Феофан порывисто поднялся с кресла и обеими руками крепко пожал руку Михаила.
Тут же на портативной машинке, услужливо предоставленной ему Ястребецким, Михаил отстукал заявление в ректорат с просьбой отчислить его из числа-студентов университета «по семейным обстоятельствам».
Столь категоричное решение Михаила показалось подозрительным дежурному члену бюро университетского комитета ВЛКСМ, басистому и чрезвычайно рассудительному сибиряку Елизару Тугих, которого студенты совсем неподходяще прозвали «Тугой Лизочкой»: и женственного ничего не было в его наружности, а уж туговатым Елизара мог назвать разве что недруг.
– Хитришь, парень, – сказал, полуприщурив один глаз, как бы прицеливаясь, Елизар в ответ на весьма уклончивое пояснение Михаила о причинах, которые вынуждают его покинуть не только университет, но и Москву: врать ведь не каждому дано. – Разве ты женат?
– Нет.
– Так какие у тебя могут быть семейные обстоятельства? И вот это: «считаю для себя невозможным числиться студентом университета имени Ломоносова». Что сие значит?
– С отцом у меня… – неуверенно начал было объяснять Михаил, помолчал, а затем неожиданно не только для Елизара, но и для себя вспылил: – Да почему, наконец, я должен перед всеми каяться?! Что я сюда – к попу на исповедь пришел?
– Ясно, – сказал Елизар Тугих, хотя вопрос для него еще более затемнился. И тоже, выдержав многозначительную паузу, закончил разговор уже подчеркнуто официально: – Ну что ж, товарищ Громов, твое заявление рассмотрим на бюро. Там же решим и насчет путевки. А вот насчет попа!.. Каяться тебе придется!
Однако Михаил не стал каяться и на бюро комсомольской организации.
«Видать, наглухо застегнулся парень!» – так подытожил обострившийся разговор на бюро докладчик Елизар Тугих.
Конечно, по большому счету комсомолец Михаил Громов не должен был скрывать от своих товарищей истинную причину «семейных обстоятельств». Но вряд ли найдется на необъятной земле советской хоть один человек, который никогда не действовал бы рассудку вопреки. И ничего не нарушал.
Этим же можно объяснить, но отнюдь не оправдать и малодушие, которое проявил Михаил: с двух часов дня и до полных сумерек бродил он по набережным Москвы-реки и Яузы, несколько раз решительно направляясь к четвертому подъезду высотного дома и столь же решительно проходил мимо. До мелочей ясно представлял себе «блудный сын»: вот он поднимается на лифте, осторожно открывает своим ключом парадную дверь, и, хотя старается не шуметь, конечно, сразу же в передней окажется мамочка, которая, ни о чем не расспрашивая, обнимет своего «Мишунчика», встревоженно заглянет ему в глаза и скажет что-нибудь вроде: «Боже мой, опять ты до сих пор не обедал».
А затем…
Вот того, что он скажет отцу и как посмотрит ему в глаза, Михаил представить себе не мог. Хотя и знал, что Иван Алексеевич не начнет первым этого разговора.
Почти неделю скитался Михаил Громов по приятелям, а 20 мая – этот поворотный день как бы зарубцевался в его памяти – Михаил отбыл, хотя и не в столь уж дальние края, но, как, по своему обыкновению, сыронизировал Феофан Ястребецкий: «Ты, Миша, ринулся, как аргонавт истинно советской формации, не за каким-то там золотым руном, а за бесценным трудовым подвигом!»
Вообще-то это шутливое определение в какой-то степени соответствовало истине: много пережив за эти дни и еще больше передумав, сильный, самолюбивый да и не лишенный упрямства парень действительно решил доказать всем, и прежде всего своему отцу, на что он способен.
Правда, с первых же дней после прибытия по комсомольской путевке на одну из приволжских новостроек Михаил испытал не то чтобы разочарование, а… все оказалось значительно проще, да и будничнее как-то. Ну, что его никто не встречал и приветствий не было – это понятно: сам по себе парень прибыл. Но странно, что никто даже не поинтересовался, почему во всем преуспевающий столичный студент пошел на такое… ну, конечно, самопожертвование! Ведь каждый год десятки тысяч молодых людей со всех республик и краев, в том числе и с берегов Волги, мечтают о том, чтобы провести лучшие годы своей жизни если и не в столице, то в одном из культурных центров страны и получить широкий доступ к сокровищнице знаний.
– Я прошу вас, товарищ Веретенников, направить меня туда, где больше всего нужна рабочая сила. Чернорабочим, – просто, однако не без достоинства изложил Михаил свои намерения инструктору Светоградского горкома комсомола.
Фридрих Веретенников, присадистый паренек с лицом по-мальчишески веснушчатым и пухлогубым, но уже озабоченным высокополезной деятельностью, без особой заинтересованности оглядел стоявшего перед его столом рослого и плечистого, на вид самоуверенного парня.
– Ну, в рабочей-то силе у нас все объекты нуждаются куда больше, чем в руководителях. Так что, товарищ Громов… – Веретенников еще раз взглянул на путевку и неожиданно хохотнул по-простецки: – Смотри, какой урожай сегодня на Михаилов: уже третьего устраиваем! А вот насчет чернорабочего… такое звание у нас в Советском Союзе уже давно ликвидировано. Черной работы, дорогуша, не бывает! А поскольку ты мужик, видать, не малокровный…
И под открытым небом спать не пришлось Михаилу: ему тут же был выписан ордер на койку в общежитии сезонников. И подъемных Михаилу тот же маломощный на вид, но «облеченный» Веретенников выплатил восемьдесят пять рублей с копейками из особого фонда, выделенного горкому комсомола. И пропуск в закрытую столовую выписал, поскольку с общественным питанием в Светограде дело обстояло не лучше, чем во многих городах и повыше рангом.
Громова даже удивила такая доверчивая заботливость.
Конечно, и обстановка в общежитии барачного типа с санузлом, оборудованным на отшибе, и меню «самоналивайки», как строители прозвали свою столовку, после отцовской квартиры и мамочкиных обедов показались Михаилу рассчитанными на весьма неприхотливый вкус, но…
«Впроголодь придется жить, под открытым небом спать – пожалуйста! Камни ворочать с утра до вечера – свалюсь, но не смирюсь!»
Хотя они и не были высказаны вслух, эти горделиво-решительные слова, но ведь и самому перед собой предстать малодушным – ущемительно.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ1
Камни не камни, но с кирпичиками Громову пришлось повозиться в первый же «разнорабочий» день, хотя и не с раннего утра до позднего вечера, но полную смену, обслуживая подъемный кран в комплексной бригаде.
– Поразмяться надумали малость?
Таким явно подкусывающим вопросиком встретил бригадир Тимофей Донников – степенно окающий нижегородец, один из лучших мастеров кирпичной кладки по всей округе – Михаила, прибывшего на строительную площадку в новехоньком тренировочном костюме и кедах. Бригада завершала кладку очередного четырехэтажного дома на пока что безымянной улице города нефтяников.
– Поживем – увидим, – со сдержанным достоинством отозвался Михаил, хотя слова Донникова ему не понравились. И почему-то особенно задело словечко «малость».
Да и другие члены бригады отнеслись к свежеиспеченному подсобнику настороженно, как к человеку, случайно затесавшемуся в неподходящую компанию. Это особенно ясно прозвучало в словах крановщицы Марии Крохотковой, «Маши-крохотули», как прозвали комсомольцы стройуправления эту миниатюрную, верткую девушку, по виду чуть ли не школьного возраста.
– На практику прибыл? – спросила Маша, с беззастенчивым любопытством оглядывая представшего перед ее светлыми, чуть подведенными очами щеголеватого парня.
– Нет. Работать.
– Ну да?!
«Пигалица!» – так окрестил мысленно Крохоткову Михаил.
Кажется, не хитрое дело укладывать «елочкой» кирпичи в поддон контейнера, которому строители присвоили более свойское наименование – бадья. Да и отдельный кирпичик весит для здорового парня сущие пустяки. Однако когда два подсобника начали загружать в очередную спущенную им Крохотковой бадью девятую тысячу, не только каждый кирпич, но и собственные руки стали казаться Михаилу неимоверно грузными и строптивыми. Но все-таки, когда его напарник – на вид более слабосильный, но уже «обмявшийся» башкир Ярулла Уразбаев – вскоре после обеденного перерыва предложил: «Ты, Мишка, не стесняйся: устал – присядь вон на бревнышко и отдышись. По себе знаю», – Михаил даже возмутился. Впрочем, не очень искренне. А удары колотушки о подвешенный в оконном проеме первого этажа рельс, возвестивший о конце смены, прозвучали для него как для богомольной старушки благовест.
Правда, умиротворенность Михаилу снова подпортила Маша-крохотуля, с беличьей ловкостью спустившаяся по узкой железной лесенке со своего «скворчиного кабинета».
– Никак устал, болезный? – спросила девушка.
– Устал, – простодушно признался Михаил, не обратив внимание на ехидинку, прозвучавшую в вопросе.
– Вот и прелестно, прелесть какая!
– Чего же тут прелестного? – спросил, подозрительно скосившись на Крохоткову, Ярулла.
– Ну, как же: ведь еще Алексей Максимович Горький говорил, что ничто так не облагораживает человека, как самоотверженный труд! Сразу-то, конечно, не облагородишься…
– Смеешься? – у Яруллы еще более сощурились и без того суженные глаза.
– Какой же тут смех? Вот если бы вам пришлось не только перекладывать с места на место, а поднять на четвертый этаж столько кирпичей, сколько я – слабосильная барышня! – за восемь часов перетаскала, – наверное, потребовался бы не дуэт, а добрая сотня таких… перворазрядников!
– Репьяк ты настырный, а не барыня! – сказал уже не на шутку озлившийся Ярулла. – Мы грузили, кран таскал, а она… Тьфу!
Очевидно, под влиянием этого обидевшего его разговора Уразбаев, после того как они с Михаилом, сполоснувшись под переносным душем, направились в столовку, сказал доверительно:
– Ка-анешна, к настоящему делу нас с тобой сразу не допустят, но и на кирпичах да на растворе пускай ишачат сезонники. А нам надо к бетонщикам тулиться. А еще интереснее… Здесь мой земляк работает по арматуре, Нажмеддинов Мустафа. Только в апреле курсы кончил, а… сколько, думаешь, он сюда положил в эту получку?
Уразбаев выразительно шлепнул по карману.
– Дело тут, Ярулла, даже не в заработке, – начал было Михаил, но Уразбаев не пожелал дослушать.
– Э-э, и я так рассуждал, пока с папашка да мамашка жил и за обед с меня и гривенника не спрашивали. А сейчас, вот сядем с тобой за стол… ты чего хочешь скушать – котлетку с подливкой или сухарь?
Михаил рассмеялся.
– Я, дорогой Ярулла, сейчас не то что сухарь, наверное, еловую шишку скушал бы с превеликим удовольствием. И без всякой подливки!
2
Если еще недавно неприметный населенный пункт Нагорное, после того как в непосредственной близости от села начали возникать одна за другой буровые вышки, а затем и сооружения крекинг-завода, буквально за считанные годы распространился и вширь и ввысь и получил звучное наименование Светоград, то не менее внушительные перемены произошли и на самом берегу Волги, огибавшей в этом районе крутой правобережный выступ – Пугачево нагорье. И здесь на месте небольшой, не имевшей ранее «транспортировочного значения» пристани был воздвигнут солидный речной вокзал, к причалам которого ежедневно швартовались десятки судов, начиная с нефтеналивных грузной осадки барж-самоходок и кончая многооконными и в будни праздничными теплоходами.
Явственно ощущая томительную, но не угнетающую ломоту во всем теле, Михаил прошагал мимо грузовых причалов, затем вдоль почти опустевшей к вечеру песчаной полосы довольно замусоренного пляжа и вышел к небольшому затончику, где вблизи вынесенной на каменистый взгорок бревенчатой сторожки отстаивалось на приколе несколько рыбацких лодок и две нарядные прогулочного назначения моторки – «Нефертити» и «Яша». Из одной лодки, оборудованной навесным моторчиком, немолодой мужчина в потертом комбинезоне, а по обличью, как показалось Михаилу, работник умственного труда, отчерпывал детским ведерком воду. На берегу возле прикола лежал разбухший рюкзак и пук бамбуковых удилищ.
– На рыбалку собрались? – общительно поинтересовался Михаил.
– Разве хочешь? Надо, – отозвался мужчина, даже не взглянув на вопрошавшего.
– Охота пуще неволи, хотите сказать? – вновь попытался завязать разговор Михаил, ощутивший вдруг даже не желание, а необходимость общения с человеком, который мог бы ему посочувствовать. Все-таки он, не желая в этом признаться даже самому себе, чувствовал себя до обидности одиноким. А на ум то и дело приходили слова где-то услышанной наивно-жалостливой песенки:
Все меня покинули, скоро я умру.
Гроб уже поставили, а я все живу…
И соседи по бараку, и грубовато встретивший новичка бригадир Тимофей Донников, и весь показавшийся ему безалаберным, недостроенный и неустроенный еще городок, и даже Волга – матушка река, к которой он, как прямой потомок волгарей, питал родственные чувства с детских лет, – ну буквально все, с чем сталкивался Михаил в первые дни своего пребывания в Светограде, казалось ему чуждым и неприветливым.
Вот почему он даже обрадовался, услышав обращенный к нему вопрос незнакомого, но по виду чем-то обнадежившего его человека.
– Вы, товаришок, по-видимому, приезжий?
– Да. Только со среды здесь обосновался.
– Ну и как?
– Что?
– Приглянулся вам наш Светоград?
– Не очень, – искренне признался Михаил, но тут же, опасаясь, что после такого ответа незнакомец не захочет продолжать разговор, добавил: – Вообще-то интересно убедиться, так сказать, воочию в подлинном…
Так как Михаил не смог сразу подобрать нужного слова, незнакомец подсказал:
– В подлинном размахе социалистического строительства!
И засмеялся.
– А это, пожалуй, не смешно! – сказал Михаил, снова почувствовавший отчужденность.
– Подождите!.. Молодой человек! – окликнул направившегося было прочь Громова рыбак. Он, балансируя руками, прошел по колышущейся лодке, легко перепрыгнул на берег и, похрустывая прибрежной галькой, подошел к Михаилу.
– Если мне не изменяет человековедение, вы – студент?
– Предположим.
Незнакомец снял темные очки, и Михаил увидел его глаза – светлые, но не прозрачные, глаза по-охотничьи приметливые.
– Меня зовут Константин Сергеевич.
Так неожиданно для Громова началось его знакомство с районным прокурором Константином Сергеевичем Пахомчиком. Михаил провел в обществе Пахомчика всю ночь с субботы на воскресенье и весь воскресный день на небольшом безымянном островке, облюбованном рыбаками, подлинными энтузиастами и больше того – подвижниками этого вида спорта.
Здесь у каждого из немногих «посвященных» был оборудован собственный шалаш и застолблен свой участок берега.
А у Пахомчика в укромном тайничке сохранялся на случай непогоды и «разливной НЗ», как Константин Сергеевич отрекомендовал Михаилу бутылку с наклейкой «Праздничная».
– Три таких посудины мне сынок из Ленинграда переправил с оказией, как наш дедок-бакенщик Федор Федорович Корневищев говорит, «гли сугрева». А сам Володька нынче ушел в дальнее плавание: похоже – под лед нырнул. Он у меня молодец – сынуля! По навигационному приборостроению специализируется.
И столько отцовской гордости прозвучало в словах – «он у меня молодец – сынуля!» – что Михаилу даже обидно стало: а вот Иван Алексеевич Громов, наверное, уже никогда не скажет таких слов о своем сынке.
И еще более задели за живое Михаила такие слова Пахомчика:
– Пожалуй, единственно, чему все отцы, как и аз, Константин надзирающий, завидуют, – это молодости своих сыновей. Сколько вам, пацанятам, дано!
На это Михаил возразил с неожиданной горячностью:
– К сожалению, не все отцы понимают, что даже бесценное социалистическое богатство, унаследованное пацанятами от своих героических предков, не всегда обеспечивает им счастливую жизнь!
Пахомчик не сразу отозвался на эти строптиво прозвучавшие слова. Помолчал, искоса, с обострившимся вниманием поглядывая в лицо Михаила, изменчиво освещаемое мятущимся пламенем костра.
Насупленно молчал и Михаил, не отрывавший взгляда от теплохода, стремительно и бесшумно – словно сказочный терем, насквозь прочерканный лучами, – скользившего вниз по течению. Впечатление призрачности усиливало и отдаленное звучание песни:
Степь да степь кругом,
Путь далек лежит.
А во той степи
За-амерзал ямщик.
И, последний свой
Чуя смертный час,
Он то-оварищу
Отда-авал наказ…
Будто не с теплохода, а из далекого прошлого доносилась на островок эта напевная жалоба, так созвучная настроению Михаила. Поэтому совсем неуместными, даже обидными показались ему слова Пахомчика:
– И все-таки прав был наш великий поэт, когда назвал поэзию глуповатой!
– При чем тут Пушкин?!
– А вы вслушайтесь.
Теплоход поравнялся с островком, песня зазвучала явственнее:
…Ты, товарищ мой,
Не попомни зла…
Здесь в степи глухой
Схо-о-рони меня…
В протяжном напеве то вторили друг другу, то сливались два женских голоса.
– Замечательная мелодия! И слова. Подлинно русское раздолье!
Однако Пахомчик, казалось, не обратил внимания на то, что слова Михаила прозвучали вызывающе.
– А вы сами, случайно… не занимаетесь?
– Чем?
– Стишатами.
– Нет. К сожалению! Но люблю. Только не стишата, а поэзию. Вот такую.
Михаил, не отрывая настороженного взгляда от лица Пахомчика, кивнул головой в сторону удаляющегося теплохода.
– Ну что же, могу только позавидовать.
– Чему?
– Я уже говорил: вашей молодости.
Пахомчик подкинул в костер несколько сучьев, затем подсел поближе к Михаилу, заговорил раздумчиво:
– Мне ведь тоже нравится эта, как вы правильно назвали, раздольная песня. И стихи некоторые. Но, к сожалению, людям моего склада частенько осложняет жизнь привычка все анализировать. И даже то, что следует воспринимать только… ну, глазом или ухом, что ли.
– Не понимаю.
На лице Михаила действительно выразилось недоумение, что почему-то позабавило Пахомчика.
– Вы вроде моей супруги, Надежды Яковлевны, которую, кстати сказать, в ее молодые годы Якуб Колас приравнял к купринской Олесе. Так вот она нередко ставит мне в вину мой, не побоюсь признаться, цинизм. Особенно когда мы сидим, вот как сейчас с вами, локоток к локотку, на концерте или в кино и так же слушаем исполнение какой-либо сугубо поэтической, но мало осмысленной песенки вроде: «Я гляжу ей вслед: ничего в ней нет. А я все гляжу…» Надежде Яковлевне нравится, а у меня немедленно возникает вопрос: «Чего же ты, чудачок, понапрасну глаза пялишь! Эс нигилес нигиль!» Так и сейчас…
Пахомчик мельком глянул в сосредоточенно-насупленное лицо Михаила и продолжил:
– Вот слушаем мы – два рыбака, любители природы, а значит и поэзии – одну и ту же песню о разнесчастном ямщике. А заканчивается эта песня такими чувствительными словами: «Замолчал ямщик, слезы катятся. А в степи глухой буря плачется…» Вам, по-видимому, эта ситуация представляется драматической?
– Да! – не колеблясь подтвердил Михаил.
– Допустим. А вам не кажется несколько… ну, искусственной, что ли, такая поэтически оформленная картина? Степь. Буран. Два ямщика: один замерзает, а другой сидит около и ждет, когда его товарищ, как говорится, отдаст богу душу, чтобы потом выполнить последний наказ замерзающего: «…здесь в степи глухой схорони меня». А рядом, естественно, нетерпеливо топчутся на ветру тоже вынужденные ждать лошади. Казалось бы…
– Слушайте! – негодующе прервал Пахомчика Михаил. – Да ведь так любое произведение можно… препарировать, как лягушку!
– Нет. Не любое! – возразил Пахомчик. – «Пусть ярость благородная вскипает, как волна…» Эти, я сказал бы, клятвенные слова навсегда впишутся в историю Отечественной войны. Или – «Что ж? веселитесь… Он мучений последних вынести не мог: угас как светоч дивный гений, увял торжественный венок…» Вот поэтический образ поистине разящем силы!
– Понятно! – Теперь уже в голосе Михаила прозвучала ирония. – По-видимому, людей вашего склада и в поэзии волнует только… высокая гражданственность!
Пахомчик отозвался не сразу: озабоченно, но без надобности, как показалось Михаилу, огляделся и лишь после явно затянувшейся паузы задал Михаилу совершенно неожиданный для того вопрос:
– Простите, Михаил Иванович, а на что, если не секрет, вы, во всем преуспевающий молодой человек, обиделись?
«Во всем преуспевающий»?! Михаил с трудом сдержался, чтобы не надерзить окончательно.
– Я, конечно, не знаю, как вы, Константин Сергеевич, поступили бы на месте «во всем преуспевающего молодого человека», но мне почему-то кажется, что даже и у непреклонных блюстителей советской морали иногда в поведении наблюдается… ну, некоторые зигзаги, что ли. Ведь, как ни странно, согласитесь, даже такое определяющее понятие, как порядочность, у нас иногда толкуется, так сказать, применительно к обстановке.
– Нет. Не соглашусь! – не задумываясь возразил Пахомчик.
– Ну, хорошо…
На другой день Михаил и сам вспоминал с недоумением: почему он, не такой уж простодушный парень, утаивший даже от отца виновника своего «грехопадения», неожиданно доверился незнакомому человеку?
Может быть, сама обстановка – под широко распахнутым звездным пологом, у трескучего и пахучего рыбацкого костра – располагала к задушевному разговору, а кроме того, рассказ получился отвлеченным: так, Феофан Ястребецкий предстал как «товарищ, недавно побывавший в «Заокеании», а Евдокия Шапо и вовсе выпала из повествования. Да и основной герой рассказа – сам Михаил Громов – предстал перед Пахомчиком не как нашкодивший юнец, а чуть ли не жертвой собственной принципиальности.
– …Конечно, с точки зрения господствующего в нашей стране кодекса морали прав мой отец. Но… вот кто-то из зарубежных классиков, если не ошибаюсь – Шоу, сказал хорошо: если человеку с детских лет назойливо, изо дня в день вдалбливать десять христианских заповедей – не убий, не кради, не пожелай жены или осла ближнего своего, – парень обязательно вырастет распутником и проходимцем. Сработает закон тяготения к запретному. Но, к сожалению, некоторые наши отцы считают, что не только лучшей, но и единственно приемлемой «пищей для ума их детей, даже достигших уже и половой и психологической зрелости, могут служить только литературные произведения, условно говоря, прямого воспитательного воздействия. Такие наставники даже не замечают, что и целиком послевоенное поколение молодежи давно уже выросло из идеологических пеленок!..
На этой фразе, кстати сказать, также позаимствованной Михаилом из «критического арсенала» Феофана Ястребецкого, и закончилась его «исповедь».
– Ерунда!.. И, извините, пошлость!
И, глядя прямо в лицо несколько озадаченного такой его категоричностью парня, Пахомчик пояснил:
– Говорю так не только потому, что я в какой-то степени наставник. И отец! И член Коммунистической партии тоже! Да и вы, Михаил Иванович, как человек, «достигший уже половой и психологической зрелости», должны бы понимать, что печатное слово всегда было, есть и останется навеки одним из наиболее острых и действенных видов идеологического оружия. С этим вы согласны?
– Трудно не согласиться! – сказал Михаил, но Пахомчик, казалось, не обратил внимания на ироничность – не так слов, как тона.
– Ну, а наиболее смертоносным оружием еще с незапамятных времен считались отравленные стрелы, затем, в начале воинственного века, – отравляющие газы. А в наши дни, при невиданном расцвете научной и технической мысли, «могучие ястребы» все больше начинают уповать на помощь невидимых глазу, но сверхпаскудных союзников – бактерий. С этим вам, надеюсь, тоже будет трудно не согласиться!
– Суду все ясно, – опять попытался сыронизировать Михаил.
– Нет. По-видимому, не все, – снова серьезно возразил Пахомчик. – Вы, очевидно, до сих пор не уразумели, что, когда ваш отец – Иван Алексеевич Громов – обнаружил непосредственно в своем доме… ну, безусловно отравленное!.. оружие и, не побоюсь превыспреннего сравнения, нацеленное прямо в голову его сына, он не только имел право, но и обязан был принять самые решительные меры. И только так!
– А кто вам сказал, что я осуждаю отца?
– Вы.
– Я?!
– Да, вы! Неужели вы не понимаете, что в таком вопросе, как точно определил кто-то из римских ораторов, терсис нон датур – третьего не дано! А поскольку вы и до сих пор пытаетесь выгородить некоего «товарища», недавно побывавшего в «Заокеании»… суду стало действительно все ясно!
Пахомчик пристальнее взглянул в угрюмо-сосредоточенное лицо Михаила и неожиданно рассмеялся:
– А посему – давайте укладываться. Рыбка лучше всего берет на утренней заре, а ведь мы с вами – рыбаки!
Хоть и хорошо спится на свежем воздухе, но Михаил долго не мог уснуть.
И свою размолвку с отцом еще раз пережил Михаил в эту безлунную ночь, на берегу реки, по темной глади которой тускловато плавились отблески далеких миров.








