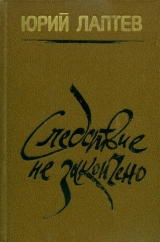
Текст книги "Следствие не закончено"
Автор книги: Юрий Лаптев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 49 страниц)
1
Торопчина очень обрадовало сообщение о том, что сеялки благополучно прибыли в «Светлый путь» и через час выйдут на поле.
– Мы, признаться, думали, что председатель нас начнет крыть, а он даже словечка не сказал, – закончил свой рассказ по телефону Петр Аникеев.
– Плохо вы, значит, знаете своего председателя, – ответил Аникееву Иван Григорьевич. Он даже, вспомнив весь свой разговор с Бубенцовым, осудил сам себя за то, что поставил Бубенцова в обидное положение. Решил во что бы то ни стало сегодня же поговорить с Федором Васильевичем по душам. И потому, придя на товарную ферму, где нужно было осмотреть коров перед выпасом, Торопчин все время обдумывал, как, какими словами выскажет Бубенцову свои самые сокровенные мысли. Увлекшись размышлениями, иногда даже отвечал невпопад, в чем его и укорила бригадирша Анастасия Новоселова.
– Чтой-то ты, Иван Григорьевич, сумной стал какой-то. Фантазию Чернухой назвал, а Лебедке в карточку написал… не пойму даже чего. Мои коровушки такого отношения не любят. И так они, сердешные, за зиму все в ребра ушли.
Торопчин удивленно взглянул на бригадиршу. Потом улыбнулся.
– Прости, Анастасия Федоровна. Задумался я – вот и путаю.
– Задумался? – Новоселова внимательно поглядела на расстроенное лицо Торопчина. – Это плохо. От работы человек так не устает, как от мыслей. Тогда давай лучше отложим. И то – все люди сегодня отдыхают, а мы с тобой чем хуже? Да и девушкам моим погулять охота.
– Отложим? – Иван Григорьевич рассеянно оглядел коровник, трех доярок. Две смотрели на Торопчина просительно, а третья – Клавдия Шаталова – не смотрела вообще. – Нет, Анастасия Федоровна, – вновь повернувшись к Новоселовой, решительно сказал Торопчин, – хоть и сердятся на меня твои девушки, а работу надо закончить сегодня.
Иван Григорьевич приступил к делу, уже не отвлекаясь посторонними мыслями. Но все-таки в этот день работу не закончил.
Помешал завхоз Кочетков. Он пришел в коровник, отозвал Торопчина в сторону и сообщил ему, что председатель «загулял». Это известие привез из района счетовод Саватеев, у которого Бубенцов взял заимообразно пятьсот рублей колхозных денег.
Сообщение поразило Торопчина и очень расстроило.
– Плохо. Просто несчастье. Эх, Федор, Федор!
– Кем был, тем и остался. – Завхоз не забыл того, как Федор Васильевич хозяйничал в его избе и выгонял на работу Елизавету. – Правильно ты, Иван Григорьевич, его, самодура, сегодня урезал! Мало еще.
– Помолчи! – неожиданно резко оборвал Кочеткова Торопчин. – Пьяный проспится, а вот дурак – никогда. Сам я виноват во многом, раз не сумел подойти к человеку. Да и вы тоже хороши!
– А при чем мы? – взъерепенился было Кочетков, но, встретившись взглядом с Торопчиным, осекся.
– Ни при чем и останетесь! – сказал Иван Григорьевич и, круто повернувшись, пошел к выходу из коровника.
Торопчин очень разволновался. Хоть и разладились у него в последнее время отношения с председателем колхоза, хоть и дошли их разногласия до прямой ссоры, но все-таки Федор Васильевич был для него, пожалуй, самым дорогим человеком. Пусть строптивый, но прямой, пусть грубый, но честный. Пусть даже заблуждается Бубенцов в отношениях с людьми, неверно понимает свои права и обязанности, но уж если станет на правильную дорогу, никакая сила не свернет с нее Федора. Крепкого нутра человек.
А вообще, кто бы знал, как трудно Ивану Григорьевичу, молодому еще коммунисту, работать с людьми. Какие они разные, все люди, а ведь каждого человека надо понять, найти и развить в нем все хорошее осторожно, чтобы не отвратить от себя, указать на недостатки. Ну, с молодыми легче. Молодое деревцо согни, оно не сломается, выпрямится и снова всеми веточками потянется к солнцу. Только бы ничто не преграждало дорогу. Так и человек должен стремиться к правде.
Одно солнце на небе, и одна, только одна правда на земле! Но ведь и солнце надолго иногда закрывают черные тучи. А правду… сами люди часто затемняют истину путаным поучением. Одни не понимают, а у других и умысел нехороший.
Ссутулив широкие плечи, не глядя по сторонам, шел посредине улицы Иван Григорьевич Торопчин. Проходя мимо дома Бубенцова, задержался. Хотел было зайти, но передумал.
2
Был обеденный час. Народу на улице было немного. Тени от тополей, от конюшен, от пожарной вышки потянулись уже на восток.
У магазина сельпо на бревне чинно, как засыпающие куры на насесте, сидели старики. Грелись на припеке. Дымили пахучим махорочным дымком, прислушивались к разговору двух подгулявших. Конечно, если человек перехватил лишнего, разговор у него пустой, никчемный, но если человек выпил в меру, ни ноги, ни мысли у него не заплетаются – можно и дельное услышать.
– Нам, сват, теперь не страшна никакая империалистицкая сила! Гитлеру башку снесли начисто, и еще кому неймется – посшибаем. Ты, сват, русского человека лучше не вороши! – увещевал чистенький, но ершистый старичок другого, хотя тот и не думал ворошить русского человека. «Сват» и сам был настроен патриотически и настойчиво повторял одну и ту же милую сердцу фразу:
– А и силен город Тамбов!.. Ай да и силен Тамбов-город! Куда там!
Из раскрытых окон правления колхоза лились звуки старинного вальса: кто-то включил приемник. А от реки, навстречу музыке, доносилась протяжная и грустная, как дымок потухающего костра, девичья песня.
Девушка пела о том, что ушел на войну любимый и не вернулся, И не вернется никогда.
…Пускай на кургане калина родная
Растет и красуется в ярком цвету…
Но рядом с девушкой сидел другой. Паренек не пел, но тоже грустил. Однако не терял надежды.
Умолкнет песня. Утихнет грусть. А жизнь свое возьмет!
Крепко надеялся на счастливую будущность и кузнец Балахонов, хотя и не молод был. Годы уже протоптали стежки морщин на невысоком лбу Никифора Игнатьевича. Как налет первого инея, запорошила волосы и усы седина. Но даже уставший жить человек не перестает надеяться, а Балахонов, хотя и много потрудился на своем веку, жить не устал.
Вот он сидит в красном углу празднично убранной горницы за начищенным до блеска, весело клокочущим самоваром, сам сияющий, как самовар.
А напротив кузнеца, облокотившись локтями о стол и не отрывая взгляда от гостя, сидит Марья Николаевна Коренкова – женщина тоже в годах; но что же, если не надежда на счастье, так молодит эту женщину, делает такой притягательной синюю-синюю глубину ее глаз?
Никифор Игнатьевич и Марья Николаевна, прежде чем приступить к чаепитию и серьезному разговору, распили бутылочку очищенной, закусив хрусткой капустой, заквашенной кочанами, и лепешками из отрубей. Но если женщина, хотя и выпила вина наполовину меньше, раскраснелась и приобрела улыбчатость, то кузнец был, что называется, «при светлом глазе» и вел совершенно трезвый, степенный разговор.
– Война, Марья Николаевна, для народа, как при дурном ветре пожар – дров спалит уйму, а люди на холоду остаются. Начните считать по домам: где малолетки родителей потеряли, женщины многие – вот хотя бы и вас взять – мужей, старики сынов лишились. Словом, всю нашу жизнь перекосила эта самая война. Н-но… – Никифор Игнатьевич единым духом схлебнул с блюдца чай и продолжил: – тыном ветра не остановишь! Чуть не каждый, заметьте, после войны заново жить начинает. Корень – вот в чем сила! А в нашем народе корень такой, что… думается, легче весь земной шар на попа поставить, чем русского человека утеснить с его земли! Это я к чему говорю…
Однако перейти к основной теме разговора Балахонову удалось не сразу – помешал младший сынишка Коренковой. Паренек, слегка приоткрыв дверь, бочком протиснулся в избу, звучно прошлепал босыми ногами к столу и с детской бесцеремонностью уставился на кузнеца.
– К чему это я говорю, – уже нерешительно повторил Никифор Игнатьевич, скосился на паренька и замолчал, хотя и уловил в синих, как у матери, глазах мальчика живейший интерес к разговору.
– Пашунька, – сказала Марья Николаевна, ласково пригладив сыну русые волосенки, – добеги разом до Таисии, катушку ниток она мне посулила дать… Добежишь?
– Ее дома нет, тетки Таисии, – не отрывая любопытствующего взгляда от лица Балахонова, отозвался сынишка. – Они с Анюткой порося на пункт понесли, ему присыпкинский кобель одно ухо начисто скусил. Смеху было!
– Так ведь вернется небось Таисия. Иди. Ну, поиграете там пока со Степой, – бросив на Балахонова быстрый, виноватый взгляд, просительно сказала Марья Николаевна.
– Тогда лепешку дай! – повернувшись к матери, сказал Паша.
– Возьми сам. Вон на шестке я вам оставила. Всем по две.
– Одну пока съем, – рассудительно сказал парнишка, выбрал из стоявшего на шестке решета самую большую лепешку и, впившись в жестковатое тесто мелкими и острыми, как у хорька, зубенками, направился к двери.
– Да, так к чему я завел этот разговор? – выждав после ухода Паши некоторую паузу, в третий раз повторил Балахонов и, очевидно собираясь с мыслями, опять замолчал.
– Может быть, чайку еще откушаете, Никифор Игнатьевич? – ласковым голосом подбодрила своего собеседника Коренкова.
– Спасибочки, выпью. Раньше этот самый чай почему-то фамильным назывался. А то еще кирпичный я уважал…
И снова помолчал кузнец. Какие-то все неподходящие приходили на ум слова. Потом все-таки решился:
– Так вот, Марья Николаевна, я, конечно, человек в возрасте, так сказать, не юнош. Но в работе пока пусть молодые за мной тянутся!
– Что и говорить – таких, как вы, работников поискать. Я уж нынче раз десять хорошим словом помянула, – подавая подрагивающей рукой Балахонову чашку, сказала Коренкова. От сдерживаемого волнения женщина раскраснелась больше, чем от вина. Ее состояние передалось и кузнецу.
Хотел было Никифор Игнатьевич для успокоения глотнуть прямо из чашки чайку, но вовремя остерегся, лишь смочил в крутом кипятке усы. Отер и расправил их ладонью, вновь заговорил:
– И остальное мое положение вам известно. Живу, можно сказать, в достатке… Ну, нынешний год, конечно, поминать не будем.
– Сейчас всем трудно, – Коренкова глубоко передохнула. – Но с осени, думаю, опять заживем.
– Кто заживет, а кому и сытость радости не прибавит… Плохо, Марья Николаевна, когда хозяйки в доме нет!
Выдавив из себя, наконец, эту многозначительную фразу, Балахонов облегченно перевел дух. Лиха беда – начало.
– А Настя? Она ведь у вас девушка не балованная.
И чего это женщины часто непонимающими прикидываются? Никифор Игнатьевич даже обиделся.
– Что – Настя? Да разве может быть настоящей хозяйкой в доме дочь? Сегодня она со мной, а завтра… Нет уж, как вы хотите, а остаться на старости лет бобылем – мне не рука! Это – все, что нажито, прахом пойдет. А ведь у меня как-никак дом и сверху железом крыт и внутри не соломой натолкан… Вот и хотел я, Марья Николаевна, с вами посоветоваться…
Балахонов осекся, увидев, что лицо Марьи Николаевны, еще минуту тому назад такое приветливое и ласковое, стало вдруг замкнутым, омрачилось не то обидой, не то досадой. «Это что же я говорю-то? – заворошилась в голове кузнеца беспокойная мысль. – Чем хвастаюсь? Будто телку приторговать пришел, а не свататься! Неужели же хозяйка нужна, только чтобы беречь дом да имущество? Забыл, видно, как лучшую половину своей жизни коротал без радости, честно, но равнодушно со своей хилой женой жил. А почему?.. Да потому, что не девушку тогда высватал, а кузницу. Эх ты, старый дурень! А еще сызнова по-хорошему жить начать думаешь».
Низко опустилась голова Никифора Игнатьевича, как будто тяжелые мысли пригнули. Сказал очень тихо, трудно было говорить, спазма перехватывала горло:
– Прости, Марья Николаевна. Неладно говорю. Видно, с молодости хорошим словам не научился, а уж теперь…
Жаль, что не видел в тот момент Балахонов лица Марьи Николаевны. Понял бы он сразу, что и без слов понимает его женщина. А когда после очень долгого молчания решился взглянуть, склонила голову Коренкова, пряча от Никифора Игнатьевича свои заблестевшие слезами глаза.
– Одинаковые мы с тобой, Никифор Игнатьевич, – сказала она, как бы отвечая на обидные мысли кузнеца. – И меня ведь за Павла высватали, когда семнадцати годков мне еще не исполнилось. Не по-хорошему. Никто и не спросил меня тогда, люб ли мне жених, по сердцу ли я за него замуж иду. Да и Павел… Прожили мы с ним шестнадцать лет, четырех детей растили, а о любви промеж собой словечка не промолвили. Будто весь свой век человек живет только для сытости… Нет, больше такой жизни я не хочу, Никифор Игнатьевич!
Коренкова выпрямилась и, решительно вскинув голову, взглянула на Балахонова. Взглянула и поняла сразу, что и Никифор Игнатьевич больше такой жизни не хочет.
3
Вернувшись домой, Иван Григорьевич повесил на привычное место фуражку, снял офицерский ремень, подошел к зеркалу и долго зачесывал густые и волнистые свои волосы. Ожесточенно водил гребнем и приглаживал еще ладонью другой руки.
– Никак к невесте собираешься, Ванюшка? – не то пошутила, не то намекнула мать.
– А? – Иван Григорьевич явно не расслышал вопроса.
– Красоту, говорю, наводишь. – Анна Прохоровна покрыла чистой скатертью стол и отошла к печи.
– Этого и надо было ожидать, – невпопад ответил матери Иван Григорьевич и сел за стол. Поправил загнувшийся угол скатерти, подвинул к себе ложку и нож, аккуратно примял пальцем соль в солонке.
– Вот уж верно говорится, что летом земля, как курица, – подавая тарелку с дымящимся супом, сказала Анна Прохоровна. – Смотри, Васятка щавелю целый мешок приволок.
– Зачем это? – спросил Иван Григорьевич.
– Попробуй, тогда узнаешь – зачем.
– Подожди, мать. Не могу я сейчас. Сытый, что ли…
Иван Григорьевич отодвинул тарелку, отложил ложку и нож. Достал с полочки газету.
Только тогда Анна Прохоровна заметила состояние сына. Встревожилась.
– Опять что-нибудь, Ваня, случилось?
Но сын ничего не ответил. Он смотрел на заголовок передовой: «Новый патриотический почин колхозного крестьянства».
Дальше строчки сливались, потому что газетный лист подрагивал в руках.
Анна Прохоровна, двигаясь неслышно и осторожно, как сиделка у постели тяжело больного, убрала со стола, поставила чугунок с супом обратно в источающую духовитую теплоту русскую печь, бесшумно задвинула гремучую заслонку. Потом накинула шаль и на цыпочках вышла из избы.
Протяжно и жалостливо скрипнула дверь.
Торопчин отложил газету, скрестил на столе большие, сейчас ставшие вялыми руки и опустил на них голову.
Под печью в загнете что-то шуршало, заставляя то и дело настораживаться сидящую на лавке рядом с Торопчиным аккуратную кошечку. С улицы доносились то мягкие, сквозь стекла, звуки гармоники, то неясный говор, то стук телеги.
Размеренно тикали ходики, будто назойливо и невозмутимо выстукивали: «Только так, только так, только так».
Может быть, потому, что до предела напряглись нервы, но вот именно это, такое привычное, как и вся обстановка в горнице, поскрипывание маятника сегодня возбуждало у Ивана Григорьевича необычные мысли. Оживали ушедшие из жизни, но бережно сохраняемые памятью образы бесконечно дорогих людей.
«Только так… только так… только так…»
Иногда бурно, как пожар на ветру, иногда сонливо, будто вода в речной заводи, движется жизнь. Но всегда одинаково отсчитывает такие разные человеческие часы и минуты, дни и годы бесстрастное, как сама вечность, время. И нет ему, времени, дела до того, что жаждет иногда человек, чтобы долго-долго тянулась одна минута, а иногда нужно, чтобы год пролетел, как час, а страшные часы мелькали, как мгновения, скользили, не успевая оставить следов в душе человеческой.
Ведь были же они – те часы, и дни, и годы, когда вот за этот самый стол садилась большая семья крестьянина Григория Потаповича Торопчина.
И старший сын, первый помощник отцу, – русый, спокойный, смолоду рассудительный Семен. И второй – худощавый, лобастенький, пытливый и гораздый на грамоту Иван. «Не иначе ты, Ванек, доктором, у меня вырастешь», – часто шутил Григорий Потапович.
Садился с краешку и любимец матери – порывистый и смешливый, то озорной, то ласковый, подросток Николка.
Сидела среди братьев ясноглазая и светлая, как выросший в укрытой от ветра низинке полевой цветок, дочь Наташа.
Смотрел Григорий Торопчин на своих детей, горкой окружавших семейный стол, и говорил жене:
– Дождемся мы, Анна, или нет, когда они подравняются да нам с тобой, отцу-матери, гостинцы приносить будут?
– Не торопись, Григорий Потапович. По мне хоть бы и век не дождаться, – отвечала Анна Прохоровна. – Птица в гнезде до осени, а дети в дому до возраста.
Правильно говорила Анна Прохоровна. Золотое было то время, и как же быстро оно прошло! Кажется, капали по капельке часы, сыпались по песчинке минуты, а годы пролетели так, что не успела мать насмотреться на своих детей. Будто только вчера расчесывала им частым гребешком легкие волосики, стирала и латала нехитрую ребячью одежонку, и вот…
Вот они стоят посредине горницы: отец Григорий Потапович и его три сына. Старший – Семен Григорьевич, уже комбайнер, второй сын – Иван Григорьевич, только что окончивший ветеринарный техникум, и третий – Николай – подручный на комбайне у своего брата.
А в сторонке прижалась к печи сама бледная, как выбеленная известью печь, ясноглазая сестричка.
Все стоят молча, как бы прислушиваясь к тиканью ходиков: «Только так, только так, только так…»
– Присядем, что ли, на минутку. Иначе, говорят, пути не будет. А путь нам не маленький, от Тамбова до чужой земли! – говорит Григорий Потапович. И садится первым. Смотрит на своего меньшого, зовет: – Васятка, а ты разве фашистов бить не собираешься?
– Иди, сынок, простись с батей. И ты, Наташа. Сказала бы братьям что-нибудь.
Анна Прохоровна подталкивает ребенка к отцу. Она не плачет и не голосит, хотя горе, как и боль, молча и без слез переносить куда труднее. Бедная женщина не знает, на кого же ей смотреть. Сразу уходят четверо. Чуть не вся жизнь!
Уходят на войну.
– Если кого-нибудь из вас немцы ранят – заплачу, наверное. А если… убьют… возьму горстку земли, выйду на дорогу и не вернусь в дом, пока могилы не разыщу. Так и знайте, батя, и вы, братики: Наташа к вам придет!
Думал ли тогда Иван Григорьевич, что это последние слова сестры, услышанные им?
А где же твоя могила, Наташа?
«Только так… только так…»
Что же ты тогда, в последнюю минуту, не остановилось, время, не замедлило хотя бы свой равнодушный ход!
Так почему же ты, время, как бы застыло на месте, когда первое настоящее горе жесткими, холодными тисками сдавило голову и грудь молодого, еще не закаленного жизнью человека?
Не год, а, может быть, десять лет прожил Иван Григорьевич за одну ночь. Так медленно она тянулась. Ведь каждая секунда болью бороздила сознание.
В один час, в один день, в одну минуту погибли на дальних подступах к Москве его два брата и отец – экипаж Торопчиных.
– Раньше у нас в Тамбове старинная фирма была «Василий Сафонов с сыновьями». Сам-то старик из крестьян вышел. Не на хорошее дело польстился, а название придумал хорошее, – так сказал Григорий Потапович Торопчин начальнику призывного пункта. – Я, конечно, не купец, а коммунист, и дело мое – честное, народное. Но хочется, чтобы и про меня говорили: «Григорий Торопчин с сыновьями». Вы уж уважьте. Сам я старый артиллерист и георгиевский кавалер. Семен у меня по моторной части хорошо разбирается. И Николай тоже о танке мечтает. Вот Иван только у нас… задумчивый какой-то.
Просьбу колхозника-бригадира уважили. И через месяц и семь дней танк «Григорий Торопчин с сыновьями» – так его и в части прозвали – выступил на защиту родины.
В двух центральных газетах был описан неравный бой тамбовского экипажа с немецким батальоном. Погулял в ясную морозную ночь старый артиллерист по улице калининского села. Как карточный домик, смахнул срубленный тверяками сельсовет, где разместился немецкий штаб. Своего не пожалел, но и врагу спуску не дал. Сшибал броневой грудью, давил тяжелым клепаным ходом, расстреливал из пушки и пулеметов.
– Москву повидать захотели?.. Так вот она какова, Москва! Тамбову мать родная.
И врезался на пылающем уже танке в артиллерийский парк.
Далеко осветились окрестности взрывами снарядов и бензиновых цистерн. Но куда дальше осветил русскую землю отблеском славы подвиг колхозника патриота и двух его сыновей – Семена и Николая.
Но не гордостью за отца в первый момент наполнилось все существо третьего сына Григория Торопчина, задумчивого Ивана. Невыносимая боль утраты вытеснила все мысли и чувства. Могилой показалась тесная землянка, в которой Иван Григорьевич провел самую черную в его жизни ночь.
Спустился он в землянку совсем еще молодым человеком, не потерявшим еще особенно свойственной ему, почти юношеской застенчивости, а когда рассветало, вышел на поверхность земли бойцом и коммунистом.
– Вот. Примите, – сказал он, подавая политруку батареи вырванный из блокнота листочек.
– Хорошо, Торопчин! – внимательно прочитав заявление, сказал политрук, знатный ленинградский токарь Сергей Трофимович Корнев. – Знал я, что ты к нам придешь, но не уговаривал. Не люблю, когда люди на такое дело легко соглашаются. Партия – это, Торопчин, в нашей жизни самое большое и трудное. Надо, чтобы человек по-настоящему обдумал, решился и черту в своей судьбе провел. Понял ты?
– Я решился, товарищ Корнев. И если сойду с партийной дороги, так только в могилу! – Иван Григорьевич произнес эти торжественные, как присяга, слова негромко и, пожалуй, обыденно. Однако Корнев взглянул на него очень пристально. Спросил:
– Случилось у тебя что-нибудь?
– Отец и два брата погибли. В одном бою. Вчера извещение получил.
– Так, – политрук невольно отвел взгляд от очень бледного, измученного лица Торопчина, от его раскаленных огнем внутренней боли глаз. Еще раз прочитал заявление, сказал: – Тогда напрасно ты здесь пишешь: «Если придется умереть, хочу умереть коммунистом». О смерти, Торопчин, ты даже думать забудь! Большой тебе надо пройти путь, потому что каждый преданный человек нашей партии очень дорог.
– Война ведь, Сергей Трофимович.
– Ну и что ж, крепко надо верить, Торопчин, в справедливость.
С того дня урывками, но часто разговаривал с Иваном Григорьевичем ленинградский токарь Сергей Трофимович Корнев, нашедший за годы войны свое истинное призвание в самой трудной работе – работе над человеческим сознанием.
Жестокие потери понесла в великой битве за утверждение справедливости семья Торопчиных. Но не раздавила война до конца славную, честную фамилию Григория Потаповича. Не умрет, а обретет бессмертие дело, начатое его поколением сельских коммунистов. Еще глубже войдут корнями в землю, еще шире раскинутся могучими ветвями под солнцем посаженные отцами общенародные сады и рощи.
Живут и утверждают жизнь сыны и дочери. С юных лет растут и тянутся к партии внуки.
Пусть только один из четверых детей Григория Торопчина возвратился в родное село, но он принес с собой безудержное стремление к правде и счастью всех, кто бился за это народное счастье. Принес веру в конечную победу всех павших в бою за коммунизм.
Недаром почти все колхозники «Зари» вышли за семнадцать верст на станцию встретить сына Григория Потаповича – Ивана Григорьевича, вернувшегося с фронта. Мать встретить не смогла – сил не нашла в себе Анна Прохоровна, ну и попросила соседа.
А на просьбу откликнулись сто четырнадцать человек! К станции шли поодиночке, кто большаком, кто стежками, кто с узелком гостинцев, кто просто с добрым словом.
Не сговаривались люди, поэтому неожиданной и вдвойне радостной оказалась эта минута встречи колхозников со своим земляком.
Взволнованный и растроганный, подошел Иван Григорьевич к опустевшему дому своего отца. С непокрытой головой вошел в горницу и бережно обнял ослабевшую от горя мать.
– Ничего, ничего, мама…
– А я разве не так говорю? – отозвался откуда-то из-за печи плачущий Васятка.
И в эту незабываемую для троих оставшихся в живых Торопчиных минуту все так же негромко и раздельно поскрипывали на стене ходики: «Только так… только так… только так…» Движется время. И движется неуклонно вперед.
4
Боже мой, ну сколько он может тянуться, этот день!
Клавдия Шаталова в который уже раз взглянула на старинные, с висящими на цепях медными гирями часы, потом вновь безнадежно уставилась в окно. Ярко еще освещена солнцем улица. Недалеко еще протянулись от порядка домов тени, лениво копошатся в нагретом песке, в предчувствии вечера, куры.
– Клаша, а ты что чайку-то? – высунувшись из-за самовара, обратилась к Клавдии мать.
– Спасибо, не хочется мне, мамаша.
– Я по чаю не скучаю, погулять бы! – пошутил, тоже поворачиваясь к Клавдии, что он делал частенько, гость, второй секретарь райкома Петр Петрович Матвеев. – Так, что ли, Клавдия Ивановна?
– Нет, что вы! – Клаша приветливо улыбнулась Матвееву, хотя сейчас девушке этот красивый, ловкий и не скучный человек был не то чтобы неприятен, а мешал чем-то. Мешали, загораживая Клавдии выход из дому, и отец с матерью и вся эта уставленная добротной мебелью горница. Но Клавдия умела держать себя в руках. Потому и улыбалась Петру Петровичу, осчастливившему своим приходом ее отца и мать. – Сейчас не до гулянья.
– Молчи уж, заводиловка! – одобрительно оглядывая свою дочь, сказал Иван Данилович.
Он давно уже заметил, что Матвееву девушка понравилась с первого взгляда. Хороша была сегодня Клавдия. И не потому, что принарядилась для праздника, а красило волнение. Разрумянилось лицо, стали глубже и ожили обычно спокойные, даже холодноватые в своей прозрачности глаза. «Хоть кому невеста», – подумал про себя Иван Данилович и обратился к Матвееву:
– Просто удивляюсь я на своих детей, да и на всю молодежь нашу. Ведь какой год прожили, да и сейчас разве легкая наша жизнь?.. А с них как с гуся вода: поют – и никакая сила.
– Плохого тут ничего нет, Иван Данилович. В этом, хотите знать, сказывается не легкомыслие, а сознание собственной силы, вера в завтрашний день, – авторитетно сказал Матвеев.
Вообще Петр Петрович высказывался свободно, уверенно и веско. Несколько портило, правда, впечатление то, что говорил Матвеев всегда с твердым убеждением, что слушающие с ним согласятся. Хотя многим это нравилось: «Матвеев уж если скажет, так скажет. Каждое слово как гвоздем прибьет».
– Вот вернемся к вашему колхозу. Как вы думаете, почему «Заря» опять в передовики попала?
– Об этом вы спросите руководителей наших. А мы что – люди маленькие, – скромно уклонился от ответа Шаталов, – Нам ведь только за плугом ходить доверяют да шорничать.
– Маленьких людей в нашей стране нет! – со снисходительной улыбкой возразил Ивану Даниловичу Матвеев. – Сегодня вы за плугом ходите, а завтра – депутат в райсовете!
– Кабы все так думали, как вы говорите, Петр Петрович, – вступила в разговор Прасковья Ивановна. – А послушаешь наших – только и света в окне, что Торопчин да Бубенцов, Бубенцов да Торопчин. Сегодня мой Иван Данилович попробовал было возразить на правлении…
– Помолчи лучше, Прасковья, – остановил жену Шаталов. – Поспорили, правда, крепко, но… Зачем сор из избы выносить…
– Это не сор! – веско поправил Ивана Даниловича Матвеев. – Лично для меня мнение рядовых колхозников дороже всего. Я, Иван Данилович, сразу понял, что поступок вашего председателя не случайность. Кого-кого, а меня благополучными сводками не обманешь. Где сейчас Торопчин?
– А кто его знает! Я Ивана Григорьевича дён десять и в глаза не видал. А по совести сказать, хоть бы мне его и век не видеть.
– Интересно. Хотел бы я вас, товарищ Шаталов, расспросить кое о чем поподробнее. – Матвеев вынул из портсигара папиросу, энергично дунул внутрь мундштука, закурил. Потом достал из офицерского планшета блокнот.
– Клавдия, ты ведь, кажется, к тетке с утра собиралась, – обратился Шаталов к дочери.
Девушка сидела, повернувшись к окну, и лица ее в первый момент Иван Данилович не видел. А когда Клавдия отвернулась от окна, тревоги на ее лице уже не было.
Сказала равнодушно:
– Из головы вон.
Но зато внутри, под шелковой блузкой, сердце билось не так, как всегда – неслышно. Оно настойчиво постукивало тугим молоточком в грудь. Но его, свое сердце, слышала только сама Клавдия. Даже мать не замечала, что уже больше двух месяцев девушка ни днем, ни ночью не знала покоя. Видела, правда, Прасковья Ивановна, что дочь похудела и лицом стала какая-то светлая, но не додумалась объяснить это словами песни: «То не ветер ветку сушит – сушит девушку любовь». Или забыла Прасковья Ивановна свою молодость, когда против воли родительской ушла из богатого дома к батраку? Или дочь ее, Клавдия, все это время вела себя так, что обманула даже материнские глаза?
Сильная была девушка Клавдия Шаталова, самолюбивая, упрямая. Заплакать бы надо, а она смеется. Поклониться бы поласковей, а она еще выше голову поднимет и так взглянет на того, кто дороже всего на свете, что никакой надежды у человека не останется.
– Скажи тетке, что я ее буду ждать в воскресенье, – напутствовала уходящую Клавдию мать.
– Скажу.
Как же, дождется тетка приглашения!
5
Степенно прошла Клавдия Шаталова по улице села. Но, выйдя к мосту, круто свернула, птицей пронеслась по узенькой тропке, проложенной в прибрежных кустарниках, потом вдоль огородов. И только в сенях избы Торопчина задержалась, перевела дух, поправила волосы.
Ивана Григорьевича Клавдия застала в том же положении, в каком оставила его мать, Анна Прохоровна. Он сидел за столом, опустив голову на руки.
В горницу уже закрадывался вечерний полумрак.
Девушка постояла у порога, испытующе, из-под шали оглядываясь. Потом, убедившись, что в избе, кроме Ивана Григорьевича, никого нет, позвала тихонько:
– Ваня…
Торопчин не отозвался. Не шевельнулся даже.
Тогда Клавдия неслышно скользнула к столу, присела рядом, откинула шаль. К ней, доверительно мурлыча, пододвинулась кошка.
– Ваня, – позвала Клавдия уже настойчивее.
Только тогда Торопчин с усилием, как большую тяжесть, поднял от рук голову. Увидав Клавдию, не удивился. Крепко потер лоб. Сказал:
– Пришла… А я заснул, оказывается.
Зато Клавдия очень удивилась такой встрече. Обиделась даже. Сказала взволнованно:
– Смотри! Будто так и надо… Да я бы ни в жизнь не пришла.
– Я бы к тебе пришел, Клаша. Обязательно.
Иван Григорьевич улыбнулся. Потянулся так, что хрустнули в сильных плечах суставы.
– Хорошо!
– Вот так хорошо! – Клавдия взяла на руки кошку, пододвинулась ближе к Торопчину. Неожиданно для себя; заговорила совсем не о том, о чем хотелось: – Председатель-то, а? Сам Матвеев его привез. Пьяный!.. А уж тебя Бубенцов как ругает!.
– Не слышал.
– А люди-то что же, врут?
– Бывает и так. Еще и чихнуть не успеешь, а люди тебе уже «будь здоров» кричат. Эх, Клаша, я и сам иногда не понимаю, почему я так людей наших люблю? Поганки не в счет. Вот на иного смотришь и думаешь – мусорный человечишко, репей! А как доберешься до нутра…








