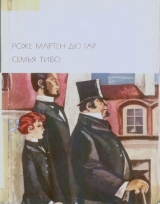
Текст книги "Семья Тибо, том 1"
Автор книги: Роже Мартен дю Гар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 82 (всего у книги 86 страниц)
Накануне вечером, проводив взглядом Жореса, который сел в такси и исчез во мраке, Жак присоединился к группе полуночников – партийных активистов, которые часто засиживались до рассвета в «Кружке пива». В отдельный зал, который это кафе на улице Фейдо предоставило социалистам, вел особый ход со двора, что позволяло держать помещение открытым даже после того, как торговля прекращалась. Споры велись с таким жаром и так затянулись, что Жак вышел оттуда лишь в три часа утра. Ему было до того лень в столь поздний час отправляться на площадь Мобер, что он подыскал себе приют в третьеразрядной гостинице в районе Биржи и, едва очутившись в постели, погрузился в глубокий сон, которого не смогли потревожить даже утренние шумы этого густонаселенного квартала.
Когда он проснулся, уже ярко светило солнце.
Совершив свой несложный туалет, он вышел на улицу, купил газеты и побежал читать их на террасе одного из кафе на Бульварах.
На этот раз пресса решилась забить тревогу. Процесс г-жи Кайо оказался оттесненным на вторую страницу, и все газеты жирным шрифтом извещали о серьезности положения, называли австрийскую ноту "ультиматумом", а мероприятия Австрии "наглой провокацией". Даже "Фигаро", которая вот уже целую неделю заполняла каждый номер стенографическим отчетом о процессе г-жи Кайо, сегодня на первой же странице крупными буквами возвещала:
"АВСТРИЙСКАЯ УГРОЗА"
И целый лист был занят сообщениями о напряженных дипломатических отношениях под тревожным заголовком:
"БУДЕТ ЛИ ВОЙНА?"
Полуофициозная "Матэн" взяла воинственный тон: "Австро-сербский конфликт обсуждался во время поездки президента республики в Россию. Двойственный союз не будет застигнут врасплох…" Клемансо[287]287
Клемансо Жорж-Бенжамен (1841–1929) – французский политический деятель, председатель совета министров и министр внутренних дел в 1906–1916 гг.; в 1917–1920 гг. – председатель совета министров Франции.
[Закрыть] писал в «Ом либр»: «Никогда с 1870 года Европа не была так близка к военному столкновению, масштабы которого невозможно измерить». «Эко де Пари» сообщала о визите фон Шена на Кэ-д'Орсе: «За австрийскими требованиями последовали германские угрозы…» – и рубрику «В последнюю минуту» завершала таким предупреждением: «Если Сербия не уступит, война может быть объявлена уже сегодня вечером». Речь шла, разумеется, только об австро-сербской войне. Но кто мог поручиться, что удастся локализовать пожар?.. Жорес в своей передовице не скрывал, что «последним шансом сохранить мир» было бы унижение Сербии и постыдное согласие на все австрийские требования. Судя по выдержкам, приводимым в прессе, иностранные газеты проявляли не меньший пессимизм. Утром 25 июля, за каких-нибудь двенадцать часов до истечения срока ультиматума, предъявленного Сербии, вся Европа (как и предсказывал австрийский генерал, о чем Жак узнал за две недели до того в Вене) проснулась в совершенной панике.
Отодвинув ворох газет, которыми завален был столик, Жак выпил простывший кофе. Из этого чтения он не вынес ничего, что ему не было бы известно; но единодушность тревоги придавала событиям некий новый, драматический оттенок. Он сидел неподвижно, взгляд его блуждал по толпе рабочих, служащих, которые выходили из автобусов и бежали, как всегда, по своим делам; но лица их были серьезнее, чем обычно, и каждый держал в руках развернутую газету. На мгновение Жак ощутил упадок духа. Одиночество невыносимо тяготило его. У него промелькнула мысль о Женни, о Даниэле, о похоронах, которые должны были состояться сегодня утром.
Он поспешно встал и двинулся по направлению к Монмартру. Ему пришло в голову подняться к площади Данкур и зайти в редакцию "Либертэр"[288]288
«Либертэр» («Libertaire») и «Боннэ руж» («Bonnet rouge») парижские левые газеты, ориентировавшиеся на рабочего читателя.
[Закрыть]. Ему не терпелось очутиться в знакомой атмосфере политической борьбы.
На улице Орсель уже человек десять ждали новостей. Левые газеты переходили из рук в руки. "Боннэ руж" посвящала первую страницу забастовкам в России. Для большинства революционеров размах рабочего движения в Петербурге являлся одной из вернейших гарантий русского нейтралитета и, следовательно, локализации конфликта на Балканах. И все в "Либертэр" единодушно критиковали мягкотелость Интернационала и обвиняли вождей в компромиссе о буржуазными правительствами. Разве не наступил подходящий момент для решительных действий – момент, когда надо было любыми средствами вызвать забастовки в других странах и парализовать все европейские правительства одновременно. Исключительно благоприятный случай для массового выступления, которое могло не только ликвидировать нынешнюю опасность, но и на несколько десятилетий приблизить революцию!
Жак прислушивался к спорам, но не решался высказать определенное мнение. С его точки зрения, забастовки в России были обоюдоострым оружием: конечно, они могли парализовать воинственный пыл генерального штаба, но могли также натолкнуть правительство, находящееся в трудном положении, на мысль применить силу – объявить осадное положение под предлогом военной угрозы и беспощадными мерами подавить народное возмущение.
Когда Жак вернулся на площадь Пигаль, часы показывали ровно одиннадцать. "Что мне надо было сделать сегодня утром в одиннадцать?" подумал он. Он забыл. В субботу, в одиннадцать… Охваченный внезапной тревогой, он старался припомнить. Похороны Фонтанена. Но он вовсе не собирался на них присутствовать… Он шагал, опустив голову, в полном замешательстве. "Не могу же я явиться в таком виде… Небритый… Правда, затерявшись в толпе… Я сейчас так близко от Монмартрского кладбища… Если я решусь, парикмахер в какие-нибудь пять минут… Зайду пожать руку Даниэлю; это будет простой любезностью… Любезность, которая ни к чему не обязывает…"
И глаза его уже искали вывеску парикмахерской.
Когда он явился на кладбище, сторож сказал ему, что процессия уже прошла, и указал ему направление.
Вскоре между могилами он увидел группу людей, собравшихся перед часовенкой с надписью:
СЕМЬЯ ДЕ ФОНТАНЕН
Со спины он узнал Даниэля и Грегори. В тишине раздавался только хриплый голос пастора:
– Господь сказал Моисею: "Я пребуду с тобой!" Итак, грешник, даже когда ты шествуешь долиною теней, не бойся, ибо господь с тобой!".
Жак обошел часовню, чтобы видеть присутствующих в лицо. Над всеми в ярком свете дня выделялась голова Даниэля, стоявшего без каски. Рядом с ним находились три женщины, закутанные в чёрные вуали. Первая была г-жа де Фонтанен. Но которая из двух Женни?
Волосы у пастора были всклокочены, взгляд исступленный; стоя с угрожающе поднятой рукой, взывал он к желтому деревянному гробу, покоившемуся под жарким солнцем на пороге склепа:
– Бедный, бедный грешник! Солнце твое закатилось еще до конца дня! Но мы не оплакиваем тебя так, как те, у кого нет надежды! Ты скрылся из нашего поля зрения, но то, что исчезло для нашего плотского взора, было лишь иллюзорной формой ненавистной плоти! Ныне ты сияешь во славе, призванный ко Христу для несения великой и торжественной Службы! Ты прежде нас явился к радостному Пришествию!.. А вы все, братья, здесь присутствующие, укрепите сердца свои терпением! Ибо пришествие Христа столь же близко для каждого из нас!.. Отче наш, в руки твои предаю души наши! Аминь.
Но вот несколько человек подняли гроб, повернули его и стали осторожно спускать на веревках в могилу. Г-жа де Фонтанен, поддерживаемая Даниэлем, склонилась над зияющей ямой. За ней – это верно, Женни? А дальше – Николь Эке?.. Затем три женщины, которых провожал служащий похоронного бюро, незаметно уселись в траурную карету, и она тотчас же медленно отъехала.
Даниэль стоял один в конце маленькой аллеи" держа в согнутой руке свою блестящую каску. У него был какой-то почти парадный вид. Стройный, изящный, он непринужденно, хотя и несколько торжественно, принимал соболезнования присутствующих, которые медленным потоком проходили мимо него.
Жак наблюдал за ним; и уже от одного того, что он смотрел на Даниэля вот так, издалека, он ощущал, как в былые времена, некую сладостную и всепроникающую теплоту.
Даниэль узнал его и, продолжая пожимать протянутые руки, время от времени обращал на него взгляд, полный дружеского удивления.
– Спасибо, что пришел, – сказал он. И нерешительно добавил: – Я уезжаю сегодня вечером… Мне бы так хотелось повидаться с тобой еще раз!
Глядя на друга, Жак думал о войне, о передовых частях, о первых жертвах…
– Ты читал газеты? – спросил он.
Даниэль взглянул на него, не вполне понимая, что он хочет сказать.
– Газеты? Нет, а в чем дело? – Затем, сдерживая настойчивые нотки в голосе, прибавил: – Ты придешь попрощаться со мной вечером на Восточный вокзал?
– В котором часу?
Лицо Даниэля засветилось.
– Поезд отходит в девять тридцать… Хочешь, я буду ждать тебя в девять часов в буфете?
– Ладно, приду.
Прежде чем распрощаться, они еще раз посмотрели друг на друга.
– Спасибо, – прошептал Даниэль.
Жак ушел, не оборачиваясь.
Несколько раз в течение этого утра Жак спрашивал себя, как относится Антуан к ухудшению политической обстановки. Сам не отдавая себе в этом отчета, он надеялся встретить брата на похоронах.
Он решил наскоро позавтракать и отправиться на Университетскую улицу.
– Господин Антуан еще кушают, – сказал Леон, ведя Жака в столовую. – Но я уже подал фрукты.
Жак с досадой увидел, что вместе с его братом за столом сидят Исаак Штудлер, Жуслен и молодой Руа. Он не знал, что они завтракают тут каждый день. (Так захотел Антуан: для него это был верный способ общаться со своими сотрудниками ежедневно между утренними часами в больнице и послеполуденными, когда он бывал занят с пациентами. И все трое были холостяками – это сберегало и время и деньги.)
– Будешь завтракать? – спросил Антуан.
– Благодарю, я уже поел.
Он обошел кругом большой стол, пожал протянутые руки и сказал, ни к кому прямо не обращаясь:
– Газеты читали?
Антуан, прежде чем ответить, несколько мгновений смотрел на брата, и взгляд его, казалось, признавал: "Может быть, ты был прав".
– Да, – задумчиво уронил он. – Мы все читали газеты.
– С тех пор как мы сели за стол, ни о чем другом и разговора не было, признался Штудлер, поглаживая свою черную бороду.
Антуан следил, чтобы его тревога не слишком прорывалась наружу. Все утро он был в состоянии какого-то глухого раздражения. Он нуждался в прилично организованном обществе, как нуждался в хорошо содержащемся доме, где все вопросы материального комфорта разрешали бы помимо него добросовестные слуги. Он готов был терпеть некоторые пороки существующего строя, закрывать глаза на те или иные парламентские скандалы, так же, как закрывал глаза на мотовство Леона и мелкие кражи Клотильды. Но ни в коем случае судьбы Франции не должны были заботить его больше, чем дела в людской или на кухне. И ему была невыносима мысль, что какие-то политические потрясения могут нарушить течение его жизни, угрожать его планам и его работе.
– Я не думаю, – сказал он, – что следует слишком сильно беспокоиться. Еще и не то бывало… Но тем не менее ясно, что сегодня утром вся пресса забряцала оружием, довольно неожиданно и довольно неприятно…
При этих словах Манюэль Руа поднял к Антуану черные глаза, горевшие на его юном лице.
– Это бряцание, патрон, услышат по ту сторону границы. И, наверно, оно собьет спесь с некоторых наших соседей, у которых слишком разыгрался аппетит!
Жуслен, склонившийся над тарелкой, поднял голову и поглядел на Руа. Затем снова занялся своим делом: тщательно, кончиками ножа и вилки, он чистил персик.
– Вот уж это неизвестно, – сказал Штудлер.
– Все же возможно, – заметил Антуан. – И, может быть, такой тон даже необходим.
– Не знаю, – сказал Штудлер. – Политика устрашения всегда губительна. Она выводит противника из себя гораздо чаще, чем парализует. Я считаю особенно серьезной ошибкой правительства то, что оно позволяет так далеко разноситься нашему… бряцанию оружием!
– Очень трудно ставить себя на место людей, ответственных за судьбы страны, – заявил Антуан благоразумным тоном.
– От этих ответственных людей прежде всего требуется, чтобы они были людьми осторожными, – возразил Штудлер. – Принимать агрессивный тон – это первая неосторожность. Внушать всем, что этот тон необходим, – вторая. Самая большая опасность для мира – это допустить, чтобы общественное мнение прочно поверило в угрозу войны… Или хотя бы в возможность войны!
Жак молчал.
– Я лично, – снова заговорил Антуан, не глядя на брата, – прекрасно понимаю министра, который, осуждая войну с чисто человеческой точки зрения, в то же время вынужден принять некоторые агрессивные меры. Вынужден хотя бы потому, что находится у власти. Человек, стоящий во главе страны и обязанный следить за ее безопасностью, если он обладает чувством реальности, если угрожающая политика соседних государств для него очевидна…
– Не говоря уже о том, – прервал его Руа, – что не может быть такого государственного человека, который решился бы из-за своей личной чувствительности любой ценой избежать войны! Если ты стоишь во главе страны, имеющей определенный международный вес, страны, обладающей немалой территорией и колониальными владениями, это обязывает тебя реально смотреть на вещи. Самый пацифистски настроенный председатель совета министров, раз он находится у власти, должен сразу же понять, что государство не может сохранять свои богатства и защищать свое достояние от посягательств со стороны соседей, если оно не обладает мощной армией, с которой надо считаться и которая должна время от времени бряцать оружием хотя бы для того, чтобы весь остальной мир знал о ее существовании!
"Охранять свои богатства! – думал Жак. – Вот оно! Охранять то, чем владеешь, и присваивать при случае то, чем владеет сосед! В этом вся политика капитализма, идет ли речь о частных лицах или о целых нациях… Частные лица ведут борьбу за прибыли, нации – за выходы к морю, территории, порты! Как будто единственный закон человеческой деятельности конкуренция…"
– К сожалению, – сказал Штудлер, – какой бы оборот ни приняли события завтра, ваше бряцание оружием может иметь самые печальные последствия для французской политики, как внешней, так и внутренней…
Говоря это, он сделал движение в сторону Жака, словно спрашивая его мнения. В зрачках его был какой-то томный, волнующий блеск, который почти вынуждал собеседника отводить глаза.
Жуслен снова поднял голову и взглянул на Штудлера; затем взгляд его скользнул по лицам всех прочих. У него было характерное лицо блондина, с тонкой и нежной кожей: нос с горбинкой, довольно длинный и какой-то унылый; большой рот с тонкими губами, легко расплывающимися в улыбку; глаза тоже большие, странные, нежно-серого оттенка.
– Послушайте, – рассеянно пробормотал он, – вы все как-то забываете, что никто ведь не хочет войны! Никто!
– Вы в этом уверены? – спросил Штудлер.
– Разве что несколько стариков, – согласился Антуан.
– Да, несколько опасных стариков, упивающихся красивыми героическими фразами, – продолжал Штудлер, – и отлично знающих, что в случае войны они, сидя в тылу, смогут упиваться ими без малейшего риска…
– Опасность, – вставил Жак с осторожностью, которую хорошо заметил Антуан, – заключается в том, что почти всюду в Европе командные посты заняты такими вот стариками…
Руа со смехом взглянул на Штудлера:
– Вы, Халиф, – ведь вы, не боитесь новых идей, – могли бы подать этакую профилактическую идейку: в случае мобилизации призывается в первую очередь самый старший возраст. Всех стариков – на передовую!
– Что ж, это было бы не так глупо! – пробормотал Штудлер.
Наступило молчание и длилось, пока Леон подавал кофе.
– А ведь есть одно средство, единственное, почти верное средство избежать каких-бы то ни было войн, – мрачно заявил Штудлер. – Средство радикальное и вполне осуществимое в Европе.
– Какое же?
– Требовать народного референдума!
Один лишь Жак кивком головы одобрил это предложение.
Штудлер, ободренный, продолжал:
– Разве это не нелепо, разве это не бессмысленно, – что у нас, при демократическом строе и всеобщем избирательном праве, право объявления войны принадлежит правительствам?.. Жуслен сказал: "Никто не хочет войны". Так вот, ни одно правительство ни в одной стране не должно было бы иметь право решать вопрос о войне или даже о том, чтобы принять навязываемую ему войну, если на то нет ясно выраженной воли большинства граждан! Когда идет речь о жизни и смерти народов, обращаться к народному волеизъявлению по меньшей мере законно. А должно бы быть даже обязательно.
Когда он начинал говорить с воодушевлением, ноздри его крючковатого носа раздувались, скулы покрывались пятнами, а белки больших, как у лошади, глаз слегка наливались кровью.
– В этом нет ничего неосуществимого, – продолжал он. – Достаточно было бы каждому народу заставить своих правителей прибавить три строчки в конституции: "Приказ о мобилизации может быть издан, война может быть объявлена лишь после плебисцита и при условии, если за это выскажется семьдесят пять процентов населения". Поразмыслите над этим. Это единственное и почти безошибочное средство законодательным путем помешать возникновению новых войн… В мирное время, – мы это наблюдаем во Франции, – иногда еще можно сколотить большинство, которое выберет в правительство какого-нибудь задиристого политика, всегда находятся любители играть с огнем. Но накануне мобилизации такому человеку, – если бы он вынужден был запрашивать волю тех, кто поставил его у власти, – пришлось бы убедиться, что никто не согласен предоставить ему право объявлять войну.
Руа ничего не говорил и только посмеивался.
Антуан встал и дотронулся до его плеча:
– Дайте-ка мне спичку, милый Манюэль… Ну, а вы что на этот счет скажете? И что сказала бы ваша газета?
Руа поднял на Антуана свой уверенный взгляд примерного ученика; он продолжал посмеиваться 6 вызывающим видом.
– Манюэль, – объяснил Антуан, повернувшись к брату, – прилежный читатель "Аксьон франсез".
– Я тоже читаю ее каждый день, – заявил Жак, внимательно оглядывая молодого врача, который, со своей стороны, в упор смотрел на него. – Там сотрудничает целая бригада неплохих диалектиков, которые довольно часто строят просто непогрешимые рассуждения. К сожалению, по крайней мере, на мой взгляд, – они почти всегда строят их на неверных посылках.
– Вы полагаете? – протянул Руа.
Он не переставал улыбаться самоуверенно и заносчиво. Казалось, он не намерен был снисходить до обсуждения с профанами тех вещей, которые были дороги ему. Он походил на ребенка, желающего сохранить свой секрет. Тем не менее в глазах его порою пробегал какой-то дерзкий огонек. И, словно суждение Жака заставило его против воли покончить со своей сдержанностью, он сделал шаг по направлению к Антуану и резко бросил:
– Ну, а я, патрон, должен вам признаться, что мне надоела франко-германская проблема! Вот уже сорок лет, как мы тащим за собой это ядро, – и наши отцы, и мы сами. Довольно! Если для того, чтобы с этим разделаться, нужно воевать, – что ж, будем воевать! Раз уж все равно иначе нельзя – зачем ждать? Зачем оттягивать неизбежное?
– Все-таки лучше будем оттягивать, – улыбаясь, сказал Антуан. – Война, которая бесконечно оттягивается, очень похожа на мир!
– А я предпочел бы покончить с этим раз и навсегда. Ибо, во всяком случае, одно можно сказать с уверенностью: после войны – победим ли мы, что весьма вероятно, или даже в случае нашего поражения – вопрос будет окончательно разрешен в ту или иную сторону. И не останется больше никакой франко-германской проблемы!.. Не говоря уже о том, – прибавил он, и лицо его приняло серьезное выражение, – какую пользу принесет нам кровопускание при нынешнем положении вещей. Сорок лет мирного прозябания в гнилом болоте не могут поднять моральное состояние страны! Если духовное оздоровление Франции можно купить лишь ценою войны, то среди нас, слава богу, найдутся такие, кто, не торгуясь, пожертвует своей шкурой!
В тоне, которым он произнес эти слова, не было и следа бахвальства. Искренность Руа была очевидна. Это почувствовали все присутствующие. Перед ними был человек убежденный, готовый отдать жизнь за то, что казалось ему истиной.
Антуан слушал его стоя, с папиросой в зубах и сощурив глаза. Не отвечая, он окинул юношу серьезным и сердечным, немного меланхоличным взглядом: смелость ему всегда нравилась. Затем уставился на горящий кончик своей папиросы.
Жуслен подошел к Штудлеру. Указательным пальцем с желтым, изъеденным кислотами ногтем он несколько раз ткнул Халифа в грудь.
– Вот видите, всегда приходится возвращаться к классификации Минковского[289]289
Минковский Оскар (1858–1931) – выдающийся немецкий психиатр.
[Закрыть]: синтоны и шизоиды, – те, которые принимают жизнь, как она есть, и те, которые ее отвергают…
Руа весело расхохотался:
– Так, значит, я синтон?
– Да, а Халиф – шизоид. Вы никогда не изменитесь – ни тот, ни другой.
Антуан повернулся к Жаку и с улыбкой посмотрел на часы:
– Ты не торопишься, шизоид?.. Зайдем-ка на минутку в мою лачугу…
– Я очень люблю маленького Руа, – сказал он, открывая дверь своего кабинета и пропуская брата вперед. – Это здоровая и благородная натура… Он такой прямодушный… Хотя, правду сказать, ограниченный, – прибавил он, заметив, что Жак неодобрительно молчит. – Ну, садись. Хочешь папиросу?.. Я уверен, он тебя немного рассердил? Надо его знать и понимать. У него темперамент спортсмена. Он любит утверждать. Он всегда радостно и даже как-то лихо принимает реальность, факты. Он не позволяет себе предаваться разрушительному анализу, хотя весьма способен критически мыслить, – по крайней мере, когда дело касается работы. Но он инстинктивно отвергает парализующее сомнение. Может быть, он и прав… С его точки зрения, жизнь не должна сводиться к интеллектуальным дискуссиям. Он никогда не говорит: "Что надо думать?" Он говорит: "Что надо делать? Как надо действовать?" Я отлично вижу его недостатки, но это по большей части ошибки молодости. Это пройдет. Ты заметил, какой у него голос? Иногда он ломается, точно у подростка; тогда он нарочно понижает его, чтобы говорить басом, как взрослые…
Жак сел. Он слушал, не высказывая одобрения.
– Мне больше нравятся двое других, – признался он. – Твой Жуслен особенно мне симпатичен.
– Ах, – смеясь, сказал Антуан, – этот тип вечно живет какими-то сказками. У него темперамент изобретателя. Он провел всю жизнь в мечтаниях о том, что лежит на грани возможного и невозможного, в полуреальном мире, где с таким умом, как у него, иногда удается делать открытия. И он их делал, чудак этакий. Даже иногда значительные. Я расскажу тебе подробно, когда у нас будет время… Руа очень забавно говорит о нем: "Жуслен только и видит, что трехногих телят. В тот день, когда он согласится посмотреть на нормального теленка, ему покажется, что перед ним чудо, и он станет всюду кричать: "Знаете, а ведь, оказывается, существуют и четырехногие телята!" Антуан во весь рост вытянулся на диване и скрестил руки на затылке. – Как видишь, я подобрал себе довольно удачную бригаду… Все трое очень разные, но замечательно дополняют друг друга… Ты был уже раньше знаком с Халифом? Он оказывает мне огромные услуги. Это человек совершенно исключительной трудоспособности. И притом необычайно одарен, скотина. Я сказал бы даже, что одаренность – его самая характерная черта. В этом и сила его, и вместе с тем ограниченность. Он схватывает все без каких-либо усилий. И каждое новое приобретение тотчас же занимает свое место у него в мозгу, место на заранее приготовленной полочке, так что в его башке никогда не бывает беспорядка. Но я всегда ощущал в нем что-то чуждое, что-то неопределимое… Вероятно, это идет от его расовой принадлежности… Не знаю, как это назвать… Его идеи словно не целиком исходят от него, словно не составляют с ним одного целого. Это крайне любопытно. Он пользуется своим мозгом не как принадлежащим ему органом, а скорее как инструментом… взятым откуда-то извне или от кого-то полученным…
Продолжая говорить, он посмотрел на часы и лениво спустил ноги с дивана.
"А ведь он читал газеты, – думал про себя Жак. – Неужели ему непонятна вся серьезность положения? Или он говорит все это, чтобы избежать откровенного разговора?"
– Ты сейчас куда? – спросил Антуан, вставая. – Хочешь, я тебя подвезу на машине?.. Мне-то нужно в министерство… на Кэ-д'Орсе.
– Вот как? – сказал заинтересовавшийся Жак, даже не скрывая удивления.
– Мне надо повидаться с Рюмелем, – с готовностью объяснил Антуан. – О, не для разговора о политике… Каждые два дня я делаю ему впрыскивание. Обычно он приезжает сюда, но сегодня от него позвонили, что он перегружен работой и не сможет уйти из своего кабинета.
– А что он думает о событиях? – прямо спросил Жак.
– Не знаю. Я как раз собираюсь порасспросить его… Заходи сегодня вечером, я тебе расскажу… Или, может быть, поедешь со мной? Это продлится не более десяти минут. Ты подождешь в машине.
Соблазненный этим предложением, Жак секунду подумал и утвердительно кивнул головой.
Тем временем Антуан перед уходом запирал ящики письменного стола.
– Знаешь, – пробормотал он, – чем я занимался только что, когда пришел домой? Искал свой воинский билет, чтобы посмотреть, куда являться по мобилизации… – Он уже не улыбался и спокойным тоном добавил: – Компьень… И в первые сутки!..
Братья молча обменялись взглядами. После минутного колебания Жак серьезно сказал:
– Я уверен, что сегодня утром тысячи людей по всей Европе сделали то же самое…
– Бедняга Рюмель, – продолжал Антуан, когда они спускались по лестнице. – Он очень переутомился за зиму и должен был на днях ехать в отпуск. А теперь – по-видимому, из-за всех этих историй, – Бертело[290]290
Бертело Филипп (1866–1934) – директор политического департамента министерства иностранных дел Франции в 1914 г.
[Закрыть] попросил его отказаться от каникул. Тогда он явился ко мне, чтобы я помог ему выдержать эту нагрузку. Я начал лечение. Надеюсь, что удастся.
Жак не слушал. Только что он убедился, что сегодня, сам не зная почему, снова ощутил к Антуану братскую любовь, горячую, но в то же время требовательную и неудовлетворенную.
– Ах, Антуан, – вырвалось у него, – если бы ты лучше знал людей, массы, трудовой народ, насколько ты был бы… другим! (И в тоне его слышалось: "Насколько ты был бы лучше… И ближе ко мне!.. Как хорошо было бы любить тебя по-настоящему…")
Антуан, шагавший впереди него, обернулся с обиженным видом:
– А ты думаешь, я их не знаю? После пятнадцатилетней работы в больнице? Ты забываешь, что вот уже пятнадцать лет каждое утро я только и делаю, что общаюсь с людьми… Людьми из всех слоев общества – заводскими рабочими, населением предместий… И я, врач, вижу людей, каковы они есть: людей, с которых страдание сбросило все маски! Неужели ты думаешь, что мой опыт не стоит твоего!
"Нет, – подумал Жак с упрямым раздражением. – Нет, это не одно и то же".
Минут через двадцать Антуан, выйдя из министерства с озабоченным лицом, вернулся к автомобилю, в котором его дожидался Жак.
– Там у них точно пожар, – пробурчал он. – Люди как ошалелые мечутся из отдела в отдел… Из всех посольств поступают телеграммы… Они с беспокойством ждут ответа на ультиматум; Сербия должна передать его сегодня вечером… – И, не отвечая на немой вопрос брата, Антуан спросил его: – Тебе куда надо?
Жак едва не сказал: "В Юма". Но ограничился ответом:
– В район Биржи.
– Туда я не смогу тебя довезти, опоздаю. Но если хочешь, доедем вместе до площади Оперы.
Усевшись в машине, Антуан сейчас же заговорил:
– У Рюмеля очень озабоченный вид… Судя по утренним разговорам в кабинете министра, большое значение придается официальной ноте германского посольства, в которой заявлено, что австрийская нота не ультиматум, а только "требование ответа в кратчайший срок". Говорят, на дипломатическом жаргоне это означает очень многое: с одной стороны, что Германия стремится немного смягчить серьезность предпринятых Австрией шагов, с другой – что Австрия не отказывается от переговоров с Сербией…
– Значит, уже до этого дошло? – сказал Жак. – До того, что люди цепляются за подобные словесные тонкости?
– Вообще-то говоря, поскольку казалось, что Сербия готова капитулировать почти без оговорок, еще сегодня утром там все надеялись на лучшее.
– Но?.. – нетерпеливо спросил Жак.
– Но только что пришло известие, что Сербия мобилизует триста тысяч человек и что сербское правительство, боясь оставаться в Белграде, слишком близко от границы, сегодня вечером намеревается покинуть столицу и переехать в центральный район страны. Из чего можно заключить, что сербский ответ вовсе не будет капитуляцией, как на это надеялись, и что Сербия имеет основания предвидеть вооруженное нападение…
– А Франция? Собирается она действовать, что-нибудь предпринять?
– Рюмель, естественно, всего сказать не может. Но насколько я его понял, в настоящий момент большинство членов правительства считает, что следует проявить твердость и в случае необходимости открыто проводить подготовку к войне.
– Опять политика устрашения!
– Рюмель говорит, – и ясно, что именно таковы указания, данные на сегодня: "При создавшемся положении вещей Франция и Россия могут удержать центральные державы от выступления лишь в том случае, если покажут, что готовы на все". Он говорит: "Если хоть один из нас отступит – война неизбежна".
– И у всех у них, разумеется, есть при этом задняя мысль: "Если, несмотря на нашу угрожающую позицию, война все же разразится, наши приготовления дадут нам преимущество!"
– Конечно. И, по-моему, это вполне правильно.
– Но центральные державы, должно быть, рассуждают точно так же! воскликнул Жак. – Куда же мы в таком случае идем?.. Штудлер прав: опаснее всего эта агрессивная политика!
– Надо полагаться на специалистов этого дела, – нервно отрезал Антуан. – Они, наверное, лучше нас знают, как поступать.
Жак пожал плечами и замолчал.
Автомобиль приближался к Опере.
– Когда мы с тобой увидимся? – спросил Антуан. – Ты остаешься в Париже?
Жак сделал неопределенный жест.
– Не знаю еще…
Он уже отворил дверцу. Антуан тронул его за рукав.
– Послушай… – Он колебался, ища слов. – Ты знаешь или, может быть, не знаешь, что теперь каждые две недели в воскресенье днем я принимаю у себя друзей… Завтра в три часа приедет Рюмель, чтобы сделать укол, и он обещал мне хоть ненадолго задержаться. Если тебе интересно повидаться с ним, приходи. Принимая во внимание обстоятельства, с ним, пожалуй, имеет смысл побеседовать.
– Завтра в три? – неопределенно протянул Жак. – Может быть… Постараюсь… Спасибо.








