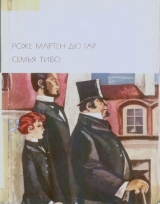
Текст книги "Семья Тибо, том 1"
Автор книги: Роже Мартен дю Гар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 86 страниц)
До самого вечера одни клиенты сменялись другими, а Антуан не замечал ни времени, ни усталости, и каждый раз, когда он открывал дверь в приемную, энергия и бодрость возвращались к нему безо всяких усилий с его стороны. Проводив последнюю клиентку, красивую молодую женщину, державшую на руках цветущего младенца, которому, как опасался Антуан, угрожала почти полная слепота, он был совершенно ошеломлен, когда заметил, что уже восемь часов. «Сейчас уже слишком поздно идти к этому мальчугану с нарывом, – подумал он. – Заеду на улицу Вернейль по дороге к Эке…»
Он вернулся в кабинет, открыл окно, чтобы проветрить комнату, и подошел к низенькому столику, где грудою лежали книги, – надо было выбрать что-нибудь для чтения во время обеда. "Кстати, – подумал он, – я ведь хотел просмотреть кое-что относящееся к случаю с маленьким Эрнстом". Он быстро перелистал номера "Нейрологического журнала" за прошлые годы, разыскивая знаменитую дискуссию 1908 года об афазии[146]146
Афазия – потеря речи в связи с нарушением деятельности головного мозга.
[Закрыть]. «Этот малыш – совершенно типичный случай, – подумал он. – Надо будет поговорить о нем с Трейяром».
Он весело улыбнулся, подумав о Трейяре и его легендарных странностях. Ему вспомнился год, проведенный им в качестве ассистента в клинике этого невропатолога. "Как это я, черт возьми, занялся такими вещами? – спрашивал он самого себя. – Надо полагать, что эти вопросы меня давно уже интересуют… Кто знает, не лучше ли мне было посвятить себя изучению нервных и душевных болезней? Эта область так малоисследована". И внезапно перед ним встал образ Рашели. Чем вызвана была такая странная ассоциация? Рашель, не обладавшая никаким медицинским и вообще научным образованием, проявляла, правда, определенный вкус к психологическим проблемам; она, несомненно, и способствовала тому, что в нем развился такой живой интерес к людям. Впрочем, – сколько раз уже подмечал он это? – непродолжительное общение с Рашелью вообще изменило его в очень и очень многих отношениях.
Его взгляд слегка затуманился, чуть-чуть погрустнел. Он продолжал стоять, устало опустив плечи, раскачивая в руке медицинский журнал, зажатый большим и указательным пальцами. Рашель… Он ощущал внезапную боль каждый раз, как вызывал в памяти образ этой странной женщины, которая прошла через его жизнь. Ни разу не получил он от нее известий и в глубине души даже не удивлялся этому: у него и мысли не было, что Рашель может быть еще жива и существовать где-нибудь на белом сеете. Погубил ли ее тропический климат, лихорадки?.. Пала ли она жертвой мухи цеце?.. Погибла ли от несчастного случая или, может быть, была задушена?.. Во всяком случае, она умерла; сомнений быть не может.
Он выпрямился, сунул журнал под мышку и, выйдя в переднюю, крикнул Леону, чтобы тот подавал обед. Внезапно ему вспомнилось одно шутливое замечание Филипа. Когда однажды, после длительного отсутствия Патрона, Антуан докладывал ему о вновь поступивших больных, Филип с не слишком довольным видом положил руку ему на рукав:
– Милый мой, вы начинаете меня беспокоить: вы все больше интересуетесь психологией больных и все меньше их болезнями!
Суп дымился на столе. Садясь, Антуан заметил, что утомился. "Какое все же прекрасное ремесло", – подумал он.
Снова вспомнился ему разговор с Жиз, но он поспешно раскрыл журнал, стараясь отогнать это воспоминание. Тщетно! Сама атмосфера этой комнаты, словно еще насыщенная присутствием Жиз, становилась для него мучительной, властно напоминая о девушке. Он вспомнил, как одолевала его, точно наваждение, мысль о ней последние несколько месяцев. И как он мог в течение целого лета лелеять подобный совершенно беспочвенный замысел? Эта разбитая мечта казалась обломками какой-то театральной декорации, которая рухнула, не оставив после себя ничего, кроме невесомой пыли. Он совсем не страдал. Он не страдал. Только самолюбие его было задето. И все это представлялось ему мелким, ребяческим, недостойным его.
К счастью, робкий звонок, раздавшийся в передней, отвлек его от этих размышлений. Он тотчас же положил салфетку и прислушался, сжимая в кулак руку, лежавшую на скатерти, готовый немедленно встать и достойным образом встретить любую неожиданность.
Сначала до него донеслись переговоры со слугой, женский шепот; наконец дверь отворилась, и Леон, к удивлению Антуана, без всяких церемоний ввел двух посетительниц. То были служанки г-на Тибо. Сначала Антуан не узнал их в полумгле, затем, решив, что они явились за ним, вскочил так порывисто, что его стул опрокинулся.
– Нет, нет, – воскликнули обе женщины, смущенные до последней степени, – простите, пожалуйста, господин Антуан! А мы-то думали, что выйдет меньше беспокойства, если придем в такое время!
"Я подумал, что отец умер", – очень просто сказал себе Антуан; и ему тотчас же стало понятно, насколько он уже подготовлен к такому концу. Ему тотчас же пришла на ум мысль о внезапной смерти от закупорки вены. И теперь, думая о длительной пытке, от которой этот удар избавил бы больного, он не мог не ощутить некоторого разочарования.
– Садитесь, – сказал он. – А я буду жевать, потому что сегодня вечером мне еще предстоит несколько визитов.
Обе женщины, однако, продолжали стоять.
Их мать, старая Жанна, лет двадцать пять служила кухаркой у г-на Тибо, но, в сущности, уже ничего не делала, так как была слишком стара, страдала расширением вен и сама признавалась, что теперь она только "старый треснувший горшок". Дочери придвигали к плите ее кресло, и она проводила так целые дни, сидя по привычке с кочергой в руке и создавая себе иллюзию некоторой ответственности: она ведь была осведомлена обо всем, что делалось на кухне, сбивала иногда майонез и с утра до вечера засыпала дочерей советами, хотя им обеим было уже за тридцать. Старшая, Клотильда, грубоватая, преданная, но не слишком услужливая, болтливая, но работящая, сохранила в обращении ту же деревенскую простоту и тот же сочный язык, что и ее мать, так как долгое время служила на ферме у себя на родине; она теперь исполняла обязанности кухарки. Другая, Адриенна, более обтесанная, чем ее старшая сестра, воспитывалась в монастыре и всегда служила по домам в городе; она любила тонкое белье, романсы, букетики цветов у себя на рабочем столике и торжественную службу в церкви св. Фомы Аквинского.
Первой, как всегда, заговорила Клотильда:
– Мы пришли из-за матери, господин Антуан. Ей, бедняге, уже дня три-четыре вроде бы совсем плохо. На животе у нее, вот тут, справа, какая-то опухоль. Ночью ей все не спится, а как она утром пойдет по своей нужде, так, слышно, хнычет там, точно дитя малое! Но она крепится, маменька-то, и ничего говорить не хочет! Надо, чтобы господин Антуан пришел, будто невзначай, верно говорю, Адриенна? – а потом вдруг сам бы заметил, что у нее гуля под фартуком.
– Это не трудно, – сказал Антуан, вынимая записную книжку, – завтра я под каким-нибудь предлогом зайду на кухню.
Пока Клотильда объясняла, Адриенна меняла Антуану тарелки, придвигала ему хлебницу, словом, по привычке старалась всячески услужить.
Она не проронила еще ни слова. Но теперь обратилась к нему неуверенным тоном:
– А скажите, господин Антуан, это… это… очень опасно?
"Опухоль, которая так быстро увеличивается… – подумал Антуан. Рискнуть на операцию в таком возрасте!" С беспощадной точностью представил он себе, что могло произойти в дальнейшем: чудовищное разрастание опухоли, повреждения, которые она причинит, постепенное удушение прочих органов… Еще хуже: ужасное медленное разложение – участь стольких больных, превращающихся в полутрупы…
Подняв брови и недовольно выпятив губу, он малодушно старался укрыться от этого боязливого взгляда, которому не сумел бы солгать. Он оттолкнул тарелку и неопределенно повел рукой. К счастью, толстая Клотильда, которая не могла выносить молчания, не нарушая его, уже ответила вместо Антуана:
– Да разве можно что-нибудь сказать заранее? Господину Антуану надо сперва поглядеть. Я только одно знаю: мужа моего покойного мать померла от простуды, а у нее перед тем пятнадцать лет живот был весь раздут!
Через четверть часа Антуан подходил к дому номер тридцать семь-бис на улице Вернейль.
Старые строения окружали темный дворик. Квартира номер три оказалась на седьмом этаже у входа в коридор, где воняло газом.
Робер открыл ему дверь, держа в руках лампу.
– Как твой брат?
– Выздоровел!
Лампа освещала взгляд мальчика, прямой, веселый, немного жесткий, не по годам зрелый взгляд, и все его лицо, напряженное от рано развившейся энергии.
Антуан улыбнулся.
– А ну, посмотрим!
И, взяв у него лампу, приподнял ее, чтобы оглядеться.
Посреди комнаты стоял круглый стол, покрытый клеенкой. Робер, по-видимому, писал: большая конторская книга лежала между откупоренной бутылкой чернил и стопкой тарелок, на которой красовались ломоть хлеба и два яблока, образуя скромный натюрморт. Комната была чисто прибрана и казалась почти комфортабельной. В ней было тепло. На маленькой плитке перед камином мурлыкал чайник.
Антуан подошел к высокой кровати красного дерева, стоявшей в глубине комнаты.
– Ты спал?
– Нет.
Больной, который, видимо, только что проснулся, привскочил, опираясь на здоровый локоть, и таращил глаза, улыбаясь без малейшей робости.
Пульс был нормальный. Антуан положил на ночной столик захваченную им с собой коробку с марлей и начал развязывать бинты.
– Что это у тебя кипит на печке?
– Вода. – Робер засмеялся. – Мы собирались заварить липовый цвет, который дала мне привратница. – Тут он лукаво подмигнул. – Хотите? С сахаром? О, попробуйте! Скажите "да"!
– Нет, нет, благодарю, – весело сказал Антуан. – Но мне нужна кипяченая вода, чтобы промыть рану. Налей-ка в чистую тарелку. Отлично. Теперь мы подождем, пока она остынет.
Он сел и посмотрел на мальчиков, которые улыбались ему, как старому другу. Он подумал: "На вид честные ребята. Но кто может поручиться?"
Он повернулся к старшему:
– А как это случилось, что вы, в таком еще возрасте, юные, живете тут совсем одни?
Ответом был неопределенный жест, движение бровей, как бы говорившее: "Ничего не поделаешь!"
– Где ваши родители?
– О, родители… – заметил Робер таким тоном, точно это была давнишняя история. – Мы прежде жили с теткой. – Он задумался и указал пальцем на большую кровать. – А потом она померла ночью, десятого августа, вот уже больше года. Было здорово трудно, правда, Лулу? К счастью, мы в дружбе с консьержкой; она ничего не сказала хозяину, мы и остались.
– А квартирная плата?
– Вносится.
– Кем?
– Да нами.
– А деньги откуда?
– Зарабатываем, как же иначе. То есть я зарабатываю. А что касается его, так тут-то и загвоздка. Ему нужно подыскать что-нибудь другое. Он служит у Бро, знаете, на улице Гренель? Мальчиком на посылках. Сорок франков в месяц на своем питании. Это ведь не деньги, правда? Подумайте, одних подметок сколько износишь!
Он замолчал и с любопытством наклонился, так как Антуан только что снял компресс. Гноя в нарыве скопилось очень немного; опухоль на руке спала, и, в общем, рана имела вполне приличный вид.
– А ты? – спросил Антуан, смачивая новый компресс.
– Я?
– Да, ты; много зарабатываешь?
– О, я… – протянул Робер и вдруг живо отчеканил, как будто весело хлопнул по ветру флаг: – Я свожу концы с концами!
Антуан удивленно поднял глаза. На этот раз они встретились с острыми, несколько смущающими глазами мальчика, и в выражении его лица Антуан уловил страстность и волю.
Мальчуган готов был рассказывать. Зарабатывать на жизнь – это была главная, единственно стоящая тема, это было то, к чему без устали стремились все его мысли с тех пор, как он начал мыслить.
Он заговорил очень быстро, торопясь рассказать все решительно, сообщить все свои тайны.
– Когда тетка померла, я как конторский мальчик зарабатывал только шестьдесят франков в месяц. Но сейчас я работаю и в суде; это выходит – сто двадцать твердого оклада. А кроме того, господин Лами, старший клерк, разрешил мне заменить полотера, работавшего раньше у нас в конторе по утрам, до прихода служащих. Это был старикан, который натирал пол только после дождливых дней, да и то лишь в тех местах, где было видно, возле окон. От замены они ничего не проиграли, могу вас уверить! Это дает мне еще восемьдесят пять франков. А кататься по комнате, точно на коньках, даже очень весело!.. – Он присвистнул. – У меня и кое-что другое есть в запасе.
Он с минуту поколебался и подождал, пока Антуан снова повернет к нему голову; окинув его быстрым взглядом, Робер, казалось, окончательно определил, что это за человек. Хотя, по-видимому, и успокоенный, он все же решил, что осторожнее будет начать с небольшого предисловия.
– Я вам это рассказываю потому, что знаю, кому можно говорить, а кому нет. Только не подавайте виду, что вам известно. Хорошо? – Затем, возвысив голос и понемногу опьяняясь собственной исповедью, он начал: – Знаете вы госпожу Жоллен, консьержку из номера три-бис, что против вашего дома? Ну так вот, – только никому не говорите, – она делает для своих клиентов папиросы… Может, даже вам как-нибудь понадобится?.. Нет?.. А они у нее хорошие, мягкие, не слишком набитые. И недорого. Да я вам непременно дам попробовать… Во всяком случае, говорят, дело это строго-настрого запрещено. Так вот, ей нужно кого-нибудь, кто бы носил товар и получал деньги, не попадаясь. Я это и делаю как ни в чем не бывало, от шести до восьми, после службы. А она зато кормит меня завтраками каждый день, кроме воскресенья. И еда у нее настоящая, ничего не скажешь. Вот вам и экономия! Не считая того, что почти всегда, уплачивая по счету, клиенты – а они все богатей – дают мне на чай, кто десять су, кто двадцать, как случится… Ну, теперь сами понимаете, что мы кое-как справляемся…
Наступило молчание. По интонации мальчугана легко было догадаться, что глаза у него слегка блестят от гордости. Но Антуан нарочно не поднимал головы.
Робер уже не мог удержаться и весело продолжал:
– Вечером, когда возвращается Луи, совсем разбитый, мы устраиваем ужин: суп, или яйца, или сыр, на скорую руку; это самое лучшее… Правда, Лулу? И даже, знаете, я иногда забавы ради вывожу заглавия для кассира. Обожаю красивые заглавные буквы, хорошо написанные, круглые: это можно даже даром делать. В конторе они…
– Передай-ка мне несколько английских булавок, – прервал его Антуан.
Он делал вид, что слушает совершенно равнодушно, опасаясь, чтобы мальчуган не слишком увлекся, забавляя его своей болтовней, но про себя тем не менее думал: "Эти ребята заслуживают того, чтобы не терять их из виду…"
Антуан кончил бинтовать. Рука мальчика снова легла на перевязь. Антуан посмотрел на часы.
– Я зайду еще раз завтра, в полдень. А потом ты уж сам будешь ко мне ходить. Думаю, что в пятницу или в субботу ты сможешь опять работать…
– Бла… годарю вас, сударь! – вырвалось наконец у больного.
Его ломающийся голос, казалось, не слушался его и так странно прозвучал среди царившего в комнате молчания, что Робер расхохотался. И в этом чересчур раскатистом смехе внезапно сказалось постоянное внутреннее напряжение, в котором пребывал слишком нервный для своих лет подросток.
Антуан достал из кошелька двадцать франков.
– Вот вам, ребята, маленькое пособие на эту неделю!
Но Робер отскочил назад и, нахмурив брови, поднял голову.
– Да что вы! Ни за что на сеете! Ведь я же вам сказал – у нас есть все, что надо! – И, желая окончательно убедить Антуана, который торопился уходить и настаивал, он решился доверить ему свою самую великую тайну. – Знаете, сколько мы уже вдвоем отложили? Целый капиталец! Угадайте!.. Тысячу семьсот! Да, да! Правда, Лулу? – И добавил, вдруг понизив голос, точно злодей из мелодрамы: – Не считая, что эта сумма еще увеличится, если моя комбинация не лопнет…
У него так заблестели глаза, что заинтригованный Антуан еще на минуту задержался на пороге.
– Новый трюк… С одним маклером по продаже вин, оливок и масла, – это брат Бассу, клерка из нашей конторы. Комбинация вот какая: возвращаясь из суда, после работы, – это ведь никого не касается, правда? – я захожу в рестораны, бакалейные и винные магазины и предлагаю товар. Надо набить руку, ну, да это придет… А все-таки за семь дней я столько уже пристроил! И Бассу говорит, что если я окажусь смышленым…
Спускаясь с седьмого этажа, Антуан смеялся про себя. Его сердце было завоевано. Для этих мальчишек он сделал бы все что угодно. "Ничего, – думал он, – нужно будет только последить, чтобы они не стали чересчур смышлеными…"
Шел дождь, Антуан взял такси. По мере того, как он приближался к предместью Сент-Оноре, его хорошее настроение исчезало и на лбу появлялись морщины.
– Ах, если бы все уже было кончено, – повторял он про себя, в третий раз поднимаясь по лестнице в квартиру Эке.
Одно мгновение он надеялся, что его пожелание исполнилось: горничная, отворившая ему дверь, как-то странно поглядела на него и живо приблизилась, чтобы сказать ему что-то. Но оказалось всего-навсего, что ей дано было секретное поручение: г-жа Эке умоляла доктора зайти в ее комнату, переговорить с ней, прежде чем он пройдет к ребенку. Уклониться было невозможно. Комната была освещена, дверь открыта. Входя, он увидел голову Николь, откинутую на подушку. Он подошел ближе. Она не шевельнулась. Она дремала. Разбудить ее было бы бесчеловечно. Она покоилась, помолодевшая, умиротворенная; и в этом сне растворились ее горе и усталость. Антуан глядел на нее, не смея шелохнуться, задерживая дыхание, и его пугало, что на этом лице, с которого только что стерлись черты горя, можно было уже прочесть такое ощущение блаженства, такую жажду забвения, счастья. Перламутровый оттенок сомкнутых век, двойная золотистая бахрома ресниц, и это бессильное оцепенение, эта томность… Каким волнующим казалось ее прекрасное открытое лицо! Какое влекущее очарование было в этих устах, изогнутых наподобие лука, в этих полуоткрытых, почти безжизненных устах, не выражавших уже ничего, кроме чувства облегчения и надежды! "Почему, – спрашивал себя Антуан, почему лицо уснувшей юной женщины кажется таким чарующим? И что таится в последних глубинах нечистой мужской жалости, которая так легко вспыхивает?"
Он повернулся на цыпочках, бесшумно вышел из комнаты и направился по коридору к детской, откуда сквозь стены доносился уже хриплый непрерывный крик. И Антуану пришлось собрать всю свою волю, чтобы найти ручку двери, переступить порог и снова войти в соприкосновение со злыми силами, царившими в этой комнате.
Эке сидел, положив ладони рук на край колыбели, поставленной посреди комнаты, и раскачивал ее с серьезным видом; по другую сторону колыбели ожидала своей очереди ночная сиделка, засунув руки под передник и склонясь под своей накидкой в позе, выражавшей бесконечное профессиональное терпение; а Исаак Штудлер, по-прежнему в белом халате, стоял, прислонившись к камину, скрестив на груди руки и поглаживая черную бороду.
При виде доктора, вошедшего в комнату, сиделка поднялась с места. Но Эке, не спускавший глаз с ребенка, казалось, ничего не замечал. Антуан подошел к колыбели. Только тогда Эке повернулся к нему и вздохнул. Антуан на лету схватил пылающую ручонку, беспокойно метавшуюся на одеяле, и тотчас же тельце ребенка скорчилось, как червяк, старающийся спрятаться в песок. Личико было красное, покрытое жилками, точно мрамор, и почти такое же темное, как резиновый мешок со льдом, положенный на ухо; мелкие локоны, белокурые, как у Николь, влажные от пота или от компрессов, прилипли ко лбу и щекам: один глаз был полузакрыт, и под опухшим веком затуманенный зрачок отливал каким-то металлическим блеском, как зрачок мертвого зверька. От движения колыбели головка чуть-чуть покачивалась то вправо, то влево, и это придавало известный ритм стонам, вырывавшимся из маленького охрипшего горла.
Предупредительная сиделка отправилась было за стетоскопом, но Антуан сделал знак, чтобы она понапрасну не беспокоилась.
– Эта мысль пришла в голову Николь, – заметил вдруг Эке почти громко, каким-то странным голосом. И, так как удивленный Антуан, по-видимому, не понимал, в чем дело, он неторопливо объяснил: – Видите, колыбелька?.. Это пришло в голову Николь…
На его губах блуждала неопределенная улыбка: он находился в состоянии полного душевного расстройства, и эти мелкие детали представлялись ему особенно значительными.
Почти тотчас же он добавил:
– Да… ее разыскали на седьмом этаже… Ее колыбельку!.. На чердаке, там столько пыли… Только это покачивание и успокаивает ее хоть немного, видите?
Антуан с волнением наблюдал за ним. В эти мгновения он понял, что все его сочувствие, как бы велико оно ни было, никогда не сможет сравниться с таким горем. Он положил руку на рукав Эке.
– Вы совсем замучились, дружище. Вам бы следовало пойти прилечь. К чему так изнурять себя?..
Штудлер поддержал его.
– Ты не спишь уже третью ночь!
– Будьте же благоразумны, – продолжал Антуан, наклоняясь над ним. – Вам понадобятся все ваши силы… очень скоро.
Он ощущал почти физическое желание оторвать несчастного от этой колыбели, как можно скорее утолить все его напрасные страдания в сонном забытьи.
Эке не отвечал. Он продолжал укачивать ребенка. Но видно было, что плечи его еще больше согнулись, как будто это "очень скоро", произнесенное Антуаном, было поистине непосильной тяжестью. Затем сам, без новых уговоров, он встал, жестом попросил сиделку заменить его у колыбели и, не вытирая щек, по которым струились слезы, повернул голову, как бы ища чего-то. Наконец он подошел к Антуану и с усилием взглянул ему в лицо. Антуан был поражен тем, как изменилось выражение его глаз: близорукий взгляд, острый и решительный, словно притупился; он перемещался медленно, а задерживаясь на чем-либо, становился тяжелым и вялым.
Эке смотрел на Антуана. Губы его задвигались раньше, чем он заговорил:
– Надо… Надо что-нибудь предпринять, – прошептал он. – Она ужасно мучается, понимаете… Зачем же ей напрасно страдать, правда? Надо иметь мужество ре… решиться на что-нибудь… – Он замолчал, ища, казалось, поддержки у Штудлера, затем его тяжелый взгляд снова встретился со взглядом Антуана. – Тибо, вы должны что-нибудь сделать…
И, словно боясь услышать ответ, он опустил голову, неуверенным шагом прошел через всю комнату и исчез.
В течение нескольких секунд Антуан стоял, застыв на месте. Потом вдруг покраснел. В голове у него теснились самые беспорядочные мысли.
Штудлер дотронулся до его плеча.
– Ну? – промолвил он тихо, глядя на Антуана.
Глаза Штудлера напоминали глаза некоторых лошадей, – удлиненные и слишком большие глаза, в которых посреди влажного белка так просторно плавает томный зрачок. Но сейчас взгляд его, как и взгляд Эке, был сосредоточен и требователен.
– Что же ты намерен сделать? – почти беззвучно прошептал он.
Наступило краткое молчание, во время которого мысли их скрещивались, точно клинки.
– Я? – неопределенно протянул Антуан; но ему было ясно, что Штудлер будет настаивать на более подробных объяснениях. – Черт возьми, я-то знаю… – бросил он внезапно, – но когда он говорит: "Что-нибудь сделать", – нельзя даже и вида подавать, что понимаешь!
– Тсс… – прошептал Штудлер.
Он бросил беглый взгляд в сторону сиделки, увлек Антуана в коридор и прикрыл за собою дверь.
– Но ты же согласен, что в дальнейших попытках нет никакого смысла?
– Никакого.
– И что больше нет никакой надежды?
– Ни малейшей.
– Так в чем же дело?
Антуан, чувствуя, что им овладевает глухое раздражение, замкнулся во враждебном молчании.
– Так в чем же дело? – повторил Штудлер. – Нечего колебаться: пусть это скорее кончится!
– Я хочу этого так же, как и ты.
– Хотеть мало.
Антуан поднял голову и твердо заявил:
– Все равно больше ничего сделать нельзя.
– Можно!
– Нет!
Диалог приобрел такой резкий характер, что Штудлер на несколько секунд замолчал.
– Уколы… – снова заговорил он наконец. – Я, право, не знаю… может быть, если усилить дозу…
Антуан резко прервал его:
– Замолчи!
Он был охвачен гневом и возмущением. Штудлер молча наблюдал за ним. Нахмуренные брови Антуана сдвинулись в прямую черту, мускулы лица сами собою сокращались, и рот кривился, а кожа на его костлявом лице временами подергивалась, как будто нервная дрожь пробегала между нею и мускулами.
Прошла минута.
– Замолчи, – повторил Антуан менее резко. – Я тебя вполне понимаю. Все мы можем испытывать это желание – скорее покончить с мучениями; но ведь это только ис… искушение начинающего! Есть одна вещь, которая важнее всего: уважение к жизни! Да, да! Уважение к жизни… Если бы ты по-прежнему был врачом, ты бы смотрел на это именно так, как смотрим на это мы все. Необходимость соблюдать известные законы… Не выходить за пределы нашей власти! Иначе…
– Единственный предел для человека, достойного этого имени, – его совесть!
– О совести-то я и говорю. О профессиональной совести… Ты только подумай, несчастный! В тот день, когда врачи присвоят себе право… Впрочем, ни один врач, слышишь, Исаак, ни один…
– Так знай… – вскричал Штудлер каким-то свистящим голосом.
Но Антуан перебил его:
– Эке раз сто приходилось иметь дело со случаями такими же му… мучительными, такими же без… безнадежными, как этот! И ни разу он сам, по своей воле, не положил конец… Никогда! И Филип тоже! И Риго! И Трейяр! И вообще ни один врач, достойный этого имени, слышишь? Никогда!
– Так знай же, – мрачно бросил Штудлер, – вы, может быть, великие жрецы, но, с моей точки зрения, вы всего-навсего подлые трусы!
Он отступил на шаг, и свет лампочки, горевшей на потолке, внезапно осветил его лицо. В нем можно было прочесть гораздо больше, чем в его словах: не только возмущенное презрение, но и нечто вроде вызова, как бы некую тайную решимость.
"Хорошо, – подумал Антуан, – я дождусь одиннадцати часов, чтобы самому сделать укол".
Он ничего не ответил, пожал плечами, вернулся в комнату и сел.
Дождь, непрерывно хлещущий по наружным стенам, размеренные удары капель по цинковому подоконнику, а здесь, в этой комнате, непрерывное качание колыбели, подчиняющее своему ритму стоны больного ребенка, – все эти звуки, перемешиваясь между собою в ночной тишине, уже овеянной дыханием смерти, сливались воедино в какой-то неотвязной, раздирающей душу гармонии.
"Я раза два-три начинал заикаться", – подумал Антуан, которому никак не удавалось прийти в нормальное состояние. (Это бывало с ним очень редко и только в тех случаях, когда ему приходилось притворяться: например, когда нужно было лгать слишком проницательному больному или когда во время разговора он вынужден был защищать какую-нибудь готовую идею, относительно которой еще не составил своего личного мнения.) "Это вина Халифа", – подумал он. Уголком глаза он заметил, что Халиф стоял на прежнем месте, спиной к камину. Антуану вспомнился Исаак Штудлер – студент, такой, каким он встретил его впервые десять лет тому назад неподалеку от Медицинского института. В ту пору весь Латинский квартал знал Халифа, его бороду, делавшую его похожим на индийского царя, его бархатный голос, могучий смех, но также и его фанатичный, мятежный, вспыльчивый характер, цельный, точно выточенный из одной глыбы. Ему предсказывали охотнее, чем кому-либо другому, блестящую будущность. Затем в один прекрасный день стало известно, что он бросил занятия ради того, чтобы немедленно начать зарабатывать на жизнь; рассказывали, что он взял на себя заботу о жене и детях одного из своих братьев, служившего в банке и покончившего с собой из-за растраты.
Крик ребенка, еще более хриплый, чем прежде, прервал нить его воспоминаний. Антуан с минуту наблюдал за судорожными подергиваниями маленького тельца, стараясь заметить, насколько часто повторялись определенные движения; но в этом беспорядочном метанье можно было прочесть не больше, чем в судорогах недорезанного цыпленка. Тогда тяжелое чувство, против которого боролся Антуан с момента своего столкновения со Штудлером, внезапно возросло до отчаяния. Ради того, чтобы спасти жизнь больного, находящегося в опасности, он способен был решиться на любой смелый поступок, пойти лично на любой риск; но биться так, как сейчас, головой об стену, чувствовать себя до такой степени бессильным пред лицом надвигающегося Врага – это было выше его сил. А в данном случае беспрерывные судороги и нечленораздельные крики этого маленького существа особенно мучительно били по нервам. Между тем Антуан привык видеть, как страдают больные, даже самые маленькие. Почему же в этот вечер ему не удалось принудить себя к бесчувствию? То таинственное, возмущающее душу, что поражает нас в агонии любого живого существа, в данную минуту невыносимо терзало его, как если бы из всех окружающих он был наименее к этому подготовлен. Он чувствовал, что задеты сокровенные глубины его души: вера в себя, вера в действие, в науку, наконец, в жизнь. Его как будто с головой захлестнула какая-то волна. Мрачной процессией прошли перед ним все больные, которых он считал безнадежными… Если сосчитать только тех, кого он видел с сегодняшнего утра, и то уже получался достаточно длинный список: четверо или пятеро пациентов из больницы, Гюгета, маленький Эрнст, слепой ребенок, эта малютка… Наверное, были и такие, о которых он забыл… Ему представился отец, пригвожденный к своему креслу, с отвисшей, влажной от молока губой… Через несколько недель, промучившись множество дней и ночей, этот крепкий старик в свою очередь… Все, один за другим!.. И никакого смысла в этом всеобщем несчастии… "Нет, жизнь абсурдна, жизнь безжалостна!" – с яростью сказал он про себя, точно обращаясь к упорствующему в своем оптимизме собеседнику; и этот упрямец, тупо довольный жизнью, был он сам, тот Антуан, которого люди видели каждый день.
Сиделка бесшумно поднялась.
Антуан взглянул на часы: пора сделать впрыскивание… Он был счастлив, что ему надо встать с места, заняться чем-то; он почти развеселился от мысли, что скоро сможет убежать отсюда.
Сиделка принесла ему на подносе все необходимое. Он вскрыл капсулу, погрузил в нее иглу, наполнил шприц до надлежащего уровня и сам вылил оставшиеся три четверти капсулы в ведро, все время чувствуя на себе пристальный взгляд Штудлера.
Сделав укол, он снова сел и стал ждать, пока не наступили первые признаки облегчения; тогда он склонился над ребенком, еще раз пощупал пульс, очень слабый, дал тихим голосом несколько указаний сиделке; затем, поднявшись без всякой поспешности, вымыл у умывальника руки, молча пожал руку Штудлеру и вышел из комнаты.








