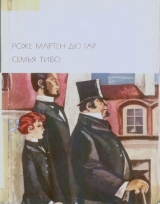
Текст книги "Семья Тибо, том 1"
Автор книги: Роже Мартен дю Гар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 86 страниц)
На этой безлюдной улице, в квартале Оперы, вдоль тротуара стояло несколько машин – только они и привлекали внимание к фасаду кабаре без вывески, с опущенными занавесками. Грум толкнул вращающуюся дверь, и Даниэль, который чувствовал себя здесь как дома, посторонился, пропуская вперед Жака и Батенкура.
Появление Даниэля было встречено негромкими возгласами. Его тут называли "Пророком", и только кое-кто из завсегдатаев знал его настоящее имя. Да и народу было мало. Из-за стойки – из ниши, откуда белая винтовая лесенка с позолоченными перилами под стать позолоте на деревянной отделке стен вела на антресоли, в покои мадам Пакмель, – неслись звуки рояля, скрипки и виолончели, исполнявших модные вальсы. Столы были придвинуты к серым плюшевым диванчикам, и несколько пар танцевали бостон на алом ковре в неярких лучах заходящего солнца, притушенных гипюровыми занавесками. Под потолком беспрерывно жужжали винты вентиляторов; раскачивались подвески на люстрах и ветви пальм, а вокруг танцующих то и дело взвевались концы муслиновых шарфов.
Новая обстановка сначала всегда как-то опьяняюще действовала на Жака, и он послушно шел вслед за Даниэлем к столику, – отсюда видны были два зала, расположенные в ряд; в дальнем Батенкур уже танцевал, попав в окружение молодых женщин.
– Тебя всюду приходится силком тянуть, – заметил Даниэль. – Ну, а раз уж ты пришел, я уверен, что ты повеселишься. Ну, признайся же, кабачок уютный и милый.
– Закажи для меня коктейль, – буркнул Жак. – Сам знаешь какой, – с молоком, смородиной и лимонной цедрой.
Прислуживали юные gerls[76]76
Девушки (англ.).
[Закрыть] в беленьких полотняных передниках и наколках, прозванные здесь «сиделками».
– Дай-ка я тебя хоть издали познакомлю с некоторыми из завсегдатаев, предложил Даниэль, пересев поближе к Жаку. – Начнем вон с той, в синем, с хозяйки. Зовут ее "мамаша Пакмель", хотя сам видишь, она еще довольно соблазнительная блондинка. Право, соблазнительная! Весь вечер снует среди своих постоянных молоденьких посетительниц с этой своей дежурной улыбкой: прямо как модная портниха, показывающая манекенщиц. Обрати внимание вон на того смуглого субъекта, вот он с ней поздоровался, а сейчас разговаривает с бледной девицей, которая только что танцевала с Батенкуром, да нет, поближе к нам, – это Поль, вон та блондинка с лицом ангела, правда, ангела чуточку распутного… Смотри-ка, она сейчас потягивает какое-то странное зелье: это, верно, зеленое кюрассо… Так вот, субъект, который стоя с ней разговаривает, – художник Нивольский, фрукт, каких мало: врун, жулик, но держится иногда по-рыцарски, прямо мушкетер. Стоит ему опоздать на свидание, и он уже уверяет, что у него была дуэль; и сам начинает в это верить. У всех он занимает деньги, всегда сидит без единого су, но таланта он не лишен, расплачивается своими картинами; и знаешь, какую штуку он придумал, чтобы было поменьше хлопот? Летом отправляется на природу, пишет на рулоне холста в пятьдесят метров длиной дорогу – самую обыкновенную дорогу с деревьями, повозками, велосипедистами, закатом солнца, ну а зимой сбывает эту дорогу по кускам, соответственно вкусу кредитора и размеру долга. Всех уверяет, будто он русский, будто бы владеет несметным числом "душ". Поэтому во время русско-японской войны все, разумеется, над ним трунили – вот, мол, торчит на Монмартре, разглагольствует о патриотизме в ресторанах. И знаешь, что он выкинул? Уехал. Целый год о нем не было слышно. И появился он только после падения Порт-Артура. Привез целую кучу военных фотографий, – вечно у него были набиты ими карманы, – и говорил: "Видите, голубчик, батарею на передовой? А за ней высоченный утес? А из-за утеса чуть-чуть высовывается дуло винтовки – это, голубчик, я и есть". Но только вот что, он привез также и несколько ящиков с этюдами и в следующие два года расплатился за все долги… сицилийскими пейзажами. Постой-ка, он почуял, что я говорю о нем, ужасно доволен и сейчас надуется, как индюк.
Жак сидел, полуоблокотившись на столик, и молчал. В иные минуты лицо у него становилось каким-то тупым: полуоткрытый рот, тусклые глаза, бессмысленный взгляд, недовольный и сонный. Слушая рассказ друга, он наблюдал за этой парой – за Нивольским и Поль, еще совсем молоденькой. Она держала в руке губную помаду; вот она округлила рот, приложила к нему алый карандаш, стала обводить губы мелкими резкими мазками, словно пробуравливала отверстие; художник смотрел на молодую женщину, вертя на пальце ее сумочку. По всему было видно, что у них чисто приятельские отношения – ресторанное знакомство, однако она то и дело притрагивалась к его рукам, к колену, поправляла ему галстук; вот он наклонился к ней, о чем-то рассказывает, и она шутливо отталкивает его, прижимает к его лицу ладошкой вниз свою узенькую бледную руку… Жак был в смятении.
Неподалеку от нее в одиночестве сидела, свернувшись в клубок, на диване темноволосая женщина, она зябко куталась в черную атласную пелерину и пожирала глазами Поль, которая, быть может, этого и не замечала.
Жак переводил свой тяжелый взгляд с одного лица на другое. Наблюдал ли он, фантазировал ли? Стоило ему посмотреть на кого-нибудь, и он тотчас же приписывал этому человеку сложные душевные переживания. Впрочем, он и не пытался анализировать то, что, как ему казалось, угадывал; да и не мог бы выразить словами все, что постигал как бы наитием, – зрелище увлекло его, и он неспособен был раздвоиться и хладнокровно осмыслять что бы то ни было. Но такое общение с людьми – воображаемое или действительное – доставляло ему неизъяснимое наслаждение.
– А это что за дылда? Вот она говорит что-то буфетчику, – спросил он.
– В голубом переливчатом платье с ожерельем до колен?
– Да. Вид у нее суровый!
– Это Мария-Жозефа. Недурна. Имя под стать императрице. Презабавная история у ее жемчужного ожерелья. Ты слушаешь меня? – говорил, улыбаясь, Даниэль. – Она была любовницей Рейвиля, сына парфюмерного фабриканта. Ну, а законная супруга Рейвиля изменяла ему с Жоссом – банкиром. Да ты слушаешь?
– Еще как слушаю!
– Вид у тебя сонный… Однажды Жоссу, а он здорово богат, вздумалось подарить своей любовнице, госпоже Рейвиль, жемчуга. Но как быть, чтобы не навести на подозрение Рейвиля? Так вот, Жосс, слава богу, не ребенок: затеял лотерею в пользу раскаявшихся девиц легкого поведения, всучил Рейвилю-мужу десять билетов по двадцать су и все так подстроил, что тот выиграл ожерелье, предназначенное его жене. Вот тут-то все и осложняется: Рейвиль пишет Жоссу благодарственное письмо, но в постскриптуме просит ни словом не обмолвиться госпоже Рейвиль о лотерее, ибо только что отослал ожерелье своей любовнице Марии-Жозефе. Постой, самое интересное под конец… Жосс в ярости, в голове у него засела одна мысль, – вновь завладеть колье или, по крайней мере, овладеть женщиной, которая его носит. Спустя три месяца он бросил госпожу Рейвиль, оттягал Марию-Жозефу у своего приятеля Рейвиля – иначе говоря променял его жену без жемчугов на любовницу с ожерельем. И доблестный Рейвиль, вчистую запамятав, что колье обошлось ему в десять монет по двадцать су, вопит направо и налево о неслыханной подлости куртизанок!.. А, здравствуйте, Верф, – произнес он, пожимая руку красивому молодому человеку – он только что вошел, и его уже окликали с другого конца зала: "Абрикос"!
– Вы ведь знакомы? – спросил он Жака, который нехотя протянул руку Верфу. – Здравствуйте, красавица, – сказал Даниэль, наклоняясь и целуя руку Поль, проходившей мимо, – Поль, худосочной приятельнице русского художника. – Разрешите вам представить моего друга Жака Тибо.
Жак поднялся.
Молодая женщина скользнула по его лицу каким-то истомленным взглядом, потом более внимательно посмотрела на Даниэля, казалось, она хотела что-то сказать, но промолчала и прошла мимо.
– Часто здесь бываешь? – спросил Жак.
– Нет. Впрочем, да. Несколько раз в неделю. Привычка. А ведь обычно мне быстро приедаются и одни и те же места, и одни и те же люди; люблю ощущать течение жизни…
"Я принят", – вдруг подумал Жак. Он глубоко вздохнул. И тут его осенила одна мысль:
– Не знаешь, когда закрывается телеграф в Мезон-Лаффите?
– Уже закрыт. Но если ты сегодня вечером пошлешь телеграмму, твой отец получит ее завтра спозаранок.
Жак знаком подозвал грума.
– Принесите бумагу и чернила.
И он стал писать своим неразборчивым почерком с лихорадочной поспешностью, и запоздалое это стремление сообщить о своем успехе было так ему свойственно, что Даниэль, склонившись через его плечо, улыбнулся. Но он тотчас же отступил, он был удивлен. Но еще больше он был раздосадован тем, что невольно допустил бестактность; вот что он прочел вместо адреса г-на Тибо: "Мезон-Лаффит, Лесная дорога, госпоже де Фонтанен".
Все с любопытством подались вперед, когда появилась пожилая дама, постоянная посетительница здешних мест, в сопровождении прехорошенькой брюнетки, которая держалась без всякой робости, но несколько натянуто, а это говорило о том, что пришла она сюда впервые.
– Эге, что-то свеженькое, – вполголоса заметил Даниэль.
Верф, проходивший мимо, усмехнулся.
– А вы и не знали? Мамаша Жюжю выводит в люди новенькую.
– Девчонка чертовски хороша, – чуть помолчав, с видом знатока заявил Даниэль.
Жак обернулся. И в самом деле она была прелестна: ясные глаза, никаких румян; вся манера держаться говорила о том, что она не принадлежит к числу постоянных посетительниц этого заведения. Одета она была в бледно-розовое кисейное платье – ни отделки, ни украшений. Рядом с ней все женщины словно поблекли – даже самые молодые.
Даниэль снова уселся возле Жака.
– Тебе надо присмотреться к мамаше Жюжю, – сказал он, – я-то с ней знаком. Своеобразная фигура. Теперь она добилась определенного положения в обществе: у нее сносная квартира, свой приемный день, она устраивает вечеринки, печется о начинающих девицах. Примечательно в ней то, что никогда она не хотела жить на содержании: смирная дешевенькая проституточка никогда не стремилась быть на виду. Тридцать лет жила по билету, выданному полицией, топталась на панели между церковью Мадлен и улицей Друо. Но жизнь свою она разделила на две части: с девяти утра до пяти вечера именовалась госпожой Барбен и вела образ жизни скромной мещаночки: снимала квартирку на антресолях, на улице Рише, была у нее висячая лампа, служанка и точно такие же заботы, как у всех обывательниц, даже тетрадь для записи расходов и биржевой бюллетень, чтобы следить за тем, как обстоит дело со сбережениями; были домашние хлопоты, родственные связи – племянники Барбены, племянницы Барбены, дни рождений, и даже раз в году она устраивала полдник для детей с танцами вокруг рождественской елки. Честное слово, все именно так и было. Ну а в пять часов вечера, в любую погоду, она сбрасывала бумазейный халатик, надевала шикарный костюм и, не испытывая никакой брезгливости, отправлялась на свой промысел. И это уже была не госпожа Барбен, а душечка Жюжю – всегда веселая, добросовестная, неутомимая, – которую знали и ценили во всех меблирашках на Бульварах.
Жак не сводил глаз с мамаши Жюжю. У нее было славное лицо, напоминавшее лицо сельского священника, – решительное, веселое, не без лукавства; на короткие седые волосы надета была соломенная шляпка, похожая на шляпу рыбака, сидящего в удочкой.
Жак, раздумывая о чем-то, повторил:
– Не испытывая никакой брезгливости…
– Именно так, – подхватил Даниэль.
И хитро, чуть вызывающе посмотрев на Жака, негромко процитировал две строчки из Уитмена:
You prostitutes flaunting over the trottoirs or obscene in your rooms,
Who am I that I should call you more obscene than myself?[77]77
Вы, проститутки, великолепные на панели и бесстыдные в ваших спальнях,
Кто я такой, чтобы называть себя менее бесстыдным, чем вы? (англ.).
«Вы, проститутки…» – Цитата из поэмы «Осенние ручьи», входящей в книгу «Листья травы» (1856) американского поэта Уолта Уитмена (1819–1892).
[Закрыть]
Даниэль знал, что задевает строгие нравственные устои Жака. И делал это умышленно, с досадой видя, что Жак, – быть может, в противовес его собственному распутству, – ведет почти совсем целомудренный образ жизни. Даниэль даже искренне тревожился по этому поводу; и знал, что иногда сам Жак бывает немного озабочен тем, как легко сносит он воздержание, хотя прежде все предвещало, что темперамент у него будет страстным. Только один раз друзья затронули этот щепетильный вопрос – дело было нынешней зимой, когда они, возвращаясь из театра, шли по Большим бульварам, где теснились влюбленные пары. Даниэля удивила отрешенность Жака.
– А ведь я вполне здоров, – заметил Жак, – удостоверился на комиссии по осмотру новобранцев, что попал в разряд сильнейших…
И Даниэлю вспомнилось, как от невысказанной тревоги осекся его голос.
От этого воспоминания его отвлек Фаври, которого он увидел еще издали, – тот кивнул им, с преднамеренной небрежностью отдал по очереди шляпу, трость и перчатки девице, приставленной к гардеробной, и спросил Жака, заранее посмеиваясь:
– Твой брат так и не пришел?
Каждый вечер Фабри надевал чуть-чуть высоковатый пристежной воротничок, новенький костюм, словно с чужого плеча, и его свежевыбритый подбородок так ретиво выдавался вперед, что Верф говорил:
– Эколь Нормаль двинулась на завоевание Вавилона.
"Я принят", – подумал Жак. И ему захотелось сейчас же незаметно уйти и нынче же вечером уехать в Мезон. Но останавливала мысль об Антуане, – ведь он обещал прийти сюда и с минуты на минуту явится. "Останусь – но завтра поеду с первым же поездом", – рассудил он. И словно ощутил, как его омывает свежесть – утреннее солнце всасывает ночную росу с дорожек… Заведение Пакмель исчезло…
Зажглись все люстры сразу, и ослепительный свет вывел его из душевной оцепенелости. "Я принят", – подумал он еще раз, словно торопясь подтвердить, что пришел в соприкосновение с действительностью. Он поискал глазами своего друга и увидел, что Даниэль сидит в уголке и негромко разговаривает с мамашей Жюжю. Даниэль сидел боком на качалке, и его оживленная речь и поза подчеркивали грациозную посадку головы, выразительность умного лица, глаз, улыбки, изящество приподнятых рук; руки, улыбка и взгляд говорили так же убедительно, как и губы. Жак любовался им. "До чего же хорош! – думал он, не отдавая ясного отчета своим мыслям. – Как чудесно, когда вот так, без остатка, настоящее может захватить молодое существо, полное жизни! Как естественны его манеры! Он и не подозревает, что я смотрю на него, и не думает об этом, да он и не боится никакого наблюдения. Застичь врасплох человека, не знающего, что его видят, в тот миг, когда обнажается вся его подноготная! Так, значит, есть люди, которые и в общественном месте могут забыть обо всем, что их окружает? Вот он говорит и весь отдается тому, о чем говорит. А я никогда естественным не бываю. Никогда я не смог бы забыться до такой степени, – да нет, пожалуй, смог бы, но только в запертой комнате, чтобы меня никто не видел. И то вряд ли!" После недолгого раздумья он решил: "Даниэль не склонен к созерцательности. Поэтому все, что он видит, не захватывает его, как меня; он остается самим собою. – Он подумал еще немного. – А меня внешний мир поглощает". И, сделав такое заключение, встал с места.
– Ну нет, красавец Пророк, и не настаивай, девочка не для тебя, говорила тем временем мамаша Жюжю Даниэлю; в его взгляде сверкнула такая ярость, что она рассмеялась. – Полюбуйтесь-ка! Садись, малыш, все у тебя и пройдет.
(То была одна из тех набивших оскомину фраз вроде; "Дитя, ты мой кумир", или "Кому какое дело", или "Все на свете ерунда, было бы здоровье", – тех нелепых фраз-штампов, менявшихся каждый сезон, которыми завсегдатаи обменивались кстати и некстати, усмехаясь при этом, как люди, посвященные в некую тайну.)
– Как же ты с ней познакомилась? – упрямо выспрашивал Даниэль.
– Ну нет, красавчик мой, повторяю, не для тебя она. Эта девчонка не чета другим. Славная она, без выкрутас, прямо клад.
– И все-таки скажи, как ты с ней познакомилась.
– А ты ее не тронешь?
– Не трону.
– Ну так вот, дело было, когда я плевритом болела. Помнишь? Узнала она об этом и является ко мне без спроса. И, заметь, знакома-то с ней я по-настоящему и не была: помогла ей разок-другой, да и то по пустякам. (Надо тебе сказать, что перед тем девчонка уже горя нахлебалась. Был у нее серьезный роман: господин из высшего общества, как я поняла, любила она его и ребенка прижила. Вот уж не скажешь, верно? Малыш сразу умер, и с ней о детях слова теперь сказать нельзя, тут же нюни распускает.) Так вот, когда, значит, ко мне плеврит привязался, она пришла и поселилась у меня, как милосердная сестра, выхаживала меня день и ночь, ласковее родной дочери, полтора месяца с гаком, ставила по сотне банок в сутки, да, красавец мой, она просто-напросто спасла мне жизнь; и притом в расход не ввела. Прямо клад. Тут-то я и дала себе зарок вызволить ее из беды. Ведь сама-то еще молода, только о своих любовных делах и думает. Я взялась вывести ее на дорогу, – а ты ведь знаешь, легко ли на дорогу вывести! (И ты бы мог мне помочь, я растолкую тебе как). Вот уже три месяца я с ней вожусь. Перво-наперво надо было найти ей имя. Звалась она Викторина. Викторина Ле Га, Ле Га в два слова, – это еще куда ни шло. Но Викторина – немыслимо! Вот я и сделала из нее Ринетту. Неплохо, верно? И за все остальное принялась таким же манером. Колен занялся с ней произношением, – у нее был бретонский выговор, и все над ней потешались; кое-что от него осталось – так, изюминка, выговаривает чуточку не по-нашему, пикантно, чуть-чуть слышится english[78]78
Английский язык (англ.).
[Закрыть], прелесть. За две недели она и бостон научилась танцевать – легонькая такая, прямо пух. И притом неглупа. Поет звонко, с огоньком, с эдаким задором, а это я просто обожаю. И вот теперь она оснащена, и нынче вечером я спускаю ее на воду; все дело теперь за попутным ветром. Да ты не смейся! Как раз тут ты мне и можешь помочь. Толковала я о ней с Людвигсоном, – ведь с того дня, как Берта его бросила, он себе места не находит. Пообещал прийти сегодня взглянуть на девчонку. Ты только намекни ему, что она тебе нравится, тут он и закусит удила. Сам понимаешь, такой вот Людвигсон ей и нужен. В голове одно у нее засело – скопить капиталец и вернуться в Бретань. Ничего не поделаешь, так уж ей хочется. Все бретонки такие. Им бы только хибарку на рыночной площади, белый чепец да церковные процессии – вот тебе и вся их Бретань! Несметных богатств ей не нужно, да она и сама быстро разбогатеет, если будет соблюдать порядок и слушаться дельных советов. Хочется мне, чтобы она сразу после почина припрятала бы ассигнаций двадцать, а я-то уж знаю, куда их вложить. Ты-то сам в денежных делах разбираешься?
– Все за стол, – раздались громкие возгласы.
Даниэль присоединился к Жаку.
– Твой брат так и не пришел? Что ж, займем места.
Все толпились вокруг длинного стола, накрытого человек на двадцать. Даниэль устроил все так, что Жак оказался слева от Ринетты; мамаша Жюжю не отпускала ее от себя ни на шаг и притиснулась к ней с правой стороны. Но в ту минуту, когда все стали занимать места и Жак уже собирался сесть, Даниэль толкнул его в бок.
– Поменяемся местами, – сказал он и, не дожидаясь ответа, так крепко потянул его за руку, что Жак, почувствовав, как пальцы Даниэля впились ему в запястье, чуть было не вскрикнул.
Но Даниэль и не подумал извиниться.
– Мамаша Жюжю, – сказал он, – по-моему, приличия ради вам следует представить меня моей соседке.
– Ах, вот ты как, – буркнула старуха, поняв маневр Даниэля. Затем, обращаясь к компании, собравшейся за столом, она возгласила: – Представляю вам всем мадемуазель Ринетту. – И добавила предостерегающим тоном: – Я ей покровительствую.
– Нас тоже представьте! Нас тоже представьте! – раздались голоса.
– Не было печали, – вздохнула мамаша Жюжю. Она нехотя поднялась, сняла шляпу и швырнула ее одной из "сиделок", прислуживавших за столом.
– Это Пророк, – начала она с Даниэля. – Человек достойный.
– Привет вам, сударь, – учтиво сказала девушка. Даниэль поцеловал ей руку.
– Дальше!
– Его друг, как звать, не знаю, – продолжала мамаша Жюжю, показывая рукой на Жака.
– Привет вам, – проговорила Ринетта.
– Затем по порядку: Поль, Сильвия, госпожа Долорес, а с ней рядом никому не ведомый мальчишка по прозванию "Дитя Чуда". Верф, по кличке "Абрикос", Габи, "Фляга"…
– Благодарю, – прервал насмешливый голос, – предпочитаю фамилию предков: Фаври, мадемуазель, один из ваших страстных воздыхателей.
– "Дитя, ты мой кумир!" – язвительно произнес кто-то.
– Лили и Гармоника, иначе "Неразлучные", – никого не слушая, продолжала мамаша Жюжю. – Полковник, красавица Мод. Господин, которого я не знаю, с двумя дамами, которых я хорошо знаю, но как их звать – забыла. Пустое место. Рядом idem[79]79
Такое же (лат.).
[Закрыть]. Батенкур, по прозвищу «Малыш Бат». Мария-Жозефа со своими жемчугами и напоследок госпожа Пакмель, – сделав реверанс, закончила мамаша Жюжю.
– Привет вам, сударь, привет вам, мадемуазель, привет вам, сударыня, звонким голоском повторяла Ринетта и улыбалась без тени смущения.
– Называть ее надо не мадемуазель Ринетта, – заметил Фаври, – а мадемуазель Привет!
– Пожалуйста, называйте, – ответила она.
– Ура, мадемуазель Привет!
Она смеялась и, как видно, была в восторге оттого, что в ее честь подняли столько шума.
– А теперь приступим к супу, – предложила г-жа Пакмель.
Жак локтем подтолкнул Даниэля и, показав ему на красный след на своем запястье, спросил:
– Какая муха тебя сейчас укусила?
Даниэль взглянул на него смеющимися глазами, без всякого раскаяния, взгляд у него был горящий и чуть диковатый.
I am he that aches with amorous love[80]80
Я тот, кого любовный пыл терзает (англ.).
Я тот, кого любовный пыл терзает… – Цитата из поэмы Уитмена «Дети Адамовы».
[Закрыть],
произнес он вполголоса.
Жак наклонил голову, чтобы получше рассмотреть Ринетту, – она как раз обернулась к нему, и он увидел ее глаза: зеленые, ясные и влажные, как устрицы.
Даниэль продолжал:
Does the earth gravitate? does not all matter aching, attract all matter?
So the body of me to all I meet or know"[81]81
И разве не притягивает нас к себе земля?
И разве вся материя всегда не мучается тяготением к всему?
Как плоть моя к всему, кого я на пути встречаю (англ.).
[Закрыть].
Жак нахмурил брови. Не в первый раз довелось ему быть свидетелем того, как Даниэль загорался страстью, охваченный такой жаждой наслаждения, что удержать его уже было невозможно. И всякий раз дружеское чувство независимо от воли Жака теряло свою силу. Забавная мелочь вдруг отвлекла его от этой мысли: он заметил, что ноздри Даниэля обросли густым черным пушком и от этого похожи на прорези маски; он отыскал глазами руки Пророка, красивые и тонкие руки, тоже покрытые темным пушком. "Vir pilosus"[82]82
Муж волосатый (лат.).
[Закрыть]. Подумал и почувствовал искушение улыбнуться. А Даниэль снова наклонился к нему и тем же тоном, словно заканчивая цитату из Уитмена, сказал:
– Fill up your neighbour's glass, my dear[83]83
Налей-ка вина своей соседке, мой милый (англ.).
[Закрыть].
– Госпожа Пакмель, сегодня меню написало неразборчиво, – прошепелявил кто-то на другом конце стола.
– Госпоже Пакмель два нуля, – заявил Фаври.
– "Все это ерунда, было бы здоровье", – глубокомысленно отвечала прекрасная блондинка.
Жак сидел рядом с Поль – этим бледнолицым падшим ангелом. За нею молча восседала девица с пышным бюстом, которая за все время не произнесла ни слова и утирала рот после каждого глотка. Подальше, почти напротив Жака, возле брюнетки с кудряшками, закрывавшими лоб, той самой, которую мамаша Жюжю назвала госпожой Долорес, мальчуган лет семи-восьми в довольно убогом черном костюмчике следил смышлеными глазками за жестами сотрапезников, и на его лице то и дело мелькала улыбка.
– Вам супа не подали? – спросил Жак свою соседку.
– Благодарю, я суп не ем.
Глаза ее были опущены, и когда она их поднимала, то смотрела только на Даниэля. Она сделала все, что могла, только бы сидеть за столом с ним рядом, и в последнюю минуту заметила, как он поменялся местом с Жаком, и рассердилась за это на Жака. И откуда только появился этот малый с угреватым лицом и чирьем на затылке? Она терпеть не могла рыжих, а этот чернявый смахивал на рыжеватого. Уж не говоря о заросшем лбе, оттопыренных ушах, тяжелой челюсти, – все это придавало ему какой-то животный вид.
– Послушай, ты почему салфетку не надеваешь? – громко сказала г-жа Долорес, дернув к себе мальчика, чтобы потуже завязать вокруг его шеи накрахмаленную салфетку, в складках которой он почти потонул.
– Если женщина не скрывает своего возраста, – кричал Фаври, споривший с Марией-Жозефой, – значит, она уже выдохлась. – Говорю вам, что она поступила в консерваторию уже перезрелой, как раз сорок пять лет тому назад, по свидетельству о рождении своей младшей сестры, омолодившись на два года. Таким образом…
– "Кому какое дело?" – сказала в сторону мамаша Жюжю.
– Фаври один из тех людей с положительным умом, которые, ввязавшись в любой разговор, сразу же доложат вам, что ускорение силы тяжести в Париже равно девяти метрам восьмидесяти сантиметрам, – заметил Верф, который когда-то собирался поступить в Училище гражданских инженеров. Прозвали его "Абрикосом" потому, что кожа у него, благодаря каждодневным спортивным упражнениям на открытом воздухе, стала золотистой и покрылась веснушками. А вообще – это был настоящий мужчина с сильными плечами, крепкими скулами и чувственными губами; по вечерам все его мускулистое тело, натренированное за день, испытывало радость жизни, и она отражалась и в его голубых глазах, и на глянцевитых щеках.
– Кто знает, отчего он умер, – произнес кто-то.
– А ты знаешь, чем он жил? – прозвучал чей-то насмешливый голос.
– Да поторапливайся же, – сказала г-жа Долорес мальчугану. – Знаешь, будет сладкое. А ты его не получишь.
– Почему? – спросил мальчик, вскидывая на нее свои лучистые глаза.
– Не получишь, и все тут – воля моя. Будь послушным. Поторапливайся.
Она заметила, что Жак внимательно смотрит на них, и улыбнулась ему с заговорщическим видом.
– Он, знаете ли, у меня с капризами, боится всего непривычного. Тебе дадут рагу из жареных голубей. Ел-то он чаще тушеную капусту в сале, чем голубей! Но вообще его совсем избаловали. Лелеяли да ласкали, – так всегда бывает с единственным ребенком. Да и мать у него долго хворала! Да, да, продолжала она, погладив его по круглой, коротко остриженной головке. Балованный мальчишка. Никуда это не годится. Зато у тетки все будет иначе. Наш барчук, видите ли, хотел по-прежнему носить локоны, как девчонка. Да уж нет, хватит капризничать да привередничать. Тебе говорят, ешь. Вон тот господин все смотрит на тебя, поживей! – Она была очень довольна, что ее слушают, и снова улыбнулась Жаку и Поль. – Малыш осиротел, – сообщила она безмятежным тоном. – Потерял мать на этой неделе. Мне-то она приходилась золовкой. От чахотки умерла у себя в деревне, в Лотарингии. Бедный малыш, добавила она. – Ему еще повезло, что я пожелала взять его на свое иждивение; у него нет никакой родни ни с отцовской, ни с материнской стороны – я у него одна. Да, забот у меня будет по горло.
Мальчуган перестал есть; он не сводил глаз с тетки. Все ли он понимал?
Он спросил каким-то странным тоном:
– Это моя мама умерла?
– Не лезь не в свое дело. Ешь, говорят.
– Не хочу больше.
– Сами видите, какой неслух, – подхватила г-жа Долорес. – Ну да, да, умерла твоя мама. Ну, а теперь слушаться – ешь. Иначе мороженого не получишь.
В эту минуту Поль обернулась, и Жак, встретившись с ней взглядом, как ему показалось, понял, что она испытывает такое же неприятное чувство, как и он сам. Ее тонкая гибкая шея была, пожалуй, еще бледнее, нем щеки, и вся она была такая слабенькая, что хотелось окружить ее нежными заботами. Жак смотрел на ее шею, на тонкую кожу с нежным пушком, и ему вдруг почудилось, будто он прикоснулся губами к чему-то сладкому. Ему хотелось что-то сказать ей, но ничего не шло на ум, и он просто улыбнулся. Она поглядывала на него украдкой и нашла, что он не так уж некрасив. И вдруг она почувствовала такую щемящую боль в сердце, что вся побелела. Она вытянула руки, положила их на край стола и, чуть откинув голову, прикусила язык, борясь с дурнотой.
Жак все видел. Она была похожа на птицу, залетевшую сюда, чтобы умереть на скатерти. Он спросил шепотом:
– Что случилось?
Веки ее были полусомкнуты, виднелись белки закатившихся глаз. Она сделала над собой усилив и, не двигаясь, тихо сказала:
– Никому не говорите.
У него так перехватило горло, что он и не смог бы позвать на помощь. Впрочем, никто не обращал на них внимания. Он посмотрел на руки Поль: застывшие пальчики, прозрачные, как тоненькие восковые свечи, были мертвенно бледны, и ногти казались лиловыми пятнами.
– Мой будильник звонит в половине седьмого, он поставлен на блюдце, а блюдце стоит на стакане… – самодовольно ворковал Фаври, обращаясь к своей соседке.
Но вот у Поль появились краски в лице, она открыла глаза; вот она повернула голову и слабо улыбнулась, словно благодаря Жака за то, что он молчал.
– Все прошло, – сказала она, вздохнув. – Бывают у меня эти приступы: колет сердце. – И, с трудом шевеля губами, еще сведенными судорогой, она добавила не без печали: "Садись, малыш, все у тебя и пройдет".
И ему захотелось взять ее на руки, унести прочь из этого злачного места; он уже мечтал посвятить ей жизнь, исцелить ее. Ах, какой любовью он окружил бы всякое слабое существо, если бы его только попросили или хотя бы согласились, чтобы он оказал поддержку!
Он готов был доверительно рассказать Даниэлю о своем несбыточном замысле, но Даниэль позабыл о Жаке.
Даниэль вел беседу с мамашей Жюжю. Между ними сидела Ринетта, и он мог то и дело поворачиваться к ней и чувствовал тепло ее тела. С самого начала трапезы он вел себя по отношению к ней предупредительно и скромно, но по тактическим соображениям разговора с ней не поддерживал, казалось, он о ней и не думает. Не раз она перехватывала его взгляд, и ей самой было непонятно, отчего этот восхищенный взгляд не льстил ей, а вызывал в душе какую-то неприязнь; его мужественное лицо было так обаятельно, оно нравилось ей, но и раздражало.
На другом конце стола довольно бурно пререкались:
– Фат, – крикнул Абрикос, обернувшись к Фаври.
Тот подтвердил:
– Э, да я и сам частенько об этом себе твержу.
– Наверняка вполголоса.
Послышался смех. Верф одержал победу.
– Милейший Фаври, – произнес он нарочито громким голосом, – с вашего позволения, замечу: вы только что говорили о женщинах так, словно вам никогда не удавалось… поговорить с ними!
Даниэль посмотрел на Фаври, который заливался смехом, и ему показалось, что бывший питомец Эколь Нормаль бросил такой взгляд в сторону Ринетты, как будто из-за нее именно и началась перепалка; в этом взгляде было что-то наглое и плотское, и Даниэль вдруг еще больше невзлюбил Фаври. Он знал о Фаври множество историй, которые могли уронить его во мнении других. И Даниэлю непреодолимо захотелось позлословить о нем перед Ринеттой. С искушениями такого рода он никогда не боролся. Он понизил голос, чтобы никто другой, кроме обеих женщин, не услышал его слов, наклонился к мамаше Жюжю, таким образом вовлекая в разговор третьего собеседника – Ринетту, и небрежно спросил:








