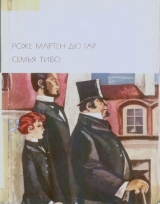
Текст книги "Семья Тибо, том 1"
Автор книги: Роже Мартен дю Гар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 62 (всего у книги 86 страниц)
– Легко издеваться над стилем, – прервал его Митгерг, вращая круглыми глазами. (Когда он воодушевлялся, его слюнные железы начинали усиленно работать, и слова сопровождались булькающим звуком.) Я согласен, что все это могло быть изложено наилучшим образом на языке рациональной философии. И все же не считаю бесполезным повторять все это снова и снова. Ведь именно благодаря предрассудкам церковники господствовали над людьми в течение веков. Без религии люди не мирились бы так долго с нищетой. Они давно уже восстали бы. И были бы свободны!
– Возможно, – согласился Жак, смяв программу и швырнув ее с мальчишеским задором в щель между ставнями. – Возможно, что такая проповедь вызовет сегодня гром аплодисментов, как в Вене, как в Милане… И я готов согласиться, что есть нечто трогательное в этой потребности все понять и тем самым освободиться от предрассудков, – потребности, в силу которой несколько сот мужчин и женщин, несмотря на жару, собираются в душной накуренной комнате, хотя куда лучше было бы сидеть на берегу озера и любоваться ночью и звездами. Но мне самому посвятить целый вечер выслушиванию подобных вещей нет, это свыше моих сил!
На последних словах его голос внезапно задрожал. Он вдруг представил себе, как пламя скручивает бумаги, разбросанные на столе, как загорается оконная занавеска, – увидел с такой ясностью, что у него перехватило дыхание. Мейнестрель, Альфреда и даже Митгерг, который не отличался наблюдательностью, взглянули на него с удивлением.
– А теперь до свидания, – сказал он отрывисто.
– Ты не пойдешь с нами в "Локаль"? – спросил Мейнестрель.
Жак уже взялся за дверную ручку.
– Мне нужно сначала зайти домой, – бросил он им.
Дойдя до улицы Каруж, он пустился бегом. На площади Пленпале он увидел отходящий трамвай и вскочил на площадку. Но на остановке у набережной, охваченный нетерпением, выпрыгнул из вагона и побежал через мост.
И только когда он выбрался из улицы Этюв и увидел знакомые дома на площади Греню, общественную уборную и мирный фасад "Глобуса", весь его панический страх испарился, словно по волшебству.
"Ну и дурак же я!" – подумал он.
Теперь он вспомнил, что закрыл фитиль медным колпачком и даже что обжег себе при этом кончики пальцев. Он чувствовал еще боль в мякоти большого пальца и осмотрел его, чтобы найти следы ожога. Воспоминание на этот раз было настолько определенным и бесспорным, что он даже не потрудился подняться на четвертый этаж, чтобы проверить точность своей памяти. Повернув обратно, он снова спустился к Роне.
С моста он увидел на голубом фоне Альп весь старинный, расположенный уступами город – от зеленых, купающихся в воде склонов до башен собора св. Петра. Жак все твердил про себя: "Вот глупость!.." Несоответствие между незначительностью происшествия и пережитым волнением оставалось для него загадкой. Он припоминал другие случаи такого же рода. Уже не впервые он становился игрушкой своего воображения. "Почему я в такие минуты способен полностью терять контроль над собой? – спросил он себя. – Какая странная и болезненная склонность побуждает меня уступать беспокойству? И не только беспокойству – подозрению…"
Запыхавшись и обливаясь потом, он вскарабкался в гору, не замечая привычных для него переулков, сумрачных и дышавших свежестью, пересеченных площадками и подъездами, которые поднимались между старинных домов с деревянными балконами, словно для того, чтобы взять приступом город.
Незаметно для себя Жак оказался на улице Кальвина. Она шла прямо вверх; торжественная и печальная, она вполне соответствовала своему имени[187]187
…на улице Кальвина… соответствовала своему имени. Кальвин Жан (1509–1564) – видный деятель церковной Реформации в Женеве. Его суровая религиозная доктрина («кальвинизм») проникнута верой в предопределение.
[Закрыть]. Отсутствие магазинов, ровная линия фасадов из серого камня, суровых и исполненных достоинства, строгая жизнь, которая невольно представлялась воображению за этими высокими окнами, – все вызывало мысль о крепком, зажиточном пуританстве. В конце этой мрачной улицы вставала радостным видением залитая солнцем площадь Святого Петра с фронтоном собора, его колоннадой и старыми липами и встречала путника, как награда.
«Воскресенье, – подумал Жак, увидев женщин и детей на паперти собора. Воскресенье, и уже двадцать восьмое июня… Мое расследование в Австрии продлится, по крайней мере, десять – пятнадцать дней… А сколько еще нужно успеть сделать до конгресса!»
Этим летом 1914 года он, как и все его товарищи, многого ждал от постановлений по основным проблемам Интернационала, которые должен был принять социалистический конгресс в Вене, назначенный на 23 августа.
Не без удовольствия думал он о миссии, возложенной на него Пилотом. Он любил деятельность: для него она была средством возвыситься в собственном мнении, избегнув при этом угрызений совести. А кроме того, он был рад уехать на несколько дней, чтобы избегнуть бесконечных собраний и споров в тесной комнате.
Живя в Женеве, он почти никогда не мог удержаться от желания закончить день в "Локале". Иногда он только заходил туда на минуту, пожимал руки двум-трем приятелям и тотчас же уходил прочь. В иные вечера, побродив между столиками, он потом уединялся вместе с Мейнестрелем в отдельной комнате; это были его лучшие дни. (Драгоценные минуты дружеской близости, создававшие ему столько завистников: ибо те, у кого за плечами были годы борьбы, те, кто принимал участие в "революционном действии", не могли понять, как может Пилот предпочесть им общество Жака.) Чаще всего он допоздна засиживался в "Локале" в кругу товарищей. Обычно он держался немного отчужденно, молчал и не принимал участия в спорах. Когда же вмешивался в беседу, то обнаруживал широкий кругозор, стремление все понять и примирить – качество ума, которое тотчас же придавало разговору необычайный поворот.
В этом космополитическом кружке, как и во всех подобных группировках, он снова встретился с двумя типами революционеров – апостолами и практиками.
Природная склонность влекла его к "апостолам" – будь они социалисты, коммунисты или анархисты. Сам того не сознавая, он чувствовал себя непринужденно в обществе этих великодушных мистиков, революционность которых исходила из того же источника, что и у него: из врожденной ненависти ко всякой несправедливости. Все они мечтали, подобно ему, о том, чтобы на развалинах существующего мира построить новое, справедливое общество. Их представление о будущем могло различаться в деталях, но чаяния их были одни и те же: новый социальный порядок, мир и братство. Подобно Жаку, – и именно в этом он чувствовал свою близость с ними, – они ревниво охраняли свое внутреннее благородство; тайный инстинкт, ощущение величия общего дела заставляли их подниматься над самими собой, превосходить самих себя. В сущности, их привязанность к революционному идеалу проистекала оттого, что они находили в нем мощный стимул, возбуждающий волю к жизни. В этом отношении "апостолы" невольно оставались индивидуалистами: хотя они и отдали свое существование борьбе за победу общего дела, но бессознательно чувствовали, что в хмельной атмосфере боев и надежд их личные силы и возможности словно удесятерялись; их темперамент обретал свободу, потому что они посвятили себя великой цели, которая превосходила их.
Но предпочтение, которое Жак оказывал идеалистам, не мешало ему признавать, что, постоянно поглощенные своей единой страстью, они действуют впустую. Истинным ферментом, бродилом революционного теста были "практики". Именно они выставляли четкие требования и готовили конкретное их осуществление. Их революционные познания были обширны и питались все новыми данными. Их фанатизм ставил себе ограниченные цели, распределенные по степени важности и отнюдь не химерические. В атмосфере идейной взвинченности, которую поддерживали "апостолы", "практики" были воплощением деятельной веры.
Самого себя Жак не относил с определенностью ни к одной из этих категорий. Очевидно, он меньше отличался от "апостолов", но ясность ума, или, по крайней мере, тяга к точным определениям, желание видеть перед собою конкретную цель, умение понимать ситуацию, людей и связывающие их отношения – все это могло бы, приложи он к тому некоторые усилия, сделать его недурным "практиком". И кто знает, может быть, при удачном стечении обстоятельств, он сделался бы даже одним из вождей? Не было ли отличительной чертой вождей соединение политических достоинств "практиков" с мистическим пылом "апостолов"? Некоторые революционные вожди, с которыми Жак сблизился, обладали этим двойным преимуществом: знанием дела (точнее – чувством действительности, настолько всеобъемлющим и вместе с тем глубоким, что они при любых обстоятельствах были способны тотчас же указать, что следует предпринять в связи с данными событиями и как изменить их ход) и авторитетом (притягательной силой, которая сразу же обеспечивала им непосредственное влияние и на людей, и, по-видимому, даже на факты и явления). А ведь Жак не был лишен ни проницательности, ни авторитета, он обладал также довольно редко встречающейся способностью внушать к себе симпатию и увлекать за собой людей; и если он никогда не стремился развить в себе эти черты, то лишь потому, что, за редким случаем, испытывал инстинктивное отвращение к мысли о том, чтобы влиять на развитие и характер деятельности себе подобных.
Жак часто размышлял о своем странном положении в этом женевском мирке. Оно представало перед ним в различном свете в зависимости от того, рассматривал ли он его по отношению к коллективу или к отдельным личностям.
По отношению ко всей группе он держался, в общем, пассивно. Значило ли это, что он не проявлял никакой активности? Конечно, нет. И это больше всего удивляло его самого. Оказалось, что он в силу обстоятельств взял на себя известную роль, и притом роль довольно неблагодарную: объяснять и оправдывать некоторые духовные ценности, некоторые достижения гуманизма, формы искусства и жизни, которые все вокруг него называли "буржуазными" и которые всеми огульно осуждались. Он же сам, – хотя, так же как и его товарищи, был убежден, что в области цивилизации буржуазия уже свершила свою историческую миссию, – сам он не доходил до признания необходимости систематического и радикального уничтожения той буржуазной культуры, которая, как он чувствовал, все еще пропитывала его насквозь. И он выступал защитником того лучшего и вечного, что было ею создано, проявляя при этом известный интеллектуальный аристократизм, в высшей степени французский, что глубоко раздражало его противников, но иногда вынуждало их если не пересматривать свои суждения, то, во всяком случае, смягчать безапелляционную форму своих приговоров. Быть может, поэтому они испытывали более или менее сознательное тайное удовлетворение оттого, что в их рядах находился этот перебежчик, который, как они знали, был глубоко предан тому же общественному идеалу, что и они, и присутствие которого среди них как бы освещало идею неизбежной и необходимой революции благословением из того мира, разрушению которого они отдавали себя.
По отношению к отдельным людям – с глазу на глаз – его личная активность принимала совершенно иной размах. Возбудив вначале некоторое недоверие к себе, он приобрел затем громадное влияние, – разумеется, на лучших. Под его сдержанностью, изысканностью чувств и манер они находили человеческое тепло, которое растопляло их скованность и подогревало доверие. Они обращались с Жаком совсем не так, как обходились друг с другом, с товарищами по коллективу. В свои отношения с ним они вносили оттенок интимности и сердечности. Они делились с ним своими сомнениями, колебаниями. В иные вечера дело доходило до того, что они поверяли ему самое затаенное свой эгоизм, свои человеческие недостатки и слабости. Возле него они яснее осознавали самих себя и черпали в этом новые силы. Они спрашивали у него совета, как если бы он владел в области внутренней жизни той истиной, которую на самом деле он везде и всегда искал для себя, и, таким образом, сами о том не подозревая, они жестоко смущали его; придавая его личности, его словам большее значение, нежели он хотел, они обязывали его все время держать себя в руках, молчать, не показывать другим своих ошибок, сомнений, разочарований; они возлагали на него ответственность, которая создавала вокруг него изолирующую зону и безжалостно обрекала его на одиночество. Порою это доводило Жака до отчаяния. "Откуда у меня этот незаслуженный престиж?" – спрашивал он себя. И в таких случаях вспоминал об излюбленной фразе Антуана: "Мы – Тибо… В нас есть нечто такое, что вызывает уважение…" Однако он легко избегал этих ловушек гордости, слишком ясно, увы, сознавая свою слабость, чтобы допустить, что какая-то таинственная сила может излучаться от него.
Кафе «Локаль», которое близкие к Мейнестрелю люди называли обычно «Говорильней», укрылось в самом центре верхней части города, на старинной улице Заставы, против собора.
Снаружи здание казалось непривлекательным. То была одна из старых, обветшалых построек, какие еще уцелели кое-где в этом чинном квартале. Четырехэтажный фасад был покрыт розоватой штукатуркой, потрескавшейся и изъеденной селитрой, и прорезан окнами без ставен, с подъемными рамами и такими пыльными стеклами, что строение выглядело нежилым. От улицы дом был отделен узким двором, окруженным стенами и заваленным кучами мусора и железного лома, среди которых рос большой куст бузины. Входных ворот более не существовало. Оставшиеся от них каменные столбы были соединены между собой куском цинка, образующим вывеску, где еще можно было прочесть: "Медеплавильня". Плавильня давно уже выехала, но сохранила за собой дом в качестве товарного склада.
За этим-то необитаемым помещением и скрывался "Локаль". Кафе занимало двухэтажный флигель во втором дворе, невидимый с улицы; туда можно было пройти по сводчатому коридору, пересекавшему из одного конца в другой бывшую плавильню. В нижнем этаже флигеля помещался в свое время каретный сарай. Там жил Монье, мастер на все руки. Верхний этаж состоял из четырех комнат, расположенных анфиладой, вдоль которой шел темный коридор. Самая дальняя из них представляла собой тесный кабинет, ставший благодаря Альфреде чем-то вроде личной приемной Пилота. Остальные три комнаты, довольно обширные, служили местом для собраний. В каждой из них стояло по дюжине стульев, несколько скамеек и столов, на которых были разложены газеты и журналы: в "Локале" можно было найти не только социалистическую печать всей Европы, но и значительную часть нерегулярных революционных изданий – иногда выходили один за другим несколько номеров, посвященных пропаганде, а затем издание приостанавливалось на срок от полугода до двух лет, потому что касса была пуста или редакторы оказывались в тюрьме.
Как только Жак миновал сводчатый коридор и достиг заднего двора, гул оживленных споров, долетавший из открытых окон верхнего этажа, возвестил ему о том, что сегодня "Говорильня" полна народа.
Внизу на лестнице три собеседника с воодушевлением разговаривали не то по-испански, не то по-итальянски. Это были три убежденных эсперантиста. Один из них, Шарпантье, педагог, нарочно приехавший из Лозанны, чтобы послушать доклад Жанота, редактировал довольно распространенный в революционных кругах журнал: "Леманский эсперантист". Он пользовался любым случаем, чтобы заявлять, что одной из первых потребностей основанного на интернационализме мира будет универсальный язык, что введение эсперанто как вспомогательного средства общения для всех национальностей облегчит людям духовный и материальный взаимообмен; при этом он любил ссылаться на священный авторитет Декарта, который в одном частном письме совершенно определенно выразил пожелание, чтобы был изобретен "универсальный язык", крайне легкий для изучения, произношения и письма и – что самое главное – способствующий ясности суждений…".
Жак подал руку всем троим и поднялся наверх.
На площадке лестницы, стоя на четвереньках, Монье приводил в порядок комплект "Форвертс"[188]188
«Форвертс» («Vorwarts») – центральный орган Социал-демократической партии Германии (в 1891–1933 гг.).
[Закрыть]. По профессии он был официантом. Сказать по правде, он редко занимался своим ремеслом, хотя в любое время года и в любой час носил жилет с глубоким вырезом и целлулоидную манишку; он довольствовался тем, что каждый месяц одну неделю сверхурочно работал в пивной, что обеспечивало ему досуг на остальное время, которое он посвящал исключительно «служению революции». Всем обязанностям он отдавался с одинаковым пылом: занимался по хозяйству, был курьером, размножал листовки, разбирал периодические издания.
В первой комнате, из которой была широко открыта дверь на лестницу, Альфреда и Патерсон разговаривали между собой, стоя одни у окна. В обществе англичанина – Жак еще раньше заметил это – молодая женщина охотно отказывалась от своей обычной роли молчаливой помощницы; казалось, что при нем она находила себя, свое лицо, которое в других случаях скрывала, – быть может, из робости. Альфреда держала под мышкой портфель Мейнестреля, а в руке – брошюру, из которой она что-то вполголоса читала Патерсону, слушавшему рассеянно, с трубкой в зубах. Он разглядывал склоненное над книжкой лицо, черную бахрому волос, тень, которую ресницы отбрасывали на ее щеки, удивительную матовую кожу и, наверное, думал: "Вот бы написать эту живую плоть…" Ни тот, ни другая не заметили, что Жак прошел мимо.
Во второй комнате собралось многочисленное общество. Возле двери сидел папаша Буассони со свисавшим на ляжки животом. Вокруг него стояли Митгерг, Герен и букинист Харьковский.
Буассони пожал руку Жака, не прерывая своей речи:
– Однако… однако… Что же это доказывает? Все то же самое: недостаточность революционного динамизма… Почему? Слабость мышления! – Он откинулся назад, положив руки на колени, и улыбнулся.
Каждый день он приходил одним из первых. Он обожал споры. Это был француз, бывший профессор естественнонаучного факультета в Бордо; занятия антропологией привели его к антропосоциологии, а смелость его лекций в конце концов сделала его подозрительным в глазах университетского начальства, и он нашел себе пристанище в Женеве. В его наружности была странная особенность: огромная голова и совсем маленькое личико. Широкий лоб, переходящий в лысину, отвислые щеки и несколько подбородков один над другим окаймляли его физиономию рамой лишнего мяса, а в центре, на маленьком пространстве, были сосредоточены все черты лица: глаза, сверкавшие хитростью и добротой, короткий нос с жадными широкими ноздрями, словно чующими добычу, толстые губы, постоянно готовые улыбнуться. Казалось, вся жизнь толстяка сконцентрирована в этой миниатюрной живой маске, затерянной, словно оазис, в пустыне бледного жира.
– Я уже сто раз говорил, – продолжал он, как лакомка, облизывая губы, борьбу надо вести прежде всего на философском фронте!
Митгерг неодобрительно сверкнул глазами из-за очков. Он покачал взъерошенной головой:
– Действие и мысль должны быть едины!
– Вспомните, что произошло в Германии в девятнадцатом веке… – начал Харьковский.
Папаша Буассони хлопнул себя по ляжкам.
– Вот, вот именно! – сказал он, смеясь, уже предвкушая победу в споре. Пример немцев…
Жак знал заранее все, что скажет каждый из них: менялся только порядок возражений и аргументов, как расположение пешек на шахматной доске.
В центре комнаты стояли Желявский, Перинэ, Сафрио и Скада, образуя оживленный квартет. Жак подошел к ним.
– В капиталистической системе все тесно переплетено, все так прочно держится! – заявил Желявский, русский с длинными усами цвета пеньки.
– Вот почему надо только подождать, дорогой Сергей Павлович, прошептал еврей Скада, с упрямой мягкостью выговаривая слова. – Крушение буржуазного мира совершится само собой…
Скада был израэлит из Малой Азии, человек лет пятидесяти. Крайне близорукий, он носил на крючковатом оливковом носу очки с толстыми, как линзы телескопа, стеклами. Он был очень некрасив: курчавые короткие волосы, словно приклеенные к яйцевидному черепу, огромные уши, но при этом теплый, задумчивый взгляд, полный неистощимой нежности. Он вел аскетический образ жизни. Мейнестрель называл Скаду – "мечтательный азиат".
– Как дела? – произнес глубокий бас, и в то же мгновение тяжелая рука опустилась Жаку на плечо. – Жарковато, а?
Это появился Кийёф. Он обошел собравшихся, расточая рукопожатия и возгласы: "Как дела?" Он никогда не дожидался традиционного: "А у тебя как?" И сам отвечал зимой и летом: "Жарковато, а?" (Только сугробы снега на улицах заставили бы его изменить эту формулу.)
– Крушение, быть может, еще далеко, но оно не-из-беж-но, – повторил Скада. – Время работает на нас. И это позволит нам умереть без сожаления… – Его дряблые веки опустились, и улыбка, ни к кому не обращенная, просто выражавшая его уверенность, медленно проползла по длинным, зашевелившимся, как змеи, губам.
Жан Перинэ выражал ему одобрение короткими и решительными кивками головы:
– Да, время работает!.. Везде! Даже во Франции.
Он говорил быстро и громко, ясным голосом; простодушно высказывал все, что приходило на ум. Его парижское произношение вносило забавную черточку в это космополитическое собрание. Ему можно было дать лет двадцать восемь тридцать. Тип молодого рабочего из провинции Иль-де-Франс: оживленный взгляд, пробивающиеся усики, выразительный нос, вид опрятный и здоровый. Он был сыном мебельного фабриканта из Сент-Антуанского предместья. Совсем молодым он из-за какой-то романической истории ушел из семьи, узнал нищету, посещал анархистские кружки, сидел в тюрьме. Преследуемый после стычки с лионской полицией, бежал за границу. Жак очень любил его. Иностранцы держались от Перинэ на известном расстоянии: их смущала его смешливость, его выходки; в особенности оскорбительной казалась его неприятная привычка называть их в разговоре "макаронщик", "колбасник"… Он же не видел в этом ничего обидного: разве не называл он самого себя "парижской штучкой"?
Перинэ повернулся к Жаку, словно призывая его в свидетели:
– Во Франции, даже в среде фабрикантов и заводчиков, новое поколение уже чует, куда дует ветер. Оно чувствует, что, в сущности, все уже кончено, что масленица не может продолжаться вечно, что скоро земля, рудники, заводы, акционерные общества, средства транспорта – все неизбежно отойдет к массам, к обществу трудящихся… Молодые знают это. Не правда ли, Тибо?
Желявский и Скада быстро повернулись к Жаку и бросили на него испытующий взгляд, словно вопрос надо было выяснить срочно и они ожидали его мнения, чтобы принять решение исключительной важности. Жак улыбнулся. Конечно, он не меньше, чем они, придавал значение этим признакам социальных перемен; но меньше, чем они, верил в полезность подобных разговоров.
– Это верно, – согласился он. – Я думаю, что у многих молодых французских буржуа вера в будущее капитализма втайне пошатнулась. Они еще пользуются благами, которые дает им эта система, они даже надеются, что ее хватит на их век, однако уже не могут жить со "спокойной совестью"… Но и только. Не будем слишком спешить с выводом, что они готовы разоружиться. Я думаю, наоборот, что они будут отчаянно защищать свои привилегии. Они еще дьявольски сильны! К тому же они располагают еще одним печальным преимуществом: молчаливой покорностью большинства тех несчастных, которых они эксплуатируют!
– А кроме того, – сказал Перинэ, – они еще держат в своих лапах все командные посты.
– Они не только фактически их держат, – продолжал Жак, – но в настоящий момент почти что имеют некоторое право их занимать… Ведь, в конце концов, где найдешь…
– "Воспоминания пролетария"! – заревел внезапно Кийёф. Он остановился в глубине комнаты перед столом, где букинист Харьковский, исполнявший обязанности библиотекаря, каждый вечер раскладывал поступавшие с почты газеты, журналы, книги. Видны были только его склоненная голова и массивные плечи, трясущиеся от смеха.
Жак закончил фразу:
– …где найдешь за короткий срок достаточное количество образованных людей, специалистов, способных занять их места? Почему ты улыбаешься, Сергей?
Желявский с минуту смотрел на Жака смеющимся и сердечным взглядом.
– В каждом французе, – сказал он, покачивая головой, – сидит скептик и спит только вполглаза…
Кийёф повернулся на каблуках. Он окинул взглядом различные группы собравшихся и направился прямо к Жаку, потрясая новенькой брошюрой.
– "Эмиль Пушар. Детские воспоминания пролетария"… Что это такое, скажите на милость, а?
Он смеялся, таращил глаза, выставляя вперед свою жизнерадостную физиономию и заглядывал всем по очереди в лицо с комическим негодованием, которое он шутки ради немного преувеличивал.
– Еще один незадачливый товарищ, а?.. Олух, решающий "проблемы"! Писака, который приспосабливает свою книжонку к уровню пролетариата!
Кийёфа называли то "Трибуном", то "Сапожником".
Он был родом из Прованса. После многих лет плавания в торговом флоте, перепробовав двадцать профессий во всех средиземноморских портах, он осел в Женеве. В его сапожной мастерской вечно толпились безработные активисты, находившие там в часы, когда "Локаль" был закрыт, зимой – жарко натопленную печь, летом – прохладительные напитки и во всякое время года – табак и оживленные споры.
Его певучий голос южанина обладал способностью увлекать людей, и он, не отдавая себе в том отчета, пользовался этим на редкость успешно. Нередко на массовых собраниях он молча просиживал два часа, скорчившись на скамейке, но вдруг под конец вскакивал на трибуну и, не высказывая ничего нового, одной лишь магией своего красноречия делал убедительными чужие идеи, воодушевлял всех несколькими фразами и заставлял принимать решения, для которых не могли собрать большинство голосов самые искусные ораторы. В таких случаях трудно бывало остановить это щедрое словоизвержение, потому что его безудержный порыв, звучность голоса, чувство, будто в нем возникает некий ток и от него распространяется по залу, – все это доставляло ему физическое наслаждение, такое острое, что он никак не мог им насытиться.
Он перелистывал книжку, пробегая глазами названия глав и водя толстым указательным пальцем по строкам, как ребенок, читающий по складам:
– "Семейные радости"… "Теплота домашнего очага"… Вот, шкура! – Он закрыл книгу и вдруг, раскачав ее в руке и согнув колени, точным движением игрока в кегли, швырнул ее на стол. – Слушай, – сказал он, снова обращаясь к Жаку, – я тоже хочу написать свои воспоминания. Почему бы нет? Ведь и у меня были свои семейные радости! И воспоминания детства у меня есть! И даже столько, что хватит одолжить тем, у кого их нет!
Другие группы, привлеченные раскатами его голоса, уже приближались к нему; выходки Трибуна имели свойство время от времени разряжать атмосферу этих дискуссий в тесном кругу.
Он оглядел свою аудиторию, прищурив глаза, и начал очень искусно, приглушенным голосом, конфиденциальным тоном:
– Квартал Эстак в Марселе все знают, верно? Ну, так вот, мы жили вшестером в конце переулка на Эстаке. Две комнаты, да такие, что обе уместились бы в половине этой. А одна была без окон… Отец поднимался при свечах, на холодном рассвете, и вытаскивал меня из груды тряпок, в которых я спал вместе с братьями, потому что он не любил, чтобы храпели, когда он уже встал. Вечером, очень поздно, он возвращался полупьяный, измученный, бедняга, катаньем бочек по портовой набережной. Мать, постоянно больная, тряслась над каждым грошом. Она боялась отца не меньше, чем мы. Ее тоже целый день не было дома, – не знаю точно, кажется, она работала поденно по хозяйству в городе… Я был сфабрикован первым по счету, – такая мне выпала честь! – потому нес ответственность за троих малышей. И давал же я им тумаков, любо было посмотреть, когда они меня выводили из себя своим хныканьем, сопливыми носами, своими ссорами… И ни ложки горячего супа за весь день! Ломоть хлеба, луковица, дюжина оливок, иногда кусочек сала. Ни вкусной еды, ни доброго слова, ни развлечений – ничего. С утра до вечера шляйся по улице, дерись друг с другом из-за каждого гнилого апельсина, найденного в канаве… Мы вылизывали раковины от устриц, брошенные бездельниками, которые смаковали их, запивая стаканчиком белого вина, на тротуаре… В тринадцать лет мы уже путались с девчонками за заборами на пустырях… Вот шкура! Мои семейные радости!.. Холод, голод, несправедливость, зависть, возмущение… Меня отдали в ученики к кузнецу, который платил мне пинками в зад. Пальцы постоянно обожжены раскаленным железом, в голове жар от углей, а руки разламываются от кузнечных мехов!..
Он повысил тон, его голос стал вызывающим и дрожал от удовольствия. Быстрым взглядом окинул он своих слушателей, как бы говоря: "Мне тоже есть что порассказать из воспоминаний детства!"
Жак поймал смеющийся взгляд Желявского. Русский сдержанным движением руки остановил Кийёфа и спросил:
– Как ты пришел в партию?
– Это было давно, – сказал Кийёф. – Службу я проходил во флоте. Мне посчастливилось попасть в одну каюту с двумя парнями, которые знали, они занимались пропагандой. Я начал читать, учиться. Другие тоже. Мы давали друг другу книжки, спорили… Грызлись порядком… А через полгода у нас составилась целая группа… Когда я расстался с ними, я уже понял: я стал человеком…
Он замолчал, потом, глядя прямо перед собою в пространство, продолжал:
– Мы составляли целую группу… Целый отряд "твердокаменных". Что с ними сталось? Они-то не пишут воспоминаний, эти ребята! Как поживаете, красавицы? – закричал он, галантно повернувшись к двум подошедшим молодым женщинам. – Жарковато, а?
Круг расширился, чтобы дать место вновь пришедшим – швейцаркам Анаис Жюлиан и Эмилии Картье. Одна была учительницей, другая – сестрой милосердия от Красного Креста. Они жили в одной квартире и обычно вместе приходили на собрания. Анаис, учительница, говорила на нескольких языках и печатала в газетах переводы иностранных революционных статей.
Они были совершенно не похожи друг на друга. Младшая, Эмилия, была маленькая, полная брюнетка; ее лицо, обрамленное голубой вуалью, которая так ей шла, что она никогда с ней не расставалась, было молочно-розовым – как у английского бэби. Всегда веселая, слегка кокетливая; оживленные движения, язычок бойкий, но не злой. Больные обожали ее. Кийёф тоже. Он преследовал ее полуотеческими поддразниваниями. С неподражаемой серьезностью он объяснял: "Она не то чтобы красива, но, черт возьми, умеет себя подать!"
Другая, Анаис, была тоже брюнетка, с грубоватым лошадиным лицом, скуластая и румяная. Но и та и другая производили впечатление какого-то равновесия, какой-то словно излучавшейся от них внутренней силы – того благородства, которое свойственно людям, не знающим разлада между тем, что они думают, что представляют собой и что делают.








