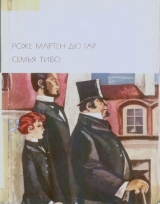
Текст книги "Семья Тибо, том 1"
Автор книги: Роже Мартен дю Гар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 76 (всего у книги 86 страниц)
В большой гостиной с лакированными ширмами (Антуан раз навсегда запретил Леону впускать кого бы то ни было в его маленький кабинет) сидела и скучала г-жа де Батенкур.
Окна были открыты. День склонялся к вечеру, в воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения. Анна повела плечами, и ее легкое вечернее манто упало на спинку кресла.
– Придется подождать, бедненький мой Феллоу, – сказала она вполголоса.
Уши болонки, лениво раскинувшейся на ковре, слегка задрожали. Анна купила этот клубок светлого шелка на выставке тысяча девятисотого года и упорно таскала повсюду свою одряхлевшую диковинку с испорченными зубами и сварливым характером.
Внезапно Феллоу поднял голову, и Анна выпрямилась: оба они узнали быстрые шаги Антуана, его манеру резко открывать и закрывать двери.
Действительно, это был он. Лицо его выражало привычную профессиональную озабоченность.
Легким поцелуем он коснулся волос Анны, затем ее затылка. Она вздрогнула. Подняла руку и медленно провела пальцами по его красивому квадратному лбу, властным выпуклостям надбровий, вискам, щеке. Затем на мгновение задержала в своей ладони его челюсть, крепкую челюсть Тибо, которая ей нравилась и одновременно внушала страх. Наконец подняла голову, встала и улыбнулась:
– Да взгляните же на меня, Тони… Не так, ваши глаза повернуты ко мне, но взгляд где-то блуждает… Ненавижу, когда вы напускаете на себя вид великого человека!
Он взял ее за плечи и держал перед собой, сжимая руками выступы лопаток. Затем слегка отодвинулся, не отнимая рук, и оглядел ее сверху донизу взглядом собственника. Сильнее всего привязывало его к Анне не то, что она до сих пор сохранила свою красоту, но то, что она, казалось, была создана природой нарочно для любви.
Она отдавалась его пытливому взору, обратив на него глаза, полные жизни и радости.
– Я только переоденусь и затем поступаю в полное ваше распоряжение, промолвил он, тихонько отстраняясь и снова усаживая Анну в кресло.
Теперь он по вечерам так часто облачался в смокинг, что ему пришлось потратить не более пяти минут на то, чтобы принять душ, побриться, надеть крахмальную рубашку, белый жилет – все заранее приготовленные вещи, которые Леон протягивал ему одну за другой неловкими движениями церковного служки.
– Соломенную шляпу и автомобильные перчатки, – сказал он вполголоса.
Перед тем как выйти из комнаты, он беглым взглядом осмотрел себя в зеркале с головы до ног и поправил манжеты. С недавних пор он научился не пренебрегать тем дополнительным чувством удобства и приятным расположением духа, которые доставляют человеку тонкое белье, хорошо прилаженный воротничок, отлично скроенный костюм. Ему казалось теперь вполне законным, даже необходимым по соображениям гигиены, разрешать себе после трудового дня провести вечер в безделье и дорогостоящих развлечениях; и он радовался, что может разделить свой досуг с Анной, хотя был вполне способен, как это порою и случалось, эгоистически наслаждаться им в одиночестве.
– Где мы будем обедать, Тони? – спросила она, когда Антуан помогал ей надеть манто, мимоходом целуя ее в голую шею. – Только не в Париже… Сегодня так жарко… А не отправиться ли нам в Марли, к Пра? Или лучше поедем в "Петух". Там будет веселее.
– Это далеко…
– Ну так что ж? Ведь за Версалем дорогу только что отремонтировали.
У нее была особая манера произносить фразы, вроде: "А не сделать ли нам то-то?", "А не поехать ли туда-то?" – каким-то безмятежным тоном, нежным и немного усталым; поглядывая на него с невинным видом, она придумывала самые невероятные затеи, не считаясь с расстоянием, временем, усталостью или вкусами Антуана, не считаясь и с тратами, которых требовали ее прихоти.
– Ну что ж, пусть будет "Петух", – весело сказал Антуан. – Феллоу, вставай! – Он нагнулся, взял собачонку под мышку, открыл дверь и пропустил Анну вперед.
Она остановилась. От синего манто, кремовых тонов платья, черного лака ширм ее матовая кожа брюнетки светилась особенным приглушенным блеском. Повернувшись к Антуану, она без малейшего стеснения оглядела его. Потом прошептала: "Мой Тони…" – так тихо, что, казалось, слова эти не предназначались для него.
– Ну, идем, – сказал он.
– Идем… – вздохнула она с таким видом, словно, выбрав этот ресторан, находившийся в сорока пяти километрах от Парижа, сделала еще одну уступку капризам деспота. И, шумя оборками платья из тафты, она с высоко поднятой головой, упругим шагом весело переступила через порог.
– Когда ты идешь, – шепнул ей на ухо Антуан, – ты похожа на красивый фрегат, выходящий в открытое море.
Хотя машина была мощная и ее интересно было вести, Антуану уже не доставляло удовольствия управлять самому; но он знал, что Анна ничего так не любила, как эти прогулки с ним вдвоем, без шофера.
Солнце уже село, но было все еще жарко. Проезжая через лес, Антуан выбирал боковые дороги, которыми мало пользовались, держался прямо под высокими деревьями. В опущенные окна автомобиля врывался теплый, пахнущий листвой воздух.
Анна болтала. В связи со своей недавней поездкой в Берк она заговорила о муже, что делала довольно редко.
– Представь себе, он не хотел меня отпускать! Просил, угрожал, был просто отвратителен. Все же он проводил меня на вокзал, но не преминул напустить на себя вид мученика. И на перроне, когда поезд отходил, у него хватило наглости сказать: "Значит, вы никогда не переменитесь?" Тогда с площадки вагона я бросила ему такое "нет"! "Нет", означавшее самые ужасные вещи!.. И это правда, я не переменюсь: я его не выношу, тут уж ничего не поделаешь!
Антуан улыбался. Он не прочь был видеть ее разгневанной. Иногда он говорил ей: "Люблю, когда ты смотришь злодейским взглядом". Он вспомнил Симона де Батенкура, приятеля Даниэля и Жака, его козлиную мордочку, бесцветные, как мочало, волосы, кроткий, немного унылый вид; в общем, Симон был довольно антипатичен.
– Подумать только, что он мне нравился, этот болван, – продолжала Анна. – И, может быть, как раз из-за этого…
– Из-за чего?
– Из-за его глупости… Из-за того, что у него было в жизни так мало любовных приключений… Меня это словно освежало, – все-таки перемена. И как будто подходящий случай начать жить заново… Да, порою бываешь такой идиоткой!
Она вспомнила о своем решении чаще говорить о себе, о своем прошлом; сейчас представился удобный случай, сейчас – или никогда. Она устроилась поудобнее, положила голову на плечо Антуана и, устремив взгляд на дорогу, предалась воспоминаниям:
– Иногда я встречалась с ним в Турени на охоте. Я заметила, что он поглядывает на меня, но заговорить он не решался. Однажды вечером, возвращаясь с прогулки, я встретила его в лесу. Он шел пешком, почему – не знаю. Я была одна. Я велела остановить машину и предложила подвезти его в Тур. Он покраснел как рак. Сел в машину. Все – не говоря ни слова. Наступала ночь. И внезапно, уже в черте города…
Антуан слушал рассеянно, его внимание было поглощено дорогой, стуком мотора.
Анна… После него она будет любить других, верная своей судьбе. Он не строил себе иллюзий насчет продолжительности их связи. "Любопытно, – думал он, – как это меня всегда влекло к таким эмансипированным, темпераментным женщинам…" Часто он задавал себе вопрос, не является ли это смешение товарищеского чувства и влюбленности, которым он удовлетворялся в своих отношениях с любовницами, неполноценной формой любви. Недостаточной, может быть, даже довольно убогой. "Ты смешиваешь любовь с вожделением", – сказал ему как-то Штудлер. Полная или неполная, но эта форма ему подходила и вполне удовлетворяла его. Она оставляла нетронутой его силу хорошего работника, которому нужна свобода, чтобы он мог целиком посвятить себя своему призванию. И ему снова пришел на ум недавний разговор с Штудлером. Халиф процитировал ему слова одного своего знакомого, молодого писателя, некоего Пеги: "Любить – значит признавать правоту любимого человека, когда он не прав". Эта формула сильнейшим образом шокировала Антуана. В такой все попирающей, самозабвенной, одуряющей форме любовь всегда вызывала у него недоумение, ужас и даже нечто вроде отвращения…
Автомобиль проехал по мосту, пересек Сену и начал лихо взбираться на Сюренский холм.
– Здесь есть маленькая харчевня, где можно поесть жареной рыбы, внезапно промолвила Анна, вытянув руку. (В свое время именно сюда возил ее Делорм, бывший студент-медик, ставший аптекарем в Булони, который в течение нескольких лет до самой этой зимы, до тех пор, пока Анна не отучилась наконец от наркотика, оплачивал благосклонность этой неожиданно дарованной ему любовницы, поставляя ей морфий.)
Опасаясь, как бы Антуан не задал неудобного вопроса, она принужденно засмеялась.
– Туда стоит зайти ради хозяйки! Толстая тетка в бигуди и с постоянно спущенными чулками… Я бы предпочла ходить босой, чем носить чулки штопором. А ты?
– Поедем как-нибудь в воскресенье, – предложил Антуан.
– Только не в воскресенье. Ты же отлично знаешь, что я терпеть не могу воскресений. На улицах без конца толпятся люди под предлогом, что они отдыхают!
– Да, это, в общем, очень удобно, что шесть дней из семи другие работают, – насмешливо заметил Антуан.
Она не почувствовала упрека и рассмеялась:
– Бигуди. Обожаю это слово. Его произносишь – и во рту словно раздается звук кастаньет. Когда у меня будет другая собака, я назову ее Бигуди… Но у меня никогда не будет другой собаки, – прибавила она решительно. – Когда Феллоу состарится, я отравлю его. И никем не заменю.
Молодой человек улыбнулся, не поворачивая головы.
– У вас хватило бы мужества отравить Феллоу?
– Да, – сказала она. – Но только тогда, когда он станет совсем старым и больным.
Он окинул ее беглым взглядом. Ему припомнились странные слухи, которые распространились после смерти старика Гупийо. Иногда он думал об этом. Чаще всего – чтобы посмеяться. Но порою Анна его пугала. "Она способна на все, думал он. – На все, даже на то, чтобы отравить мужа, ставшего совсем старым и больным…"
Он спросил:
– Можно узнать – чем? Стрихнином? Цианистым кали?
– Нет… Каким-нибудь производным барбитуровой кислоты… Лучше всего дидиаллил. Но он включен в таблицу Б, для него нужен рецепт… Мы удовольствуемся простым диаллилом! Не правда ли, Феллоу?
Антуан засмеялся несколько неестественно:
– Не так-то легко найти правильную дозу!.. На один-два грамма больше или меньше – и неудача…
– Один-два грамма? Для собачонки, которая на весит и трех кило? Вы в этом ничего не смыслите, доктор!.. – Она произвела краткий подсчет в уме и спокойно заявила: – Нет, для Феллоу будет вполне достаточно двадцати пяти сантиграммов диаллила, самое большее – двадцати восьми…
Она замолчала. Он тоже. Может быть, они думали об одном и том же? Нет, так как она прошептала:
– Я никогда никем не заменю Феллоу… Никогда… Тебя это удивляет? Она снова прижалась к нему. – Я ведь могу быть верной, Тони, знаешь… Очень верной…
Машина замедлила ход, повернула и переехала через железнодорожное полотно.
Анна, глядя на дорогу, рассеянно улыбалась.
– В сущности, Тони, я родилась для того, чтобы посвятить себя великой единственной любви… Не моя вина, что мне пришлось жить, как я жила… Но, во всяком случае, – произнесла она с силой, – могу сказать одно: я никогда не опускалась… (Она говорила искренне, совсем забыв о Делорме.) И я ни о чем не жалею.
С минуту она молчала, прижавшись виском к плечу Антуана и смотря на потемневший подлесок, на тучи пляшущей мошкары, которые на ходу разрезала машина.
– Странно, – продолжала она. – Чем я счастливее, тем чувствую себя добрее… Бывают дни, когда мне так хочется принести себя в жертву чему-нибудь, кому-нибудь!
Он был поражен тоской, звучавшей в ее голосе. Он знал, что она говорит искренне, что роскошь, которая окружала ее, положение в свете – все, достигнутое в результате пятнадцати лет расчетов и ловкого маневрирования, не дали ей ни успокоения, ни счастья.
Она вздохнула:
– Ты знаешь, с будущей зимы я решила начать новую жизнь… серьезную… полезную… Надо мне помочь, Тони. Обещаешь?
Это был план, о котором она очень часто заговаривала. Впрочем, Антуан считал ее вполне способной изменить свою жизнь. Наряду с пороками она обладала большими достоинствами, была наделена довольно живым практическим умом, стойкостью, способной выдержать любые испытания. Но для того, чтобы она преуспела и не сбивалась с пути, нужно было, чтобы при ней постоянно находился кто-нибудь, кто мог бы руководить ею и обезвреживать ее недостатки; кто-нибудь вроде него. Этой зимой он имел возможность познать меру своего влияния на нее, когда решил во что бы то ни стало заставить ее отказаться от морфия: он добился того, что она согласилась проделать в течение восьми недель курс очень тягостного лечения в одной сен-жерменской клинике, откуда вернулась совершенно разбитой, но радикально излеченной, и с тех пор уже не делала себе уколов. Нет сомнения, что он смог бы, если бы захотел, направить на какое-нибудь серьезное дело эту неиспользованную энергию. Стоит ему пальцем шевельнуть – и все будущее Анны может измениться… И, однако, он твердо решил не шевелить пальцем. Он слишком хорошо представлял себе, какие новые всепоглощающие заботы навалило бы на него подобное "спасение". Всякий жест обязывает, особенно – благородный жест… А ему надо было вести свою собственную жизнь, оберегать свою свободу. На этот счет он был непоколебим. Но всякий раз, размышляя об этом, он проникался волнением и грустью: ему казалось, что он как будто отворачивает голову, чтобы не видеть, как тянется к нему из воды рука утопающей…
В виде исключения "Серебряный петух" был в тот вечер наполовину пуст.
Когда машина остановилась, метрдотель, официанты и буфетчики бросились навстречу этим запоздавшим клиентам и торжественно повели их от боскета к боскету. Небольшой струнный оркестр, скрытый в зелени, начал приглушенно играть. Все, казалось, были участниками какой-то хорошо слаженной театральной постановки; и сам Антуан, идя вслед за Анной, двигался с уверенностью и естественностью актера, выходящего на сцену в выигрышной и хорошо заученной роли.
Столики были совсем отделены друг от друга кустами бирючины и жардиньерками с цветами. В конце концов после долгих колебаний Анна выбрала место и позаботилась прежде всего о том, чтобы устроить свою собачонку на подушке, которую управляющий любезно положил прямо на землю (подушке из розового кретона, потому, что в "Петухе" все было розовым – от грядок, усаженных мелкими бегониями, до скатертей, зонтиков и фонариков, висящих на деревьях).
Анна стоя методически изучала меню. Ей нравилось изображать гурманку. Метрдотель, окруженный официантами, молчал, полный внимания, приложив к губам карандаш. Антуан ждал, пока она сядет. Анна повернулась к нему и рукой, с которой уже успела снять перчатку, указала на карточке меню выбранные ею блюда. Она воображала, – впрочем, так оно отчасти и было, – что он ревниво относится к своим прерогативам и будет недоволен, если она обратится непосредственно к услужающим.
Антуан передал им заказ тоном решительным и фамильярным, к которому он всегда прибегал в подобных случаях. Метрдотель записывал, всячески выражая знаками свое почтительное одобрение. Антуан смотрел, как он пишет. Ему приятна была угодливость персонала. Он был недалек от наивной веры – ведь это казалось ему так естественно! – в то, что эти люди и вправду чувствуют к нему расположение.
– О, какой очаровательный pussy[255]255
Котенок (англ.).
[Закрыть], – воскликнула Анна, протягивая руку к маленькому черному бесенку, который только что вскочил на столик для посуды и которого негодующие официанты уже старались прогнать салфетками. Это был шестинедельный котенок, совсем черный, невероятной худобы, с раздутым брюшком и странными зелеными глазами, сидящими в его огромной голове, как в оправе.
Анна взяла его обеими руками и, смеясь, прижалась к нему щекой.
Антуан улыбался, хотя и был несколько раздражен.
– Да оставьте вы это блошиное гнездо, Анна… Он вас оцарапает.
– Нет, ты не блошиное гнездо… Ты милый, прелестный pussy, – возражала Анна, прижимая к груди грязного зверька и поглаживая ему темечко кончиком подбородка. – А живот-то! Просто комод в стиле Людовика Пятнадцатого! А голова! Он похож на прорастающую луковицу… Вы замечали, Тони, какой забавный вид у прорастающих луковиц?
Антуан почел за благо рассмеяться – немного искусственным смехом. С ним это редко случалось; он с удавлением прислушался к самому себе; и внезапно ощутил всю особенность этого смеха. "Ну вот, – подумал он, и сердце его как-то странно сжалось, – я только что смеялся точь-в-точь как Отец…" Никогда в жизни не обращал Антуан внимания на то, как смеялся г-н Тибо, и вот, ни с того ни с сего, он сегодня вечером услышал этот смех, да еще из своих собственных уст.
Анна во что бы то ни стало хотела заставить противного зверька лежать у нее на коленях, как ни страдала от этого ее кремовая тафта.
– Ах, паскудник! – говорила она в полном восторге. – Ну, помурлычьте, господин Вельзевул… Вот так… Он все понимает… Я уверена, что у него есть душа, – сказала она совершенно серьезно. – Купите мне его, Тони… Это будет наш амулет! Я чувствую, пока он будет у нас, с нами ничего худого не случится!
– Попались! – насмешливо сказал Антуан. – Посмейте-ка теперь утверждать, что вы не суеверны.
Он уже не раз дразнил ее по этому поводу. Она призналась ему, что зачастую вечером, когда ее одолевали дурные предчувствия, она в полном одиночестве бродила по комнате, будучи не в состоянии уснуть, и под конец вынимала из ящика, где хранились реликвии ее прошлого, старое руководство для гадания на картах и гадала себе до тех пор, пока не засыпала.
– Вы правы, – внезапно сказала она. – Я совершенная идиотка.
Она отпустила котенка, который сделал несколько неуверенных прыжков и исчез в кустах. Затем, убедившись, что они совсем одни, устремила свой взор прямо в глаза Антуана и прошептала:
– Ругай меня, я это обожаю… Увидишь, я буду тебя слушаться… Я исправлюсь… Я стану такой, как ты хочешь…
У него мелькнула мысль, что, может быть, она любит его больше, чем он того желал бы. Он улыбнулся и знаком велел ей есть суп, что она и сделала, опустив глаза, как маленькая девочка.
Потом она перевела разговор совсем на другое: на каникулы, которые она решила провести в Париже, чтобы не расставаться с Антуаном; потом на судебный процесс – убийство, наполовину политическое, наполовину из-за страсти, подробностями которого уже в течение многих дней заполнялись столбцы газет.
– Вот молодчина! Как бы я хотела совершить что-либо подобное! Ради тебя. Убить кого-нибудь, кто желал бы тебе зла!
В отдалении обе скрипки, виолончель и альт заиграли какой-то менуэт. Несколько мгновений она словно мечтала о чем-то, затем произнесла ласково и серьезно: – Убить из-за любви…
– У вас такая наружность, словно вы на это способны, – улыбнувшись, заметил Антуан.
Она уже собиралась ответить, но в это время метрдотель, перед тем как разрезать голубей, протянул ей, словно кадильницу, серебряный соусник, от которого поднимался аромат рагу из дичи.
Антуан заметил, что на ресницах ее блестят слезинки. Он вопросительно взглянул на нее. Уж не обидел ли он ее, сам того не желая?
– Быть может, вы более правы, чем сами думаете, – вздохнула она, не глядя на него, и это было так странно, что он не мог не подумать еще раз о Гупийо.
– В чем же прав? – спросил он с любопытством.
Пораженная его интонацией, она подняла глаза и уловила во взгляде Антуана смущение, которого сперва не сумела себе объяснить. Внезапно ей вспомнился их разговор насчет ядов, расспросы Антуана. Ей известны были все обвинения, которые предъявлялись ей в досужих сплетнях после смерти мужа; одна газета департамента Уазы позволила себе даже довольно прозрачные намеки, которые окончательно утвердили в тех местах легенду о старом архимиллионере, запертом у себя в замке молодой авантюристкой, на которой он женился уже в преклонном возрасте, и однажды ночью скончавшемся при обстоятельствах, так и оставшихся невыясненными.
Антуан снова спросил, уже более твердым голосом:
– В чем же я прав?
– В том, что у меня наружность героини мелодрамы, – холодно ответила она, не желая дать ему заметить, что угадала его мысли. Вынув из сумочки зеркальце, она рассеянно смотрелась в него. – Взгляните… Разве я похожа на женщину, которая глупейшим образом умрет в своей постели? Нет. Я кончу жизнь как-нибудь трагически. Увидите! Однажды утром меня найдут распростертой посреди комнаты с кинжалом в груди… На ковре, обнаженную… и заколотую кинжалом… Кстати, я заметила: в книгах все героини, которых зовут Анна, всегда кончают жизнь от удара кинжалом… Знаете, – продолжала она, не отводя глаз от зеркальца, – я мучительно боюсь стать безобразной, когда умру… Бледные губы мертвецов – это так ужасно… Я непременно хочу, чтобы меня нарумянили. Я даже упомянула об этом в моем завещании.
Она говорила быстро, гораздо быстрее, чем обычно, слегка шепелявя при этом, как тогда, когда бывала чем-либо смущена. Кончиком носового платка она стряхнула слезинки, еще оставшиеся у нее между ресницами, затем провела по лицу пуховкой и снова спрятала платок и пуховку в сумочку, звонко щелкнув замком.
– В глубине души, – продолжала она (во время этого признания в ее красивом контральто внезапно зазвучали вульгарные нотки), – я ничего не имею против того, чтобы выглядеть героиней мелодрамы…
Она повернула наконец к нему лицо и заметила, что он продолжает внимательно наблюдать за нею. Тогда она медленно улыбнулась и, казалось, приняла решение.
– Моя наружность уже не раз подводила меня, – вздохнула она. – Вы знаете, что меня считали отравительницей?
Какую-то долю секунды Антуан колебался. Его веки дрогнули. Он откровенно заявил:
– Знаю.
Она положила локти на стол и, смотря любовнику прямо в глаза, произнесла как-то особенно протяжно:
– Ты считаешь, что я на это способна?
Тон ее был вызывающий, но взгляд она отвела, и теперь он был снова устремлен куда-то вдаль.
– Почему бы и нет? – сказал он полушутя-полусерьезно.
Несколько мгновений она молча глядела на скатерть. У нее мелькнула мысль, что это сомнение, может быть, придает известную остроту тому чувству, которое испытывает к ней Антуан, и на секунду у нее явилось искушение оставить его в неизвестности. Но когда она снова перевела на него взгляд, искушение прошло.
– Нет, – резко сказала она. – Действительность не столь… романтична: вышло так, что я была вдвоем с Гупийо в ночь, когда он умер; это правда. Но умер он, потому что час его пробил, и моей вины тут нет.
В молчании Антуана, в том, как он слушал, можно было усмотреть, что он ожидает более подробного рассказа. Она отодвинула тарелку, даже не притронувшись к ней, и достала из сумочки папиросу; Антуан, не шевелясь, смотрел, как она ее зажигает. Она часто курила эти папироски из табака, смешанного с чаем, которые она получала из Нью-Йорка и которые распространяли запах жженой травы, стойкий и едкий. Она несколько раз затянулась, медленно выпуская дым, и затем утомленно прошептала:
– Вас интересуют все эти старые истории?
– Да, – ответил он несколько более поспешно, чем сам того желал.
Она улыбнулась и пожала плечами, словно с его стороны это был каприз, не имеющий особого значения.
Мысли Антуана блуждали и путались. Разве Анна не сказала ему однажды: "Защищая себя в жизни, я привыкла лгать, и если ты заметишь, что я тебе лгу, ты мне скажи сразу и не ставь мне этого в вину". Он не знал, как поступить. Внезапно ему вспомнилась странная фамильярность, замеченная им в отношениях между Анной и мисс Мэри, гувернанткой маленькой Гюгеты. Он был совершенно уверен в том, что не ошибается насчет истинного смысла этой интимности. Однако, когда впоследствии он, улыбаясь, задал своей любовнице несколько прямых вопросов на этот счет, Анна не только уклонилась от каких бы то ни было признаний, но даже запротестовала против подобных подозрений с негодованием и кажущейся искренностью, которые его совершенно сбили с толку.
– Да нет же! Никаких костей! Вы хотите, чтобы он подавился?
Официант только что поставил мисочку с похлебкой перед подушкой Феллоу и, стараясь изо всех сил угодить, намеревался положить туда еще голубиные косточки.
Немедленно подбежал метрдотель.
– Что прикажете, сударыня?..
– Ничего, ничего, – недовольно сказал Антуан.
Собачонка встала и принялась обнюхивать миску. Она вздрогнула, пошевелила ушами, несколько раз втянула в себя воздух и как бы с мольбой о помощи повернула к хозяйке свой плоский, похожий на трюфелину носик.
– Ну, что, в чем дело, мой маленький Феллоу? – спросила Анна.
– В чем дело, маленький филер? – эхом повторил метрдотель.
– Покажите-ка, что вы принесли, – обратилась она к официанту и тыльной стороной ладони дотронулась до миски. – Ну, конечно, похлебка совсем простыла! Я же вам сказала: теплую… И совсем без жира, – добавила она строго, указывая пальцем на кусочек сала. – Рису, морковки и немного мелко нарезанного мяса. Право, это нехитрое дело!
– Унесите! – сказал метрдотель.
Официант взял миску, одно мгновение смотрел на похлебку, затем послушно отправился на кухню. Но прежде чем уйти, он на секунду поднял глаза, и взгляд Антуана встретился с его ускользающим взглядом.
Когда они остались одни, Антуан сказал ей с упреком:
– Дорогая, не находите ли вы, что господин Феллоу, пожалуй, слишком уж разборчив?..
– Этот официант просто идиот! – прервала его разгневанная Анна. – Вы видели? Он точно остолбенел перед миской.
Антуан тихо сказал:
– Он, может быть, думал, что в эту самую минуту где-нибудь в предместье, в каком-нибудь убогом чулане, его жена и ребятишки сидят за столом перед…
Горячая и трепетная рука Анны прикоснулась к его руке.
– Милый Тони, вы правы; это ужасно – то, что вы говорите… Но ведь вы же не хотите, чтобы Феллоу заболел? – Казалось, она действительно растерялась. – Ну вот, теперь вам смешно! Слушайте, Тони, этому бедному малому надо дать на чай… Ему особо… И побольше… От Феллоу…
Несколько секунд она сидела в задумчивости, затем вдруг сказала:
– Представьте себе, мой брат тоже начал с того, что был официантом в ресторане… Да, официантом в одной венсенской закусочной.
– Я не знал, что у вас есть брат, – заметил Антуан. (Интонация и мимика его, казалось, говорили: "Впрочем, я вообще о вас так мало знаю…")
– О, он далеко… Если еще жив… Он поступил в колониальные войска и уехал в Индокитай… Надо полагать, он там устроился. Я ни разу не получила от него известий… – Постепенно она снижала тон. На минорных нотах голос ее всегда был особенно волнующим. Она добавила еще: – Как глупо! Ведь я же отлично могла ему помочь. – И затем умолкла.
– Так что же? – снова начал Антуан после нескольких секунд молчания. Он умер, когда вас не было рядом?
– Кто? – спросила она, и ее ресницы дрогнули. Эта настойчивость удивляла ее. И все же она испытывала удовлетворение оттого, что внимание Антуана было так поглощено ею. И вдруг, совершенно неожиданно, она принялась смеяться каким-то легким и искренним смехом. – Представь себе, глупее всего то, что меня обвиняли в поступках, которых я не совершала и которые у меня, может быть, никогда не хватило бы мужества совершить, и никто не узнал того, в чем я действительно виновата. Тебе я скажу все: я опасалась завещания, которое мог составить Гупийо; и вот в течение тех двух лет, когда он был в состоянии совершенной расслабленности, я, пользуясь доверенностью, которую мне удалось от него выманить с помощью одного нотариуса из Бовэ, самым спокойным образом присвоила себе значительную часть его состояния. Впрочем, зря, потому что завещание было составлено целиком в мою пользу. Гюгета получила только свою законную часть… Но я полагала, что после семи лет сплошного ада я имею право сама взять все, что захочу. – Перестав смеяться, она добавила с нежностью в голосе: – И ты, мой Тони, первый, кому я это рассказываю.
Внезапно она вздрогнула.
– Ты озябла? – спросил Антуан, ища глазами ее манто.
Ночь становилась прохладной, было уже поздно.
– Нет, пить хочется, – сказала она, протягивая свой бокал к ведерку с шампанским. Она жадно выпила вино, которое он ей налил, снова зажгла одну из своих едких папиросок и встала, чтобы накинуть на плечи манто. Усаживаясь на место, она подвинула кресло так, чтобы быть совсем близко к Антуану.
– Слышишь? – сказала она.
Ночные бабочки порхали вокруг фонариков и ударялись о полотно тента. Оркестр замолк… В закрытом помещении ресторана большая часть окон погасла.
– Здесь хорошо, но я знаю одно место, где было бы еще лучше… – снова заговорила она, и взгляд ее был полон обещаний.
Он не отвечал, и она схватила его руку, положила ее на скатерть ладонью вверх. Он подумал, что она хочет ему гадать.
– Не надо, – сказал он, стараясь высвободить руку. (Ничто так не раздражало его, как предсказания: самые замечательные казались ему такими жалкими по сравнению с тем, что он предназначал себе в будущем!)
– Ну и глупый же ты! – бросила она ему, смеясь и не выпуская его руки. – Вот чего я хочу…
Она внезапно приникла к его ладони, впилась в нее губами и на минуту замерла без движения.
Он свободной рукой ласкал ее склоненный затылок, мысленно сравнивая ее слепую страсть к нему с тем спокойным и размеренным чувством, которое сам он питал к ней.
И тут, словно угадав, о чем он думает, Анна слегка приподняла голову:
– Я не прошу, чтобы ты любил меня, как я тебя люблю, я только прошу, чтобы ты позволил мне любить тебя…








