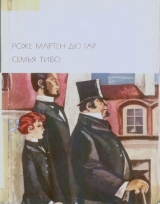
Текст книги "Семья Тибо, том 1"
Автор книги: Роже Мартен дю Гар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 86 страниц)
– Друг мой, мне еще так много нужно вам сказать…
И она, помня о том, что нельзя отступать, но помня также, что деньги необходимы, быстро ответила:
– Завтра, Жером. Я приму вас завтра, если вы придете. Мы поговорим.
Решив уйти от нее галантно, он схватил ее пальцы и прижал к губам. Последовала секунда нерешительности. Затем она отняла руку и отворила дверь на лестницу.
– Что ж, до свиданья, мой друг… До завтра…
Она в последний раз увидела его, – приподняв шляпу и обратив к ней улыбающееся лицо, он шел по лестнице вниз.
Дверь захлопнулась. Г-жа де Фонтанен осталась одна. Прижалась лбом к косяку; от глухого стука парадной двери вздрогнул дом. На ковре валялась светлая перчатка Она бездумно схватила ее, прижала к губам, глубоко вдохнула воздух, пытаясь сквозь затхлый запах кожи и табака уловить тонкий и такой знакомый аромат. Потом, увидав себя в зеркале, она покраснела, откинула перчатку на ковер, резко повернула выключатель и, избавившись благодаря темноте от себя самой, бросилась ощупью к комнатам детей и долго слушала их мерное дыхание.
Антуан и Жак снова сели в фиакр. Лошадь шла медленно, копыта, точно кастаньеты, цокали по мостовой. На улицах было темно. В дряхлой колымаге мгла отдавала сырым сукном. Жак плакал. От усталости и, наверно, еще от материнской улыбки и поцелуя, которыми его одарила эта дама, в нем наконец пробудились угрызения совести. Что он ответит отцу? Он ощутил полный упадок сил и, выдавая свою тоску, приник к плечу брата, а тот обнял его. Впервые в жизни между ними не встала преградой застенчивость.
Антуан порывался заговорить, но с трудом преодолевал в себе чувство неловкости; в его голосе звучало нарочитое, чуть грубоватое добродушие:
– Ну, полно, старина, полно… Ведь все позади… К чему теперь себя так казнить…
Он замолчал и только крепче прижал мальчика к себе. Однако любопытство не давало ему покоя.
– Но все же с чего это ты? – спросил он более ласково. – Что там у вас произошло? Это он тебя подговорил?
– Да нет же. Он-то как раз и не хотел. Это все я, только я.
– Но почему?
Ответа не было. Сознавая, что действует неуклюже, Антуан продолжал:
– А знаешь, мне такие вещи знакомы, все эти отношения, которые завязываются в школе. Уж мне-то ты можешь спокойно во всем признаться, я знаю, как это бывает. Поддашься на уговоры…
– Он мой друг, вот и все, – шепнул Жак, по-прежнему прижимаясь к брату.
– Но, – отважился Антуан, – чем же вы… занимаетесь, когда остаетесь вдвоем?
– Разговариваем. Он меня утешает.
Антуан не решился продолжать расспросы. "Он меня утешает…" Это было сказано так, что у него сжалось сердце. Он собирался спросить: "Значит, тебе очень худо живется, малыш?" – но в ту же секунду Жак мужественно добавил:
– И потом, если уж ты хочешь знать все, он исправляет мои стихи.
Антуан отозвался:
– О, вот это прекрасно, это мне по душе. Честное слово, я очень рад, что ты поэт.
– Правда? – пробормотал мальчик.
– Да, очень, очень рад. Впрочем, я и раньше это знал. Я прочел кое-что из твоих стихов, они валялись в комнате и случайно попались мне на глаза. Я тебе тогда об этом не сказал. Да ведь и вообще мы никогда с тобой не беседуем, сам не знаю почему… Но некоторые из твоих стихов мне очень понравились, у тебя несомненный талант, и нужно его развивать.
Жак еще крепче прильнул к нему.
– Я так люблю стихи, – прошептал он. – Я отдал бы все на свете за любимые строчки. Фонтанен мне дает книги, – ты никому об этом не скажешь? Это он заставил меня прочитать Лапрада[37]37
Лапрад Виктор-Ришар де (1812–1883) – французский поэт, автор «Евангелических поэм».
[Закрыть], Сюлли-Прюдома[38]38
Сюлли-Прюдом Арман (1839–1907) – французский поэт, автор утонченно-любовных стихотворений.
[Закрыть], и Ламартина, и Виктора Гюго, и Мюссе… О, Мюссе! Ты, верно, знаешь эти стихи:
Звезда вечерняя, посланница печали,
Чей чистый взор пронзил заката пелену…[39]39
«Звезда вечерняя, посланница печали…» – Строки из стихотворения Альфреда де Мюссе «Ива».
[Закрыть]
Или вот это:
Уж сколько лет, как ты, предвечный наш отец,
К себе на небеса призвал мою супругу,
Но мы по-прежнему принадлежим друг другу,
Она полужива, и я – полумертвец…[40]40
«Уж сколько лет, как ты…» – Строки из поэтического цикла Виктора Гюго «Легенда веков».
[Закрыть]
Или "Распятие" Ламартина, – помнишь:
Припав к ее устам, хладеющим, бескровным,
Ее последний вздох я трепетно ловил…
– Как здорово, а? Как плавно! Услышу – всякий раз прямо как больной становлюсь. – Его сердце не могло вместить переполнявшие его чувства. – А дома, – заговорил он опять, – меня не понимают; стоит им узнать, что я пишу стихи, ручаюсь, расспросы пойдут да насмешки. Вот ты совсем не такой, как они, – он прижал руку Антуана к своей груди, – я давно об этом догадываюсь; только ты ничего не говорил; и потом, ты так редко бываешь дома… Ах, если б ты знал, как я рад! Я чувствую, теперь у меня два друга вместо одного!
– Ave Caesar! Гляди, пред тобой синеглазая галльская дева!.. – с улыбкой продекламировал Антуан.
Жак отпрянул в сторону.
– Ты прочел тетрадь!
– Да полно, послушай…
– А папа? – завопил мальчик таким душераздирающим голосом, что Антуан в растерянности пробормотал:
– Не знаю… Может, и заглянул…
Он не успел закончить. Мальчик откинулся на подушки в глубь кареты и, схватившись за голову, стал раскачиваться из стороны в сторону.
– Какая гнусность! Аббат – шпион и подлец! Я ему это скажу при всех, на уроке, я плюну ему в рожу! Пусть меня выгоняют из школы, чихать мне на это, я опять убегу! Я покончу с собой!
Он топал ногами. Антуан не решался вставить ни слова. Внезапно мальчик замолчал и забился в угол, вытирая глаза; зубы у него стучали. Его молчание встревожило брата еще больше, чем гнев. К счастью, фиакр уже катился вниз по улице Святых Отцов; они подъезжали к дому.
Жак вышел первым. Расплачиваясь с кучером, Антуан настороженно следил за братом, опасаясь, как бы он не кинулся бежать в темноте куда глаза глядят. Но Жак выглядел подавленным и разбитым; его физиономия уличного мальчишки, измученная путешествием, изможденная горем, страшно осунулась, глаза были опущены вниз.
– Позвони-ка сам, – сказал Антуан.
Жак не ответил, не шелохнулся. Антуан подтолкнул его к дверям. Он безропотно повиновался. Он даже не обратил внимания на консьержку, матушку Фрюлинг, которая с любопытством уставилась на него. Его подавляло сознание собственного бессилия. Лифт подхватил его, как пушинку, чтобы швырнуть в горнило отцовского гнева; сопротивляться было бессмысленно, его обложили со всех сторон, он был во власти безжалостных механизмов, – семьи, полиции, общества.
Но когда он опять очутился на своей лестнице, когда увидал в прихожей знакомую люстру, сверкавшую всеми огнями, как в те вечера, когда у отца бывали званые холостяцкие обеды, он вдруг почувствовал нежность; милые привычки ласково обволакивали его; а когда, вынырнув из глубины прихожей, навстречу ему заковыляла Мадемуазель, в своей черной мериносовой накидке, еще более тщедушная и трясущаяся, чем всегда, ему захотелось, забыв про все обиды, броситься в ее объятия, в эти тонкие ручки, которые она широко раскрыла, приближаясь к нему. Она схватила его и, осыпая жадными поцелуями, стала причитать дрожащим голосом, на одной пронзительной ноте:
– Ах, грех-то какой! Бессердечный ты мальчик! Ты что ж, захотел, чтобы мы все умерли здесь от горя? Господи, грех-то какой! Или у тебя совсем нет сердца? – И глаза лани наполнились слезами.
Но распахивается двустворчатая дверь кабинета, и появляется отец.
Он сразу же видит Жака и не может сдержать волнение. Но он останавливается и опускает глаза; он будто ждет, когда блудный сын бросится к его ногам; как на гравюре с картины Грёза[41]41
…как на гравюре с картины Греза… – Имеется в виду картина на евангельский сюжет «Блудный сын» французского художника Жана-Батиста Греза (1726–1805).
[Закрыть], что висит в гостиной.
Сын колеблется. Ибо кабинет тоже по-праздничному освещен, и в дверях буфетной уже стоят две горничные, а г-н Тибо облачен в сюртук, тогда как в этот час на нем бывает вечерняя куртка; такое нагромождение необычного парализует мальчика. Он вырвался из объятий Мадемуазель, попятился и застыл, повесив голову и ожидая неведомо чего; в его сердце накопилось столько нежности, что мучительно хочется плакать и в то же время смеяться!
Но первое же слово, произнесенное отцом, как бы ставит мальчика вне семьи. Поведение Жака, да еще при свидетелях, мгновенно гасит в г-не Тибо последние искры снисхождения; и, дабы окончательно смирить бунтаря, он надевает на себя маску полнейшего равнодушия.
– А, вот и ты, – говорит он, обращаясь к одному Антуану. – А я уж стал было удивляться. Ну как, все прошло хорошо?
Антуан отвечает утвердительно и пожимает протянутую отцом вялую руку, а г-н Тибо продолжает:
– Благодарю тебя, мой милый, ты избавил меня от хлопот… От весьма неприятных хлопот!
Несколько секунд он пребывает в нерешительности, надеясь еще, что ослушник в раскаянии бросится к нему; он быстро взглядывает на горничных, потом на Жака, но тот упрямо уставился в ковер. И тогда, окончательно рассердившись, отец заявляет:
– Завтра мы обсудим, какие меры следует принять, чтобы подобные безобразия больше никогда не могли повториться.
А когда Мадемуазель делает шаг в сторону Жака, чтобы толкнуть его в объятья отца, – движение, которое Жак, не поднимая головы, угадывает и которого ждет как последней надежды на спасение, – г-н Тибо, протягивая руку, властно останавливает Мадемуазель:
– Оставьте его, оставьте! Это негодяй, бессердечный негодяй! Разве достоин он тех волнений, которые пришлось нам из-за него пережить? – И опять говорит Антуану, который тщетно пытается вмешаться: – Антуан, дорогой мой, окажи нам услугу, займись этим лоботрясом еще на одну ночь. Обещаю тебе, что завтра мы тебя от него избавим.
Легкое движение; Антуан шагнул к отцу, Жак робко приподнял голову. Но г-н Тибо продолжает тоном, не терпящим возражений:
– Ты слышишь меня, Антуан? Уведи его к нему в комнату. Скандал и так уж слишком затянулся.
Потом, когда Антуан, ведя Жака перед собой, исчезает в коридоре, где горничные одна за другой прижимаются к стенам, как на пути к эшафоту, г-н Тибо, все так же не поднимая глаз, возвращается в кабинет и закрывает за собою дверь.
Он идет через кабинет и входит в спальню. Это комната его родителей, точно такая, какой он помнит ее с самого раннего детства, во флигеле отцовского завода, возле Руана; точно такая, какой он получил ее в наследство и перевез всю обстановку в Париж, когда приехал сюда изучать право, – комод красного дерева, вольтеровские кресла, синие репсовые шторы, кровать, на которой умер его отец, а вскоре и мать; на стене, перед молитвенной скамеечкой (коврик для нее вышит г-жою Тибо), – распятие, которое он сам дважды за несколько месяцев вкладывал в сложенные на груди руки родителей.
Здесь, в одиночестве, сделавшись опять самим собою, грузный человек опускает плечи; маска усталости будто соскальзывает с его лица, и черты обретают выражение непосредственности и простоты, как на его детских портретах. Он подходит к скамеечке и отрешенно преклоняет колена. Его отечные руки сплетаются в движении стремительном и привычном; во всех его жестах появляется здесь нечто непринужденное, сокровенное, одинокое. Он поднимает вялое лицо; взгляд, просачиваясь сквозь ресницы, устремляется к распятию. Он приносит богу свои горести, говорит о новом испытании, выпавшем на его долю; избавившись от бремени обиды, в глубине своего сердца молится он, удрученный отец, за спасение маленького грешника. Среди груды благочестивых книг возле подлокотника он выбирает четки – четки первого его причастия; их зернышки, отполированные сорока годами молитв, сами текут между пальцев. Он снова закрыл глаза, но лицо по-прежнему обращено к Христу. Никто никогда не видел у него этой внутренней улыбки, не видел такого лица, непритворного и счастливого. Его губы шевелятся, отвислые щеки подрагивают, дергается с равномерными промежутками подбородок, высвобождая шею из жесткого воротничка, и у подножья небесного престола так же мерно покачивается кадило.
На другой день Жак сидел в одиночестве на незастланной кровати. Он не знал, как убить это субботнее утро, такое унылое и тоскливое, когда приходится торчать взаперти в четырех стенах. Вспоминал лицей, урок истории, Даниэля. Прислушивался к утренним звукам, – они были непривычны, даже как будто враждебны, – шарканье веника по ковру, скрип дверей под натиском сквозняка. Он не был ни угнетен, ни подавлен, – скорее даже возбужден; но бездействие казалось невыносимым, тяжко томило ощущение таинственной угрозы, витавшей в самой атмосфере отцовского дома. Истинным избавлением для него была бы сейчас возможность свершить акт самопожертвования, поступок героический и нелепый, который дал бы мгновенный выход переполнявшей его нежности. Временами он поднимал голову, чувствуя жалость к самому себе, весь во власти какого-то извращенного наслаждения, в котором сливались отвергнутая любовь, ненависть и гордыня.
Кто-то подергал за дверную ручку. Это была Жизель. Ей только что вымыли голову, по плечам разметались мокрые черные кудри; она была в рубашке и штанишках; ее шея, руки, ноги были коричневыми от загара, и в своих пышных панталончиках, с красивыми собачьими глазами, свежими губками и копной нечесаных волос она выглядела маленьким алжирцем.
– Чего тебе? – хмуро бросил Жак.
– Проведать тебя пришла, – сказала она, глядя ему в глаза.
В свои десять лет она за эту неделю успела догадаться о многом. Наконец-то Жако вернулся. Но жизнь не вошла еще в привычную колею; вот, например, тетка – только начала ее причесывать, а ее вдруг зовут к г-ну Тибо, и она побежала, и бросила ее с распущенными волосами, взяв обещание, что она будет себя хорошо вести.
– Кто это звонил? – спросил он.
– Господин аббат.
Жак нахмурился. Она примостилась рядом с ним на кровати.
– Бедный Жако, – прошептала она.
Ему стало так хорошо от этого выражения любви, что в порыве благодарности он посадил ее к себе на колени и поцеловал. Но он был начеку.
– Беги, сюда идут, – выдохнул он и подтолкнул ее к дверям.
Он едва успел сесть в ногах кровати и раскрыть учебник грамматики. За дверью послышался голос аббата Векара:
– Здравствуй, малышка. Жако здесь?
Он вошел и остановился на пороге. Жак сидел, не поднимая глаз. Аббат подошел к нему и ущипнул за ухо.
– Хорош гусь, нечего сказать! – проговорил он.
Но, видя, что мальчик упрямится, аббат сразу переменил тон. С Жаком он всегда держался настороженно. К этой овечке, которая частенько бывала овечкой заблудшей, он испытывал особенную любовь, смешанную с любопытством и уважением; он давно понял, какие силы заложены в этой душе.
Аббат сел и притянул мальчика к себе.
– Попросил ли ты, по крайней мере, прощения у отца? – спросил он, хотя прекрасно знал, как обстояло дело. Жака покоробило это притворство; он равнодушно взглянул на аббата и отрицательно помотал головой. Наступило короткое молчание.
– Дитя мое, – продолжал священник опечаленным голосом, в котором сквозила нерешительность, – не скрою от тебя, как меня все это огорчает. До сих пор, невзирая на твое плохое поведение, я всегда защищал тебя перед отцом. Я ему говорил: "У Жако доброе сердце, он исправится, запасемся терпением". Теперь я уж не знаю, что и сказать, – хуже того, я не знаю, что и подумать: я узнал о тебе такие вещи, в которых никогда, никогда не решился бы тебя подозревать. Мы с тобой еще к этому вернемся. Но я сказал себе: "У него будет время подумать, он придет к нам, раскаявшись, а если раскаянье искренне, им искупается самое тяжкое прегрешение". И что же? Вот ты сидишь предо мною, и на лице твоем я читаю злобу, и нет на нем ни тени сожаления, нет ни слезинки в глазах. На сей раз твой бедный отец совершенно пал духом, и это удручает меня. Он задается вопросом, до каких степеней порока ты докатился, если сердце твое так зачерствело. И, право, таким же вопросом задаюсь отныне и я.
Жак стискивал в карманах кулаки и прижимал к груди подбородок, чтобы не дать рыданиям вырваться наружу, чтобы ничем не выдать своего состояния. Он один только знал, скольких мук стоил ему отказ попросить прощения, какие сладкие слезы был бы он счастлив пролить, если бы его встретили так, как встретили Даниэля! Но нет! Будь что будет, и пусть никто никогда не узнает о тех чувствах, которые он испытывает к отцу, о животной привязанности, что приправлена горькой обидой и словно еще жарче разгорелась теперь, когда не остается больше надежд на взаимность!
Аббат молчал. Кроткое выражение лица делало его молчание еще более тяжким. Потом, глядя вдаль и без всяких предисловий, он заговорил нараспев:
– У некоторого человека было два сына. И младший из них, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, пришел он в себя и сказал: "Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: "Отче! Я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим". Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: "Отче! Я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим…"
Боль, терзавшая Жака, оказалась сильней его воли: он разрыдался.
Аббат переменил тон.
– Я знал, что ты не испорчен в сердце своем, дитя мое. Нынче утром я молился за тебя. Так пойди же, как блудный сын, пойди к отцу своему, и он пожалеет тебя. И он тоже скажет: "Станем веселиться, ибо этот сын мой пропадал и нашелся!"
И Жак вспомнил, что в честь его возвращения в прихожей горела люстра, а г-н Тибо остался в сюртуке; мысль, что, быть может, он сам испортил готовившийся праздник, растрогала его еще больше.
– Я хочу тебе еще кое-что сказать, – продолжал священник, гладя рыжую мальчишескую голову. – Твой отец принял на твой счет серьезное решение… Он запнулся; подыскивая слова, он ласково трепал оттопыренные уши, которые под его рукой то прижимались к щекам, то распрямлялись, точно пружина, и начинали пылать; Жак не смел шелохнуться. – …решение, которое я одобряю, подчеркнул аббат, он поднес указательный палец к губам и настойчиво пытался поймать взгляд Жака. – Он хочет на некоторое время отослать тебя далеко отсюда.
– Куда? – вскрикнул сдавленным голосом Жак.
– Он тебе это скажет сам, дитя мое. Но, как бы ты поначалу ни воспринял это известие, прими его со смирением и раскаянием, ибо все делается ради твоего же блага. Быть может, на первых порах тебе тягостно будет проводить долгие часы наедине с самим собою; но в эти мгновения ты должен вспоминать, что для доброго христианина нет одиночества и что бог никогда не покинет того, кто на него полагается. Ну, поцелуй меня и иди просить прощения у отца.
Через несколько минут Жак вернулся к себе с заплаканным лицом и лихорадочно горящими глазами. Метнувшись к зеркалу, он уставился на себя безжалостным взглядом, словно хотел заглянуть себе в душу и выместить на собственном отражении всю обиду и злость. В коридоре послышались шаги; в замке не было ключа; он торопливо забаррикадировался стульями. Потом бросился к столу, нацарапал карандашом несколько строк, сунул бумагу в конверт, написал адрес, наклеил марку и с блуждающим взглядом встал. Кому доверить письмо? Кругом были только враги! Он приоткрыл окно. Утро было пасмурным, на улицах пусто. Но вот вдали показалась старая дама с ребенком; они двигались не спеша. Жак бросил письмо вниз, оно покружилось в воздухе и легло на тротуар. Он быстро отступил в глубину комнаты. Когда он отважился снова выглянуть, письма на тротуаре не было; дама и ребенок медленно удалялись.
Тогда, теряя последние силы, он взвыл, как зверь, попавший в капкан, кинулся на кровать, уперся ногами в деревянную спинку и затрясся всем телом в бессильной ярости, кусая подушку, стараясь заглушить свои вопли; у него хватило рассудка лишь на то, чтобы не дать своим ближним увидеть, как ему тошно.
Вечером Даниэль получил письмо:
"Мой друг!
Единственная моя Любовь, единственная нежность и красота моей жизни!
Пишу тебе это как завещание.
Они отрывают меня от тебя, отрывают от всего на свете, они хотят упрятать меня в такое место… нет, не смею сказать в какое, не смею сказать куда. Мне стыдно за своего отца!
Чувствую, что никогда больше не увижу тебя, мой Единственный, тот, кто один во всем мире мог исправить меня.
Прощай, мой друг, прощай!
Если они вконец измучат и озлобят меня, я покончу с собой. И ты им скажешь тогда, что я убил себя нарочно, из-за них! А ведь я их любил!
Моя последняя мысль, на пороге небытия, будет обращена к тебе, мой друг!
Прощай!"
Июль 1920 г. – март 1921 г.
ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯС того дня, как в прошлом году он доставил домой двоих беглецов, Антуан больше ни разу не навещал г-жу Фонтанен; но горничная узнала его и, хотя было уже девять часов вечера, впустила без разговоров.
Госпожа де Фонтанен вместе с детьми была в своей комнате. Держась очень прямо, она сидела под лампой перед камином и читала вслух какую-то книгу; Женни, забившись в глубь кресла, пристально глядела на огонь, теребила косу и внимательно слушала; поодаль Даниэль, заложив ногу за ногу и держа на колене картон, набрасывал углем портрет матери. Задержавшись на миг в полутьме на пороге, Антуан почувствовал, насколько неуместен его приход; но отступать было поздно.
Госпожа де Фонтанен приняла его довольно холодно; она казалась более всего удивленной. Она оставила детей в спальне и провела Антуана в гостиную, но, когда он объяснил цель своего визита, встала и пошла за сыном.
Даниэлю можно было дать теперь лет семнадцать, хотя ему было всего пятнадцать; темный пушок над губой оттенял линию рта. Пряча смущение, Антуан смотрел юноше прямо в глаза с чуть вызывающим видом, словно хотел сказать: "Я ведь привык действовать решительно, без обиняков". Как и в прошлый раз, в присутствии г-жи де Фонтанен он инстинктивно подчеркивал искренность своего поведения.
– Ну вот, – сказал он. – Я пришел, собственно, из-за вас. Наша вчерашняя встреча навела меня на некоторые размышления.
Даниэль явно удивился.
– Да, конечно, – продолжал Антуан, – мы едва обменялись двумя-тремя словами, вы спешили, я тоже, но мне показалось… Не знаю даже, как это выразить… Ведь вы ничего не спросили про Жака, из чего я сделал вывод, что он вам пишет. Разве я не прав? Подозреваю даже, что он пишет вам о таких вещах, о которых я ничего не знаю, но очень хотел бы знать. Нет, погодите, выслушайте меня. Жака нет в Париже с июня прошлого года, сейчас на носу апрель, значит, он там около девяти месяцев. Я ни разу его не видел, он мне не писал; но отец часто навещает его, он говорит, что Жак чувствует себя хорошо, много занимается; что уединенность и дисциплина дали превосходные результаты. Обманывается ли отец? Или его обманывают? После вчерашней нашей встречи у меня вдруг стало неспокойно на душе. Я подумал, что, может быть, ему там худо, а я, ничего не зная об этом, не могу ему помочь; эта мысль мучает меня. И тогда я решил прийти к вам и честно все рассказать. Я взываю к дружбе, которая связывает вас с ним. Речь идет вовсе не о том, чтобы выдать его секреты. Но вам он, наверное, пишет обо всем, что там происходит. И только вы один можете меня успокоить – или заставить меня вмешаться.
Даниэль слушал его с безучастным лицом. Первым его побуждением было вообще отказаться от разговора. Высоко подняв голову, он смотрел на Антуана суровыми от волнения глазами. Потом, не зная, как поступить, он обернулся к матери. Та с интересом ждала, что будет дальше. Ожиданье затягивалось. Наконец она улыбнулась.
– Говори все как есть, мой милый, – сказала она и с какой-то удалью взмахнула рукой. – О том, что не солгал, никогда жалеть не приходится.
И Даниэль повторил ее жест. Он решился. Да, время от времени он получал от Тибо письма, все более краткие, все менее ясные. Даниэль знал только, что его товарищ живет на полном пансионе у какого-то провинциального добряка-учителя, но где? На конвертах всегда стоит штемпель почтового вагона северного направления. Может, какие-то курсы подготовки на бакалавра?
Антуан старался не показать своего изумления. Как тщательно скрывал Жак правду от лучшего своего друга! Отчего? От стыда? Да, должно быть, от того самого чувства стыда, которое заставляло г-на Тибо приукрашивать действительность, именуя исправительную колонию в Круи, куда он упрятал своего сына, "религиозным учреждением на берегу Уазы". Внезапно у Антуана мелькнуло подозрение, что эти письма написаны Жаком под чью-то диктовку. Быть может, малыша там запугивают? Антуану вспомнилась разоблачительная кампания, предпринятая одной революционной газетой в Бовэ, ужасные обвинения, брошенные Благотворительному обществу социальной профилактики; обвинения оказались ложными, г-н Тибо возбудил против газеты процесс, он блестяще выиграл его и проучил клеветников, но все же…
Нет, Антуан привык полагаться только на себя.
– Не могли ли бы вы мне показать одно из этих писем? – попросил он. И, видя, как покраснел Даниэль, запоздало добавил с извиняющейся улыбкой: Только одно, просто взглянуть… Не важно, какое…
Не отвечая и даже не спросив глазами совета у матери, Даниэль встал и вышел из комнаты.
Оставшись с г-жой де Фонтанен наедине, Антуан опять испытал те же чувства, что и в прошлый раз: растерянность, любопытство, влечение. Она смотрела прямо перед собой и, казалось, не думала ни о чем. Но одно ее присутствие как будто подстегивало внутреннюю жизнь Антуана, обостряло его проницательность. Воздух вокруг этой женщины обладал какой-то особой проводимостью. Сейчас Антуан явственно ощущал исходившее от нее неодобрение. И он не ошибся. Она не порицала прямо ни Антуана, ни г-на Тибо, поскольку ничего не знала об участи Жака, но, вспоминая свой единственный визит на Университетскую улицу, она не могла отделаться от впечатления, что там что-то неладно. Антуан догадывался об ее чувствах и почти разделял их. Разумеется, если б кто-либо посмел критиковать поступки его отца, он бы только возмутился; но сейчас в глубине души он был на стороне г-жи де Фонтанен – против г-на Тибо. В прошлом году – этого он не забыл, – когда он впервые окунулся в атмосферу, окружавшую Фонтаненов, воздух отцовского дома долго еще казался ему непригодным для дыхания.
Вошел Даниэль и протянул Антуану неказистый конверт.
– Это первое письмо. Самое длинное, – сказал он, садясь.
"Дорогой Фонтанен,
Пишу тебе из моего нового дома. Не пытайся мне писать, здесь это категорически запрещено. В остальном же мне здесь очень хорошо. Преподаватель у меня тоже хороший, он добр ко мне, и я много занимаюсь. У меня много товарищей, они тоже очень добры ко мне. По воскресеньям меня навещают отец и брат. Так что, как видишь, мне здесь очень хорошо. Прошу тебя, дорогой Даниэль, во имя нашей дружбы, не суди строго моего отца, тебе всего не понять. А я знаю, что он очень добрый, и он правильно сделал, что отослал меня из Парижа, где я зря терял время в лицее, теперь я сам это сознаю, и я очень доволен. Не даю тебе своего адреса, чтобы быть уверенным, что ты не станешь мне писать, так как это было бы для меня просто ужасно.
Как только смогу, дорогой Даниэль, напишу тебе еще.
Жак".
Антуан дважды прочитал письмо. Если б он не узнал по некоторым характерным приметам почерк брата, он ни за что бы не поверил, что письмо писал Жак. Адрес на конверте был проставлен другой рукой – почерк крестьянский, неуверенный, с помарками. Антуана в равной мере смущали и форма письма, и его содержание. К чему столько лжи? Мои товарищи! Жак жил в камере, в том пресловутом "специальном корпусе", который был учрежден г-ном Тибо в исправительной колонии Круи для детей из хороших семей и который всегда пустовал; Жак не общался ни с одним живым существом, кроме служителя, приносившего ему еду и сопровождавшего на прогулках, да еще раза два-три в неделю приезжал из Компьеня учитель, чтобы дать ему урок. Отец и брат навещают меня! Г-н Тибо в силу своего официального положения прибывал в Круи по первым понедельникам каждого месяца и председательствовал на заседаниях распорядительного совета, и по этим дням, перед отъездом, он в самом деле всякий раз просил привести к нему на несколько минут сына в комнату для посетителей. Что касается Антуана, он выражал желание навестить брата во время летних каникул, но г-н Тибо решительно противился этому: "Самое главное в режиме, установленном для твоего брата, – говорил он, – это полнейшая изоляция".
Упершись локтями в колени, Антуан вертел в руках письмо. Прощай теперь душевный покой. Он ощутил вдруг такую растерянность, такое одиночество, что ему захотелось во всем открыться этой озаренной внутренним светом женщине, которую счастливый случай поставил на его пути. Он поднял на нее глаза; спокойно сложив на юбке руки, с задумчивым лицом, она, казалось, ждала. Ее взгляд проникал в самую душу.
– Не можем ли мы вам чем-нибудь помочь? – тихо спросила она и улыбнулась. Из-за белизны пушистых волос эта улыбка и все лицо ее показались ему еще моложе.
И, однако, готовый уже все рассказать, в последний момент он отступил. Даниэль не спускал с него своих суровых глаз. Антуан вдруг испугался, что его сочтут нерешительным, что г-жа де Фонтанен перестанет думать о нем как о человеке энергичном, каким он был на самом деле. Но для себя он нашел более удобное оправдание: он не имеет права выдавать тайну, которую Жак так упорно старался скрыть. Опасаясь самого себя и пресекая дальнейшие увертки, он встал и протянул руку с тем роковым выражением лица, которое он охотно принимал и которое, казалось, говорило: "Ни о чем не надо спрашивать. Вы меня разгадали. Мы понимаем друг друга. Прощайте".
Выйдя на улицу, он пошел куда глаза глядят, твердя самому себе: "Прежде всего хладнокровие. И решительность". Те пять-шесть лет, которые он посвятил научным занятиям, казалось, обязывали его размышлять с максимальной логичностью. "Жак ни на что не жалуется. Следовательно, Жаку хорошо". Но он-то понимал, что дело обстоит как раз наоборот. Точно наваждение, в голову все лезла мысль о газетной шумихе, поднятой вокруг исправительной колонии; особенно назойливо вспоминалась статья, озаглавленная "Каторга для детей", где подробно описывались физические и нравственные страдания воспитанников, которые недоедают, живут в грязи, подвергаются телесным наказаниям и всецело отданы во власть свирепых надзирателей. У него вырвался угрожающий жест. Во что бы то ни стало он вызволит оттуда бедного малыша! Задача благородная, что и говорить. Но как ее выполнить? Заводить с г-ном Тибо разговор, вступать с ним в пререкания – об этом не могло быть и речи: шутка ли, Антуан замахивался на отца, на то учреждение, которое тот основал и которым руководил! Для самого Антуана в этой вспышке сыновнего бунта было столько новизны, что он ощутил сначала смущение, потом гордость.








