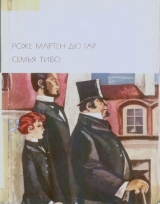
Текст книги "Семья Тибо, том 1"
Автор книги: Роже Мартен дю Гар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 67 (всего у книги 86 страниц)
– Это еще вопрос! – отчеканил Мейнестрель.
Все посмотрели на него. С рассеянной торжественностью он устремил свой взгляд туда, где сидела Альфреда.
– Погодите! – сказал Жак.
– Ведь существует Россия! – прервал Ричардли. – А затем есть Германия. Предположим на минуту, что Австрия нападает на Сербию; и предположим, – это маловероятно, но все-таки возможно, – что вмешается Россия. Русская мобилизация повлечет за собой мобилизацию в Германии, за которой автоматически последует мобилизация во Франции Вся прелестная система их союзов заработает сама по себе… А это значит, что австро-сербская война способна вызвать всеобщий конфликт. – Он посмотрел на Жака и улыбнулся. Однако, старина, Германия знает это лучше, чем мы с тобой. По-твоему, предоставляя австрийскому правительству свободу действий, Германия согласится рисковать европейской войной? Нет. Подумайте хорошенько… Риск таков, что Германия должна помешать Австрии действовать.
Мускулы на лице Жака напряглись.
– Постойте, – повторил он. – Это как раз то самое, из-за чего Хозмер поднял тревогу. Есть, оказывается, все основания думать, что Германия уже оказала поддержку Австрии.
Мейнестрель вздрогнул. Он не спускал глаз с Жака.
– Вот каким образом, – продолжал Жак, – происходили события, – если верить Хозмеру… По-видимому, вначале, на первых заседаниях после убийства, Берхтольд натолкнулся в Вене на сопротивление с двух сторон: со стороны венгерского министра Тиссы, человека осторожного, врага насильственных методов, и со стороны императора. Да, Франц-Иосиф как будто не решался дать согласие; он хотел прежде всего узнать, что думает Вильгельм Второй. Между тем кайзер собирался отправиться в плавание. Нельзя было терять ни минуты. И потому представляется вероятным, что между четвертым и седьмым июля Берхтольд нашел возможность посоветоваться с кайзером и его канцлером и добился согласия Германии…
– Все это лишь предположения… – произнес Ричардли.
– Конечно, – ответил Жак. – Но этим предположениям придает вероятность то, что произошло в Вене за последние пять дней. Подумайте хорошенько. За последнюю неделю даже в ближайшем окружении Берхтольда еще не было, кажется, принято определенных решений; не скрывали, что император и даже Берхтольд опасаются прямого противодействия со стороны Германии. И вдруг седьмого июля все изменилось. В этот день (в прошлый вторник) срочно созвали большой государственный совет, настоящий военный совет. Как будто вдруг руки у них оказались развязанными… Что говорилось в совете – об этом двое суток хранилось молчание. Но позавчера просочились первые слухи: слишком много людей оказалось посвящено в тайну в результате различных распоряжений, отданных после совета. К тому же у Хозмера в Вене превосходная агентура; Хозмер всегда узнает все!.. На заседании совета Берхтольд занял новую позицию: он вел себя в точности так, как если бы уже имел в кармане формальное обязательство Германии поддержать всеми средствами карательную экспедицию против Сербии. И он хладнокровно предложил своим коллегам настоящий план войны, который оспаривал только Тисса. Что план Берхтольда есть действительно план войны, доказывает то, что Тисса призывал своих коллег удовлетвориться лишь унижением Сербии; он считал вполне достаточным одержать блестящую дипломатическую победу. Однако весь совет восстал против него, и в конце концов он уступил: присоединился к общему мнению… Еще того чище: Хозмер уверяет, что в то самое утро министры цинически рассуждали, не следует ли немедленно объявить мобилизацию. И если они этого не сделали, то лишь потому, что нашли более удобным перед лицом других держав сбросить маску лишь в последний момент… Но несомненно одно: план Берхтольда и генерального штаба был принят… Каковы детали этого плана? Конечно, это узнать непросто… Но все-таки кое-что уже известно: например, что был отдан приказ начать все военные приготовления, какие можно осуществить, не привлекая особого внимания; что на австро-сербской границе войска прикрытия стоят наготове и в течение нескольких часов могут под любым предлогом оккупировать Белград! – Он быстро провел рукой по волосам. – А чтобы закончить, вот вам слова, которые якобы произнес один из сотрудников начальника генерального штаба, пресловутого Гетцендорфа; возможно, что это всего лишь хвастовство старого солдафона, но проливающее свет на настроения австрийских правителей. Он будто бы заявил в узком кругу: "Европа в один из ближайших дней станет пред свершившимся фактом".
Жак замолчал, и тотчас же все взоры устремились на Пилота.
Он застыл, скрестив руки; его неподвижные зрачки блестели.
Долгая минута прошла в молчании. Одни и те же опасения, а главное, растерянность искажали лица присутствующих.
Наконец Митгерг резко нарушил тишину:
– Unglaublich…
Наступила новая пауза.
Затем Ричардли пробормотал:
– Если действительно за всем этим стоит Германия!..
Пилот обратил на него свой острый взгляд, но тот, казалось, не заметил этого. Губы Пилота разжались и издали невнятный звук. Лишь Альфреда, не перестававшая следить за ним, поняла: "Преждевременно!"
Она вздрогнула и инстинктивно прижалась к плечу Патерсона.
Англичанин окинул молодую женщину быстрым взглядом. Но она опустила голову, видимо, уклоняясь от всяких вопросов.
Впрочем, она была бы в большом затруднении, если бы Пат попросил ее объяснить свое состояние. В самом деле, в этот вечер война впервые перестала быть для нее абстракцией и представилась ее воображению с полной отчетливостью во всей своей кровавой реальности. Но не разоблачения Жака вызвали дрожь у Альфреды, а произнесенное Мейнестрелем слово "преждевременно". Почему? Эта мысль не могла захватить ее врасплох. Она знала убеждение Пилота: "Революция может возникнуть лишь в результате бурного кризиса; война при современном положении Европы есть наиболее вероятный повод для кризиса; но если это произойдет, то пролетариат, недостаточно подготовленный, не будет способен превратить империалистическую войну в революцию". Потрясла ли Альфреду именно та мысль, что если социализм и в самом деле не подготовлен, то война окажется всего лишь бесплодной бойней? Или самый тон, каким было произнесено слово – "преждевременно". Но что нового могло быть для нее в этом тоне? Разве она с давних пор не привыкла к бесстрастию своего Пилота? (Однажды она с невольным удивлением сказала ему: "Ты относишься к войне, как христиане к смерти: у них мысль настолько устремлена к тому, что будет потом, что они забывают обо всех ужасах агонии…" Он ответил, смеясь: "Для врача, девочка, муки родов – в порядке вещей".) Она даже восхищалась – хоть иногда и страдала от нее – этой сознательной отрешенностью, достигнутой путем постоянных тяжких усилий человеком, чьи человеческие слабости она знала лучше, чем кто-либо иной, это было как бы лишним доказательством его превосходства. И ее всегда волновала мысль, что за этим чудовищным "обесчеловечением", в сущности, скрывались в высшей степени человеческие мотивы: стремление лучше служить человечеству, лучше работать над разрушением современного общества ради будущего прекрасного мира… Почему же она вздрогнула? Она не могла этого объяснить… Она подняла свои длинные ресницы, и ее взгляд, скользнув поверх Патерсона, упал на Мейнестреля с выражением доверия. "Терпение, – подумала она. – Он еще ничего не сказал. Он скажет. И снова все станет ясно, все будет справедливо и хорошо!"
– Что австрийский и германский Militarismus хотят войны, в это я верю, – продолжал Митгерг, покачивая взъерошенной головой. – И что с милитаристами заодно многие германские правители, и тяжелая индустрия, и Крупп, и все сторонники "Drang nach Osten" – да, в это я тоже могу поверить. Но правящие классы в целом – нет! Они испугаются. У них большое влияние. Они не допустят. Они скажут правительствам: "Остановитесь! Это безумие! Если вы подожжете этот динамит, то сами тоже взлетите на воздух!"
– Однако, Митгерг, – сказал Жак, – если действительно существует общность взглядов между правителями и военными партиями, то что может сделать оппозиция со стороны твоих правящих классов? А эта общность взглядов, по сведениям Хозмера…
– Никто не берет под сомнение эти сведения, – прервал Ричардли. – Но единственное, что можно сейчас утверждать, – это то, что существует угроза войны. Не больше… А что в действительности скрывается за этой угрозой? Бесповоротное стремление к войне? Или какие-нибудь новые комбинации германских министерских канцелярий?
– Я не верю в возможность войны, – флегматично заявил Патерсон. – Вы забыли о моей старой Англии! Никогда она не согласится допустить, чтобы Тройственный союз одержал верх в Европе… – Он улыбнулся. – Она сохраняет спокойствие, моя старая Англия. Вот о ней и забывают! Но она смотрит, она слушает и наблюдает; и если дело пойдет не так, как ей нужно, она внезапно встанет во весь рост!.. У нее еще крепкие мускулы, вы знаете! Она их упражняет каждое утро, эта милая старушка…
Жак заговорил нетерпеливо и взволнованно:
– Факт налицо! Что бы там ни было – стремление к войне или желание запугать, – Европа уже завтра встанет перед грозной опасностью! Ну, а мы, что должны делать мы? Я думаю так же, как и Хозмер. Перед этой угрозой мы должны занять определенную позицию. Мы должны как можно скорее подготовить контрнаступление!
– Да, да, правильно! – воскликнул Митгерг.
Жак обернулся к Мейнестрелю, но не мог поймать его взгляда. Он вопросительно взглянул на Ричардли, тот сделал утвердительный знак:
– Согласен!
Ричардли отказывался верить в опасность войны. Тем не менее он не отрицал, что Европа глубоко потрясена этой внезапной угрозой; и он тотчас же определил, какие выгоды может извлечь из этого потрясения Интернационал, чтобы объединить все оппозиционные силы и внедрить в сознание масс революционные идеи.
Жак продолжал:
– Я повторяю слова Хозмера: угроза европейского конфликта ставит перед нами новую и вполне определенную задачу. Наша обязанность – возобновить и усилить программу, выдвинутую два года назад в связи с Балканской войной… Прежде всего надо выяснить, нет ли возможности ускорить созыв конгресса в Вене… Затем надо немедленно и всюду одновременно начать открытую официальную кампанию самого широкого размаха!.. Запросы в рейхстаге, в палате депутатов, в думе!.. Одновременный нажим на все министерства иностранных дел!.. Выступление в печати!.. Призыв к народам!.. Массовые демонстрации!..
– И чтобы перед глазами всех правительств встал призрак всеобщей забастовки! – сказал Ричардли.
– С саботажем на военных заводах! – прохрипел Митгерг. – И взрывать паровозы и отвинчивать гайки на рельсах, как в Италии!
Все обменивались лихорадочными взглядами. Не настал ли наконец час действия?
Жак снова обернулся к Пилоту. Беглая улыбка, Светлая и холодная, которую Жак принял за знак одобрения, скользнула по лицу Мейнестреля и погасла, как луч прожектора. Внезапно осмелев, Жак снова с жаром заговорил:
– Да, забастовка! Всеобщая и одновременная! Наше лучшее оружие!.. Хозмер опасается, что на Венском конгрессе вопрос опять останется в плане теории. Надо его поставить по-новому во всех планах. Выйти за пределы теории! Уточнить для каждой страны позицию, которую следует занять в том или ином случае! Не повторять базельских ошибок! Прийти, наконец, к конкретным практическим решениям. Не правда ли, Пилот?.. Хозмер даже хотел уговорить вождей организовать перед конгрессом подготовительные собрания. Чтобы расчистить почву. И чтобы доказать правительствам, что весь пролетариат на этот раз твердо решился выступить против их агрессивной политики!
Митгерг насмешливо возразил:
– Ах! Твои вожди! Чего ты ждешь от твоих вождей? Сколько лет они говорят о забастовке! И ты веришь, что на этот раз в Вене за несколько дней решатся на что-нибудь определенное?
– Новый фактор! – сказал Жак. – Опасность европейского пожара!
– Нет, только не твои вожди! Не дискуссии! Действие масс, да. Выступление масс, Camm'rad!
– Ну конечно, выступление масс! – воскликнул Жак. – Однако разве не самое важное для подготовки этого выступления, чтобы вожди прежде всего высказались ясно и категорически? Подумай, Митгерг, как бы это ободрило массы!.. Ах, Пилот, если бы у нас была уже единая интернациональная газета!
– Traumerei![224]224
Мечты! (нем.).
[Закрыть] – закричал Митгерг. – А я говорю, оставь в покое вождей и займись массами! Ты думаешь, что, например, немецкие вожди согласятся на забастовку? Нет! Они скажут то же самое, что в Базеле: «Невозможно из-за России».
– Это было бы печально, – заметил Ричардли. – Очень печально… В сущности, все дело в Германии упирается в социал-демократию…
– Во всяком случае, – сказал Жак, – они ясно показали два года назад, что умеют, когда нужно, выступать против войны! Без их вмешательства балканская история зажгла бы всю Европу!
– Нет, не "без их вмешательства", – проворчал Митгерг, – а "без вмешательства масс"! Что сделали они? Только следовали за массами!
– А кто же организовал массовые выступления? Вожди! – возразил Жак.
Бем покачал головой.
– Пока в России на миллионы и миллионы мужиков нет даже двух миллионов рабочих, русский пролетариат не располагает достаточными силами для борьбы против своего правительства; царский Militarismus – это реальная опасность для Германии, и социал-демократия не может гарантировать забастовку!.. И Митгерг прав: на Венском конгрессе она лишь теоретически даст согласие, так же, как это было в Базеле!
– Ах, оставьте в покое ваши конгрессы! – раздраженно закричал Митгерг. – Говорю вам: и на этот раз все решит выступление масс! А вожди последуют за ними… Надо везде – в Австрии, в Германии, во Франции – побуждать рабочих к восстанию, не дожидаясь, пока вожди отдадут приказ! Надо объединить надежных людей в каждом уголке, чтобы везде срывать работу – на железных дорогах, на оружейных заводах, в арсеналах! Везде! И нажимать на вождей, на профсоюзы! А в то же время снова воспламенить все революционные организации Европы! Я уверен, что Пилот думает так же, как и я!.. Внести расстройство всюду! В Австрии это легче всего! Nicht wahr, Bohm?[225]225
Не правда ли, Бем? (нем.).
[Закрыть] Решительно разбудить все подпольные национальные группировки – мадьяров, поляков, чехов! И венгров! И румын!.. И так везде!.. Можно разжечь итальянские забастовки! Можно и русские… И если массы будут везде готовы к восстанию, тогда и вожди пойдут за ними! – Он повернулся к Мейнестрелю: – Не правда ли, Пилот?
Мейнестрель в ответ поднял голову. Его острый взгляд остановился сначала на Митгерге, потом на Жаке и затем затерялся в направлении кровати, на которой между Ричардли и Патерсоном сидела Альфреда.
– Ах, Пилот, – воскликнул Жак, – если мы победим на этот раз, как неслыханно возрастет мощь Интернационала!
– Разумеется, – сказал Мейнестрель.
Беглая ироническая улыбка, не укрывшаяся от опытных глаз Альфреды, скользнула по его губам.
Слушая рассказ о разоблачениях Хозмера, о тех основательных предпосылках, которые позволяли предполагать, что Германия поддерживает намерения Австрии, он тотчас же подумал: "Вот она, их война! Семьдесят шансов из ста… А мы не готовы… Невозможно надеяться на захват власти ни в одной европейской стране. Значит?.." И у него тут же созрело решение: "В отношении тактики нет ни малейших сомнений: играть вовсю на народном пацифизме. Это теперь лучшее средство влияния на массы. Война войне! Если она вспыхнет, то необходимо, чтобы возможно большее количество солдат отправилось на войну с твердым убеждением, что война спущена с цепи капиталом против воли и против интересов пролетариата; что они вопреки их желанию ввергнуты в братоубийственную борьбу ради преступных целей. Такой посев не пропадет, что бы из него ни выросло… Превосходный прием, чтобы ввести в недра империализма зародыш его гибели! Превосходный случай и для того, чтобы держать на виду наших официальных вождей, заставить их вконец запутаться и полностью скомпрометировать их перед властями… Итак, валяйте, миленькие! Дуйте в пацифистскую дудку!.. Впрочем, вы только этого и хотите. Стоит дать вам волю…" Он усмехнулся про себя: заранее представил себе великодушные объятия пацифистов и социал-патриотов всех мастей; казалось, до него уже доносились теноровые раскаты с официальных трибун… "Что же касается нас… – подумал он, – что касается меня…" Мейнестрель не докончил мысли. Он оставлял за собою возможность вернуться к ней позже.
Вполголоса он пробормотал:
– Там будет видно.
И тут он уловил настойчивый взгляд Альфреды и заметил, что все молчат, повернувшись к нему и ожидая, когда он наконец заговорит. Машинально он повторил несколько громче:
– Там будет видно. – Нервным движением он убрал свою больную ногу под стул и откашлялся. – Мне нечего прибавить к сказанному… Я думаю так же, как Хозмер… Я думаю так же, как Тибо, как Митгерг, как вы все…
Мейнестрель провел рукой по влажному лбу и неожиданно для всех встал.
В этой низенькой комнатке, заставленной стульями, он казался еще выше ростом. Он сделал наугад несколько шагов, кружа в узком свободном пространстве между столом, кроватью и ногами гостей. Взгляд, которым он скользнул по каждому из присутствующих, казалось, не был направлен ни на кого из них в отдельности.
Походив с минуту и помолчав, он остановился. Казалось, что его мысль возвращалась откуда-то издалека. Все были убеждены, что он сядет и начнет развивать план действий, что он пустится в те свои страстные, стремительные и несколько пророческие импровизации, к которым всех приучил. Но он ограничился тем, что опять пробормотал:
– Там будет видно… – И, опустив глаза, он улыбнулся и очень быстро добавил: – Впрочем, все это приближает нас к цели.
Затем он протиснулся позади стола к окну и внезапно распахнул ставни, за которыми открылась ночная мгла. Потом слегка наклонил голову и, переменив тон, бросил через плечо:
– Не дашь ли нам, девочка, выпить чего-нибудь холодного?
Альфреда послушно скрылась в кухне.
Несколько мгновений все чувствовали себя неловко.
Патерсон и Ричардли, продолжавшие сидеть на кровати, разговаривали вполголоса.
Посреди комнаты, под лампой, оба австрийца стоя спорили на своем родном языке. Бем вытащил из кармана половину сигары и зажег ее; выпяченная вперед нижняя губа, яркая и влажная, придавала его плоскому лицу выражение доброты, но также и несколько вульгарной чувственности, что резко отличало его от остальных.
Мейнестрель, стоя и опершись руками на стол, перечитывал письмо Хозмера, лежавшее перед ним около лампы; падавший из-под абажура свет резко освещал его: коротко остриженная борода казалась еще чернее, а лицо еще бледнее; лоб был наморщен, и веки почти совсем прикрывали зрачки.
Жак тронул его за локоть:
– Вот наконец, Пилот, может быть, раньше, чем вы думали, вот она власть над ходом вещей?
Мейнестрель покачал головой. Не глядя на Жака, все такой же бесстрастный, он подтвердил тусклым, лишенным всякого выражения голосом:
– Разумеется.
Потом замолчал и продолжал читать.
Тягостная мысль мелькнула в голове Жака: ему показалось, что в этот вечер что-то изменилось не только в интонации Пилота, но и в его отношении к Жаку.
Бем, которому надо было рано утром успеть на поезд, первый подал сигнал к уходу.
Все последовали за ним, чувствуя смутное облегчение.
Мейнестрель спустился вместе с ними, чтобы открыть дверь на улицу.
Альфреда, склонившись над перилами лестницы, ждала, пока внизу запихнут голоса. Затем она возвратилась к себе и хотела немного прибрать комнату. Но на сердце у нее было тяжело… Она ушла на кухню, где было темно, облокотилась на подоконник и замерла, устремив широко раскрытые глаза в ночной мрак.
– Мечтаешь, девочка?
Рука Мейнестреля, горячая и жесткая, погладила ее плечо. Она вздрогнула и как-то по-детски выпалила:
– А ты правда думаешь, что это война?
Он засмеялся. Она почувствовала, что ее надежды пошатнулись.
– Ведь мы…
– Мы? Мы не готовы!
– Не готовы? – Она неправильно поняла его слова, потому что весь вечер думала только о том, что надо бороться против войны. – И ты, ты правда думаешь, что нет способа помешать…
Он прервал:
– Нет! Разумеется! – Мысль, что современный пролетариат мог бы стать препятствием для сил, развязывающих войну, казалась Мейнестрелю нелепой.
Она угадала во тьме его улыбку, блеск его глаз и снова содрогнулась. Несколько секунд оба молчали, прижавшись друг к другу.
– Однако, – сказала она, – Пат, быть может, прав? Если мы не в состоянии ничего сделать, то Англия…
– Все, что она может, ваша Англия, это отдалить начало, и то едва ли! Почувствовал ли в ней Пилот непривычное сопротивление? Его голос стал еще жестче: – Впрочем, дело не в этом! Не в том суть, чтобы помешать войне!
Она приподнялась.
– Но почему же ты им об этом не сказал?
– Потому что сейчас это никого не касается, девочка! И потому, что сегодня практически нужно действовать так, как если бы!..
Она замолчала. Она чувствовала себя весь вечер оскорбленной, как никогда, обиженной им до глубины души; и внутренне восставала против него, сама не зная почему. Она вспомнила, как однажды, в самом начале их связи, он заявил скороговоркой, пожимая плечами: "Любовь? Для нас это совсем не важно!"
"Что же для него важно? – спрашивала она себя. – Ничего! Ничего, кроме Революции! – И впервые она подумала: – Революция – это его навязчивая идея… Все остальное он ни в грош не ставит!.. И меня! Мою женскую жизнь!.. Ничто для него не важно, даже то, что он сам собою представляет, то, что он не человек, а что-то другое!.." В первый раз вместо "выше и лучше, чем просто человек", она подумала – "не человек, а что-то другое".
Мейнестрель продолжал саркастическим тоном:
– Война – войне, девочка! Предоставь им действовать! Демонстрации, волнения, стачки – все, что им угодно. Вперед, фанфары! Вперед, трубачи! И пусть они сокрушают, если могут, стены Иерихона!
Он внезапно отодвинулся от Альфреды, повернулся на каблуках и процедил сквозь зубы:
– Однако эти стены, девочка, полетят к черту не от их труб, а от наших бомб!
И когда он, слегка прихрамывая, пошел в комнату, Альфреда услыхала придушенный смешок, который всегда леденил ей душу.
Она еще долго сидела неподвижно, облокотившись на подоконник, блуждая взглядом в ночи.
Вдоль пустынной набережной Арва со слабым журчанием несла свои воды среди камней. Один за другим гасли последние огни в прибрежных домах.
Альфреда не шевелилась. О чем она думала? Ни о чем, – так ответила бы она сама. Две слезинки вытекли из-под век и повисли у нее на ресницах.








