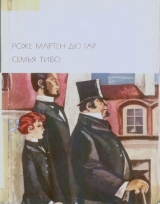
Текст книги "Семья Тибо, том 1"
Автор книги: Роже Мартен дю Гар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 86 страниц)
Антуан смотрел на него.
– Как ты изменился… Да нет, даже не изменился, просто в тебе ничего не осталось от прежнего Жака, совсем ничего…
Он не отрывал взгляда от брата, стараясь отыскать на этом новом лице прежние черты. Те же волосы, рыжие, правда чуть потемневшие, с каштановым отливом, но по-прежнему жесткие и по-прежнему закрывающие лоб; тот же нос, тонкий и некрасивый; те же потрескавшиеся губы, затененные теперь едва заметным светлым пушком; та же нижняя челюсть, тяжелая, раздавшаяся еще больше; наконец, те же оттопыренные уши, которые, казалось, растягивают и без того широкий рот. Но ничто не напоминало больше вчерашнего ребенка. "Темперамент – и тот у него словно переменился, – подумал Антуан. – Всегда такой подвижный, неугомонный – и на тебе, застывшее, сонное лицо… Был такой нервный, а теперь лимфатик…"
– Встань-ка на минутку!
С учтивой улыбкой, которая не затрагивала глаз, Жак дал себя осмотреть. Его зрачки были словно подернуты изморозью.
Антуан ощупывал его руки, ноги.
– Но как же ты вырос! Утомления от быстрого роста не ощущаешь?
Жак покачал головой. Взяв брата за запястье, Антуан поставил его прямо перед собой. Он заметил бледность густо усеянной веснушками кожи, увидел синеватые тени под нижними веками.
– Цвет лица неважный, – продолжал Антуан более серьезно; он нахмурил брови, собираясь еще что-то сказать, но промолчал.
Однако покорная, ничего не выражающая физиономия брата вдруг напомнила ему о тех подозрениях, что мелькнули у него, когда Жак появился во дворе.
– Тебя предупредили, что я жду тебя после мессы? – спросил он без обиняков.
Жак смотрел на него, не понимая.
– Когда ты выходил из часовни, – настаивал Антуан, – ты знал, что я тебя жду?
– Да нет. Откуда?
Он улыбался с наивным удивлением.
Антуану пришлось идти на попятный; он пробормотал:
– А я решил было… Здесь можно курить? – поспешил он переменить тему.
Жак глянул на него с беспокойством и, когда Антуан протянул ему портсигар, ответил:
– Нет. Я не буду.
Он помрачнел.
Антуан не знал, о чем еще с ним говорить. И, как это всегда бывает, когда пытаешься продолжить беседу с человеком, который едва отвечает тебе, он мучительно выдавливал из себя все новые вопросы:
– Так что, ты в самом деле ни в чем не нуждаешься? У тебя здесь есть все необходимое?
– Конечно.
– Спать-то тебе удобно? Одеял достаточно?
– О да, мне даже слишком жарко.
– А учитель? Он с тобой вежлив?
– Очень.
– Ты не скучаешь, занимаясь с утра до вечера, один, без друзей?
– Нет.
– А вечерами?
– Я ложусь после ужина, в восемь часов.
– А встаешь?
– В половине седьмого, по звонку.
– Капеллан к тебе когда-нибудь заходит?
– Да.
– Он хороший?
Жак поднял на Антуана затуманенный взгляд. Он не понял вопроса и не ответил.
– Директор тоже заходит?
– Да, часто.
– Он приятно держится. Его любят?
– Не знаю. Наверно, любят.
– Ты никогда не встречаешься с… другими?
– Никогда.
Жак сидел потупясь и при каждом вопросе чуть заметно вздрагивал, словно ему было трудно всякий раз перескакивать на новый предмет.
– А поэзия? Ты все еще пишешь стихи? – спросил Антуан игривым тоном.
– О нет!
– Почему?
Жак покачал головой, потом кротко улыбнулся, и улыбка довольно долго держалась у него на губах. Он улыбнулся бы точно так же, если б Антуан спросил, играет ли он еще в обруч.
Окончательно выдохшись, Антуан решился заговорить о Даниэле. Этого Жак не ожидал – у него слегка порозовели щеки.
– Откуда же мне о нем знать? – ответил он. – Писем ведь здесь не получают.
– Но ты-то, – продолжал Антуан, – разве ему не пишешь?
Он не спускал с брата глаз. Тот улыбнулся точно так же, как минуту назад, когда Антуан заговорил о поэзии. Потом слегка пожал плечами.
– Все это старая история… Не будем больше об этом.
Что он хотел этим сказать? Ответь он: "Нет, я ни разу ему не писал", Антуан мог бы его оборвать, пристыдить – и сделал бы это даже с тайным удовольствием, потому что вялость брата начинала его раздражать. Но Жак ушел от ответа, и его тон, решительный и грустный, парализовал Антуана. Тут ему вдруг показалось, что Жак уставился в дверь за его спиной; к Антуану, пребывавшему в состоянии какой-то безотчетной злости, разом вернулись все его подозрения. Дверь была застеклена – наверняка для того, чтобы из коридора можно было наблюдать за всем, что происходит в комнате; над дверью было еще и маленькое слуховое окошко, зарешеченное, но не застекленное, позволявшее слышать, что говорят внутри.
– В коридоре кто-то есть? – резко спросил Антуан, понизив, однако, голос.
Жак посмотрел на него, как на сумасшедшего.
– Как в коридоре? Да, иногда… А что? Да вот, я сейчас видел, как прошел дядюшка Леон.
В дверь тут же постучались – дядюшка Леон зашел познакомиться со старшим братом. Он по-свойски присел на край стола.
– Ну, нашли его небось в добром здравии? Подрос-то как с осени, а?
Он засмеялся. У него были обвисшие усы и физиономия старого служаки; от густого смеха скулы у него покраснели, щеки покрылись мелкими лиловыми прожилками, которые, ветвясь, добежали до белков глаз и замутили взгляд, по-отечески добрый, но лукавый.
– Меня в мастерские перевели, – объяснил он и поиграл плечами. – А ведь я так привык к господину Жаку! Ну да ладно, – добавил он, уходя, – жизнь есть жизнь, чего на нее жаловаться… Привет господину Тибо передайте, не в службу, а в дружбу, – скажите, от дядюшки Леона, он меня знает!
– Славный старикан, – сказал Антуан, когда тот вышел.
Ему захотелось продолжить прерванный разговор.
– Я могу, если хочешь, передать ему письмо от тебя, – сказал он. И так как Жак не понимал, о чем идет речь, добавил: – Разве ты не хотел бы черкнуть несколько слов Фонтанену?
Он упорно пытался уловить на этом невозмутимом лице хоть какой-то намек на чувство, какую-то память о прошлом, – все было напрасно. Юноша помотал головой, на этот раз без улыбки:
– Нет, спасибо. Мне нечего ему сказать. Это все быльем поросло.
Антуан больше не настаивал. Он устал. К тому же и времени оставалось мало; он вынул часы.
– Половина одиннадцатого, через пять минут мне надо идти.
Тут Жак внезапно смутился; казалось, он хочет что-то сказать. Стал спрашивать брата, как его здоровье, когда отправляется поезд, как у него дела с экзаменами. И когда Антуан встал, его поразило, как горестно Жак вздохнул:
– Уже! Посиди еще немного…
Антуан подумал, что Жака огорчает его холодность, что, может быть, приезд брата доставил малышу куда больше радости, чем это могло показаться по его виду.
– Ты рад, что я приехал? – пробормотал он смущенно.
Жак будто ушел в какие-то свои мысли; он вздохнул, удивился и ответил с вежливой улыбкой:
– Конечно, я очень рад, спасибо тебе.
– Ну ладно, я постараюсь приехать еще, до свиданья, – сказал Антуан сердито. Собрав всю свою проницательность, он еще раз посмотрел младшему брату в глаза; в нем опять пробудилась нежность.
– Я часто думаю о тебе, малыш, – отважился он. – Все время боюсь, что тебе здесь плохо…
Они были возле двери. Антуан схватил брата за руку.
– Ты мне сказал бы, правда?
У Жака сделалось смущенное лицо. Он наклонился, будто хотел в чем-то признаться. И наконец, решившись, быстро проговорил:
– Хорошо, если б ты дал что-нибудь Артюру, служителю… Он такой старательный…
И, видя, что Антуан озадачен и колеблется, добавил:
– Дашь?
– А неприятностей не будет? – спросил Антуан.
– Нет, нет. Будешь уходить, скажи ему "до свиданья", только повежливее, и сунь тихонько на чай… Сделаешь?
В голосе его звучала почти что мольба.
– Ну конечно. Но ты все-таки мне скажи, не нужно ли тебе чего. Ответь… тебе здесь не очень худо?
– Да нет же! – отозвался Жак с едва уловимой ноткой раздражения. Потом, опять понизив голос, спросил: – Сколько ты ему дашь?
– Да я не знаю. Сколько? Десяти франков хватит? Или, может, двадцать дать?
– Да, конечно, двадцать франков! – воскликнул Жак с радостным смущением. – Спасибо, Антуан.
И крепко пожал протянутую руку брата.
Выйдя из комнаты, Антуан наткнулся на проходившего мимо служителя. Тот принял чаевые без колебаний, и его открытое лицо, в котором еще было что-то детское, зарделось от удовольствия. Он проводил Антуана в кабинет директора.
– Без четверти одиннадцать, – засвидетельствовал г-н Фем. – Вы успеете, но пора отправляться.
Они прошли через вестибюль, где возвышался бюст г-на Тибо. Антуан взглянул на него уже без иронии. Он теперь понимал, что отец имел полное право гордиться этим учреждением, которое от начала до конца было его детищем; Антуан даже ощутил некоторую гордость оттого, что он сын этого человека.
Господин Фем проводил его до ворот и просил передать господину учредителю самый почтительный привет; говоря, он не переставая похохатывал, щурил глазки за золотыми очками и доверительно стискивал руку Антуана своими по-женски мягкими и пухлыми ручками. Наконец Антуан высвободился. Маленький человечек остался стоять на дороге; хотя сильно припекало, он не надевал шляпы, поднимал приветственно руки, все время смеялся и в знак дружеского расположения покачивал головой.
"И чего это я разволновался, как девчонка, – убеждал себя Антуан, шагая к станции. – Заведение в полном порядке, и в общем Жаку здесь совсем неплохо".
"Глупее всего, – подумал он вдруг, – что я потерял уйму времени, разыгрывая из себя следователя, вместо того чтобы поболтать по-дружески с Жаком". Теперь ему даже казалось, что Жак расстался с ним без всякого сожаления. "Ну и он тоже виноват, – размышлял он с досадой, – нечего было ему напускать на себя такой равнодушный вид!" И все же Антуан жалел, что сам не проявил больше сердечности и тепла.
У Антуана не было любовницы, он довольствовался случайными встречами; но двадцатичетырехлетнее сердце порою властно напоминало о себе: ему хотелось пожалеть слабое существо, поддержать его своей силой. Сейчас его охватила нежность к малышу; она становилась все сильней и сильней с каждым шагом, уводившим его от брата. Когда он снова свидится с ним? Еще немного, и он повернул бы назад.
Он шел, опустив голову, – солнце светило в глаза. А когда поднял голову и огляделся, оказалось, что он сбился с дороги. Дети показали ему, как сократить путь, – прямиком через поля. Он ускорил шаг. "А если я опоздаю на поезд, – подумал он, словно бы в шутку, – что я стану делать?" Ему представилось, как он возвращается в колонию. Он провел бы с Жаком весь день, рассказал бы ему о своих напрасных страхах, о том, как он приехал сюда тайком от отца; он держался бы с ним по-товарищески, с полным доверием; напомнил бы малышу сцену в фиакре по возвращении из Марселя, признался бы, как он в тот вечер почувствовал, что они могли бы стать настоящими друзьями. Желание опоздать на поезд сделалось таким властным, что он замедлил шаги, не зная, на что решиться. Вдруг он услышал свисток паровоза; слева, над рощей, показались клубы дыма; тогда, не раздумывая больше, он побежал. Вот уже виден вокзал. Билет у него в кармане, остается только вскочить в вагон, пусть даже с неположенной стороны. Прижав локти к бокам, откинув голову, подставляя бороду ветру, он пил воздух полной грудью, с гордостью ощущая силу своих мускулов; он был уверен, что успеет.
Но он не учел одного – железнодорожной насыпи. Перед самой станцией дорога делала крюк и ныряла под мостик. Как ни ускорял он свой бег, напрягая последние силы, – из-под моста он выскочил, когда поезд, стоявший на станции, уже тронулся. Ему не хватило какой-нибудь сотни метров.
Он не мог допустить, что потерпел поражение; для этого он был слишком горд; нет, он опоздал нарочно, – думать так было приятней. "Я успел бы еще прыгнуть в багажный вагон, если бы захотел, – мгновенно пронеслось у него в мозгу. – Но тогда у меня не осталось бы выбора, я бы уехал, не повидав Жака еще раз". Он остановился, довольный собой.
И все то, что несколько минут назад промелькнуло в его воображении, сразу же обрело реальность: завтрак в харчевне, возвращение в колонию, целый день, посвященный Жаку.
Не было еще часа, когда Антуан снова оказался перед «Фондом Тибо». В воротах он столкнулся с выходившим г-ном Фемом. Тот был так изумлен, что на несколько мгновений остолбенел; глазки так и прыгали за стеклами очков. Антуан рассказал о своей незадаче. Тут только г-н Фем рассмеялся, и к нему вернулось обычное красноречие.
Антуан сказал, что хотел бы взять Жака и пойти с ним до конца дня на прогулку.
– Боже мой, – растерялся директор. – Наши правила…
Но Антуан настаивал и добился в конце концов своего.
– Только уж вы сами объясните все господину учредителю… Я схожу за Жаком.
– Я с вами, – сказал Антуан.
И тут же пожалел об этом: они попали не вовремя. Войдя в коридор, Антуан сразу увидел брата; тот примостился на корточках, на самом виду, в чуланчике, который официально именовался "ватером"; дверь в чуланчик была распахнута настежь, к ней привалился Артюр и покуривал трубку.
Антуан поспешно прошел в комнату. Директор потирал ручки и явно ликовал.
– Вот видите! – воскликнул он. – Детей, вверенных нашему попечению, мы не оставляем без попечения даже там.
Вернулся Жак. Антуан ожидал, что мальчик будет смущен; но тот невозмутимо застегивал штаны, и лицо его ровно ничего не выражало, даже удивления, что Антуан вернулся. Г-н Фем объяснил, что он отпускает Жака с братом до шести часов. Жак смотрел ему в лицо, будто пытаясь понять, но не произнес ни слова.
– Прошу извинить, но я убегаю, – пропел г-н Фем своим сладким голоском. – Заседание муниципального совета. Ведь я мэр! – объявил он уже в дверях, давясь от хохота, словно в этом факте заключено было нечто на редкость смешное; и Антуан действительно улыбнулся.
Жак одевался не спеша. С крайней услужливостью, которую Антуан тут же про себя отметил, Артюр подавал Жаку одежду; он даже почистил ему ботинки; Жак не противился.
Комната утратила тот опрятный вид, который утром так приятно поразил Антуана. Он попытался понять, в чем дело. Поднос с завтраком был не убран со стола – грязная тарелка, пустой стакан, хлебные крошки. Чистое белье исчезло, на вешалке вместо полотенец висела тряпка, задубевшая, в пятнах, из-под умывального таза торчал кусок старой грязной клеенки; свежие простыни заменены были простынями сурового полотна, серыми и мятыми. В нем опять проснулись прежние подозрения. Но он ни о чем не спросил.
– Куда мы пойдем? – весело спросил Антуан, когда они с Жаком вышли на дорогу. – Ты в Компьене бывал? Туда километра три с небольшим, если идти берегом Уазы. Ладно?
Жак согласился. Казалось, он решил ни в чем не противоречить брату.
Антуан взял мальчика под руку, приноравливаясь к его шагу.
– Ну, что ты скажешь про этот фокус с полотенцами? – сказал он, смеясь, и посмотрел на Жака.
– С полотенцами? – переспросил тот, не понимая.
– Ну да. Сегодня утром, пока меня водили по всей колонии, у них было время постелить у тебя прекрасные белые простыни, повесить прекрасные новые полотенца. Но им не повезло, потому что я снова очутился здесь, когда меня больше не ждали, и вот…
Жак остановился и принужденно улыбнулся.
– Можно подумать, что тебе во что бы то ни стало хочется отыскать в колонии что-нибудь плохое, – проговорил он своим низким, чуть дрожащим голосом. Он умолк, пошел дальше и почти тотчас снова заговорил – с усилием, словно испытывал бесконечную скуку оттого, что его вынуждают распространяться на столь ничтожную тему: – Все это гораздо проще, чем ты думаешь. Белье здесь меняют по первым и третьим воскресеньям каждого месяца. Артюр, который занимается мною всего каких-нибудь десять дней, поменял мне простыни и полотенца в прошлое воскресенье; вот он и решил сделать то же самое сегодня утром, потому что сегодня воскресенье. А на бельевом складе ему, должно быть, сказали, что он ошибся, и велели принести чистое белье назад. Я имею на это право только через неделю.
Он опять замолчал и стал глядеть по сторонам.
Прогулка началась явно неудачно. Антуан постарался поскорее переменить разговор; но сожаление о собственной неловкости не отпускало его и мешало заговорить просто и весело, как ему хотелось. Когда фразы Антуана звучали вопросительно, Жак односложно отвечал, но не проявлял к разговору ни малейшего интереса. В конце концов он неожиданно сказал:
– Прошу тебя, Антуан, не говори об этой истории с бельем директору: Артюра отругают, а он ни в чем не виноват.
– Ну, разумеется, не скажу.
– И папе тоже? – добавил Жак.
– Да никому не скажу, можешь быть спокоен! Я уж и думать об этом забыл. Послушай, – заговорил он опять, – я скажу тебе откровенно: видишь ли, я вбил себе в голову, сам не знаю почему, что здесь все идет кувырком и что тебе тут плохо…
Жак слегка повернул голову и посмотрел на брата серьезным, изучающим взглядом.
– Все утро я выслеживал и вынюхивал, – продолжал Антуан. – И наконец понял, что ошибался. Тогда я сделал вид, что опоздал на поезд. Мне не хотелось уезжать, не поболтав с тобой хоть немножко с глазу на глаз, понимаешь?
Жак не отвечал. Улыбалась ли ему перспектива такого разговора? Антуан отнюдь не был в этом уверен; он испугался, что взял неверный тон, и замолчал.
Спускаясь к берегу, дорога пошла под уклон, и они поневоле зашагали быстрее. Добрались до речного рукава, превращенного в канал. Через шлюз был переброшен железный мостик. Три больших пустых баржи нависали высокими коричневыми бортами над почти неподвижной водой.
– Тебе никогда не хотелось пуститься в плаванье на барже? – весело спросил Антуан. – Неторопливо скользить по каналам, между рядами тополей, и стоянки у шлюзов, и утренние туманы, а вечером, на закате, сидеть на носу, ни о чем не думая, с папиросой в зубах, болтать ногами над водой… Ты все еще рисуешь?
На этот раз Жак явно вздрогнул и даже будто покраснел.
– А что? – спросил он неуверенно.
– Да ничего, – отвечал заинтригованный Антуан. – Просто подумал, что здесь можно было бы сделать забавные наброски – эти три баржи, шлюз, мостки…
Бечевник[45]45
Бечевник – дорога, по которой тянут бечевой суда.
[Закрыть] вдоль реки, расширившись, превратился в дорогу. Подошли к большому рукаву Уазы, катившей навстречу свои полые воды.
– Вот и Компьень, – сказал Антуан.
Он остановился и, защищая от солнца глаза, приложил руку ко лбу. Вдалеке, на фоне неба, над зеленой листвой, он различил стрельчатую дозорную башню, закругленную церковную колоколенку; он собирался их назвать, но, бросив взгляд на Жака, который стоял рядом и, сложив ладонь козырьком, тоже, казалось, вглядывался в горизонт, он заметил, что Жак смотрит в землю у своих ног; казалось, он ждет, когда Антуан снова пустится в путь, что Антуан и сделал, не промолвив ни слова.
Весь Компьень оказался в это воскресенье на улицах. Антуан и Жак смешались с толпой. Должно быть, с утра здесь проходил набор рекрутов; оравы принаряженных парней, раскупив у разносчиков трехцветные ленты, шли, пошатываясь, держась за руки и занимая весь тротуар, и распевали солдатские песни. На главной улице, заполненной девушками в светлых платьях и удравшими из казармы драгунами, прогуливались семьями и раскланивались друг с другом горожане.
Растерянный, оглушенный, Жак смотрел на эту сутолоку со все возраставшей тревогой.
– Уйдем отсюда, Антуан… – взмолился он.
Они свернули с главной улицы в узкую боковую, тихую и сумрачную, которая поднималась вверх. Потом вышли на залитую солнцем Дворцовую площадь – она ослепила их. Жак моргал глазами. Остановились, сели под рассаженными в шахматном порядке деревьями, которые еще не давали тени.
– Слушай, – сказал Жак, кладя руку Антуану на колено.
Колокола церкви св. Иакова зазвонили к вечерне; их трепет словно сливался с солнечным светом.
Антуан решил было, что мальчик невольно поддался хмельной прелести первого весеннего воскресенья.
– О чем ты думаешь, старина? – рискнул он спросить.
Вместо ответа Жак поднялся; оба молча направились к парку.
Жак не обращал никакого внимания на пышность пейзажа. Казалось, его занимает другое – как обойти наиболее людные места. Тишина, царившая вокруг замка, на террасах и балюстрадах, манила его. Антуан шел следом, говорил о том, что их окружало, – о подстриженных кустах самшита на зеленых лужайках, о диких голубях, садившихся на плечи статуй. Но ответы Жака были уклончивы.
Вдруг Жак спросил:
– Ты с ним говорил?
– С кем?
– С Фонтаненом.
– Конечно. Я встретил его в Латинском квартале. Знаешь, теперь он учится экстерном в коллеже Людовика Великого.
– Да? – отозвался Жак. И добавил дрогнувшим голосом, в котором впервые прозвучало что-то похожее на тот угрожающий тон, каким он так часто разговаривал в прежние времена: – Ты не сказал ему, где я?
– Он меня и не спрашивал. А что? Ты не хочешь, чтобы он об этом знал?
– Не хочу.
– Почему?
– Потому.
– Веская причина. Наверно, есть и другая?
Жак тупо посмотрел на него; он не понял, что Антуан шутит. С хмурым лицом он зашагал дальше. Потом вдруг спросил:
– А Жиз? Она знает?
– О том, где ты? Нет, не думаю. Но с детьми никогда нельзя ни в чем быть уверенным… – И, ухватившись за тему, затронутую самим Жаком, продолжал: – Бывают дни, когда она выглядит совсем взрослой девушкой; широко раскроет свои чудесные глаза и слушает, о чем говорят вокруг. А на другой день – опять сущее дитя. Хочешь – верь, хочешь – нет, но вчера вечером Мадемуазель искала ее по всему дому, а она забралась в прихожей под стол и играла там в куклы В одиннадцать-то лет!
Они спустились к увитой глициниями беседке; Жак задержался внизу лестницы, возле сфинкса из розового крапчатого мрамора, и погладил его полированный, сверкающий на солнце лоб. О ком он думал в эту секунду – о Жиз, о Мадемуазель? Или ему вдруг привиделся старый стол в прихожей, на нем старая ковровая скатерть с бахромою и серебряный поднос, на котором валяются визитные карточки? Во всяком случае, так показалось Антуану. Он весело продолжал:
– В толк не возьму, где она набирается своих причуд? В нашем доме ребенку не разгуляться! Мадемуазель обожает ее; но ты ведь знаешь ее характер – всего-то она боится, все девочке запрещает, ни на миг не оставляет ее одну…
Он засмеялся и весело, с видом сообщника поглядел на брата, чувствуя, что эти драгоценные мелочи семейной жизни принадлежат им обоим, имеют смысл только для них одних и навсегда останутся для них чем-то единственным и незаменимым, ибо это – воспоминания детства. Но Жак ответил ему лишь бледной, вымученной улыбкой.
И все-таки Антуан продолжал:
– За столом тоже не слишком-то весело, можешь мне поверить. Отец или молчит, или повторяет для Мадемуазель свои речи во всяких комитетах и во всех подробностях рассказывает, как он провел день. Да, кстати, знаешь, с его кандидатурой в Академию все идет как по маслу!
– Да?
Тень нежности пробежала по лицу Жака, слегка смягчила черты.
Подумав, он сказал с улыбкой:
– Это чудесно!
– Все друзья волнуются, – продолжал Антуан. – Аббат великолепен, у него в четырех академиях связи…[46]46
…у него в четырех академиях связи. – Французский Институт (Академия наук) состоит из пяти отделений, которые называются «академиями»; в том числе Французская Академия (литература) и Академия моральных и политических наук (философия, политическая экономия, право), куда баллотируется г-н Тибо.
[Закрыть] Выборы состоятся через три недели. – Он больше не смеялся. – Казалось бы, и пустяк – член Института, – пробормотал он, – а все-таки в этом что-то есть. И отец это заслужил, как ты считаешь?
– О, конечно! – И вдруг, как крик души: – Знаешь, ведь папа по природе добрый…
Жак запнулся, покраснел, хотел еще что-то добавить, но так и не решился.
– Я жду только, когда отец прочно усядется под куполом Академии, и тогда совершу государственный переворот, – с воодушевлением говорил Антуан. – Мне слишком тесно в этой комнатушке в конце коридора: уже некуда ставить книги. Ты ведь знаешь, что Жиз поместили теперь в твоей бывшей комнате? Я надеюсь уговорить отца, чтобы он снял для меня квартирку на первом этаже, помнишь, ту, где живет старый франт, пятнадцатого он выезжает. Там три комнаты; у меня был бы настоящий рабочий кабинет, я мог бы принимать больных, а в кухне я бы устроил нечто вроде лаборатории…
И вдруг ему стало стыдно, что он с таким упоением выставляет перед узником свою вольную жизнь, свои мечты о комфорте; он поймал себя на том, что о комнате Жака заговорил так, словно тому никогда уже не суждено вернуться в нее. Он замолчал. Жак опять напустил на себя равнодушный вид.
– А теперь, – сказал Антуан, чтобы как-то отвлечь Жака, – не пойти ли нам перекусить, а? Ты, должно быть, проголодался?
Он потерял всякую надежду установить с Жаком братский контакт.
Вернулись в город. Улицы, по-прежнему полные народу, гудели, как ульи. Толпа приступом брала кондитерские. Остановившись на тротуаре, Жак завороженно застыл перед пятиэтажным сооружением из глазированных, сочащихся кремом пирожных; от этого зрелища у него захватило дух.
– Входи, входи, – сказал, улыбнувшись, Антуан.
У Жака дрожали руки, когда он брал протянутую Антуаном тарелку. Сели за столик в глубине лавки перед целой пирамидой выбранных ими пирожных. Из кухни в полуоткрытую дверь врывались ароматы ванили и горячего теста. Безвольно развалившись на стуле, с покрасневшими, будто после слез, глазами, Жак ел молча и быстро, замирая после каждого съеденного пирожного в ожидании, когда Антуан положит ему еще, и тут же снова принимался жевать. Антуан заказал две порции портвейна. Жак взял свой стакан, пальцы у него еще дрожали; отпил глоток, крепкое вино обожгло рот, он закашлялся. Антуан пил мелкими глотками, стараясь не смотреть на брата. Жак осмелел, отхлебнул еще раз, почувствовал, как портвейн огненным шаром катится в желудок, глотнул опять и опять – и выпил все до дна. Когда Антуан снова наполнил ему стакан, он сделал вид, что ничего не замечает, и лишь секунду спустя сделал запоздалый протестующий жест.
Когда они вышли из кондитерской, солнце клонилось к закату, на улице похолодало. Но Жак не ощущал прохлады. Щеки у него горели, по всему телу разливалась непривычная, почти болезненная истома.
– Нам осталось еще три километра, – сказал Антуан, – пора возвращаться.
Жак едва не расплакался. Он сжал в карманах кулаки, стиснул челюсти, повесил голову. Украдкой взглянув на брата, Антуан заметил в нем такую резкую перемену, что даже испугался.
– Это ты от ходьбы так устал? – спросил он.
В его голосе Жак уловил новую нотку нежности; не в состоянии вымолвить ни слова, он обратил к брату искривившееся лицо, на глаза навернулись слезы.
Не зная, что и подумать, Антуан молча шел следом. Выбрались из города, перешли мост, зашагали по бечевнику, и тут Антуан подошел к брату вплотную, взял его за руку.
– Не жалеешь, что отказался от своей обычной прогулки? – спросил он и улыбнулся.
Жак молчал. Но участие брата, его ласковый голос, и дуновение свободы, пьянившее его все эти часы, и выпитое вино, и этот вечер, такой теплый и грустный… Не в силах совладать с волнением, он разрыдался. Антуан обнял его, поддержал, усадил рядом с собой на откос. Теперь он уж не думал о том, чтобы доискиваться до мрачных тайн в жизни Жака; он испытывал облегчение, видя, как рушится наконец стена безразличия, на которую он наталкивался с самого утра.
Они были одни на пустынном берегу, с глазу на глаз с бегущей водой, одни под мглистым небом, в котором угасал закат; прямо перед ними, раскачивая сухие камыши, болтался на волне привязанный цепью ялик.
Но им предстоял еще немалый путь, не сидеть же здесь вечно.
– О чем ты думаешь? Отчего плачешь? – спросил Антуан, заставляя мальчика поднять голову.
Жак еще крепче прижался к нему.
Антуан силился припомнить, какие именно слова вызвали этот приступ слез.
– Ты потому плачешь, что я напомнил тебе о твоих обычных прогулках?
– Да, – признался малыш, чтобы хоть что-то сказать.
– Но почему? – настаивал Антуан. – Где вы гуляете по воскресеньям?
Никакого ответа.
– Ты не любишь гулять с Артюром?
– Нет.
– Почему ты не скажешь об этом? Если тебе нравился старый дядюшка Леон, нетрудно будет добиться…
– Ах, нет! – прервал его Жак с неожиданной яростью.
Он выпрямился, лицо его выражало такую непримиримую, такую необычайную для него ненависть, что Антуан был потрясен.
Словно не в силах усидеть на месте, Жак вскочил и большими шагами устремился вперед, увлекая за собой брата. Он ничего не говорил, и через несколько минут Антуан, хотя он и боялся снова сказать что-нибудь невпопад, счел за благо решительно вскрыть нарыв и заговорил твердым тоном:
– Значит, ты и с дядюшкой Леоном не любил гулять?
Широко раскрыв глаза, сжав зубы, Жак продолжал идти, не произнося ни слова.
– А посмотреть на него – он так хорошо к тебе относится, этот дядюшка Леон… – рискнул еще раз Антуан.
Никакого ответа. Он испугался, что Жак снова спрячется в свою раковину; попытался было взять мальчика за руку, но тот вырвался и почти побежал. Антуан шагал за ним в полной растерянности, не зная, как вернуть его доверие, но тут Жак вдруг всхлипнул, замедлил шаг и, не оборачиваясь, заплакал.
– Не говори об этом, Антуан, не говори никому… С дядюшкой Леоном я не гулял, почти совсем не гулял…
Он умолк. Антуан открыл было рот, чтобы расспросить его подробнее, но каким-то чутьем понял, что лучше промолчать. В самом деле, Жак продолжал дрожащим хриплым голосом:
– В первые дни, да… На прогулке-то он и начал… рассказывать мне всякие вещи. И книги мне стал давать, – я просто поверить не мог, что такие бывают! А потом предложил отправлять мои письма, если я захочу… тогда-то я и написал Даниэлю. Потому что я тебе соврал: я ему писал… Но у меня не было денег на марки. Тогда… нет, ты не знаешь… Он увидел, что я немного умею рисовать. Догадываешься, в чем дело?.. Он стал говорить, что нужно делать. За это он купил мне марку для письма к Даниэлю. Но вечером он показал мои рисунки надзирателям, и они стали требовать новых рисунков, еще более замысловатых. И дядюшка Леон совсем перестал стесняться и уже больше со мной не гулял. Вместо того чтобы идти в поля, он вел меня задами, мимо колонии, через деревню… За нами увязывались мальчишки… Переулком, с черного хода, мы заходили в харчевню. Он там пил, играл в карты и бог знает чем еще занимался, а меня на все это время прятали… в прачечной… под старое одеяло…
– Как прятали?
– Так… в пустой прачечной… запирали на ключ… на два часа…
– Но зачем?
– Не знаю. Наверно, хозяева боялись. Один раз, когда в прачечной сушилось белье, меня спрятали в коридоре. Трактирщица сказала… сказала… – Он зарыдал.
– Что же она сказала?
– Она сказала: "Никогда не знаешь, что еще выкинет это воровское…"
Он рыдал так сильно, что не мог продолжать.
– Воровское? – повторил Антуан, наклоняясь к нему.
– "…воровское… отродье…" – договорил наконец мальчик и зарыдал еще горше.
Антуан слушал; желание узнать, что произошло дальше, оказалось на минуту сильнее, чем жалость.
– Ну?.. – торопил он. – Говори же!
Жак вдруг застыл на месте и ухватился за руку старшего брата.








