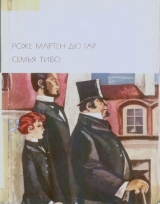
Текст книги "Семья Тибо, том 1"
Автор книги: Роже Мартен дю Гар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 57 (всего у книги 86 страниц)
Антуан вытаращил глаза.
– А когда у вас будет раствор, то?..
– Тогда я погружаю в него яйцо… как раз на такой срок, чтобы успела размягчиться скорлупа, а белок с желтком не пострадали! Понятно?
– Нет.
– Потом яйца высушиваются в специальных формах…
– Квадратных?
– Разумеется.
Господин Шаль извивался, как перерубленный лопатой земляной червяк. Антуан никогда не видел его в таком состоянии.
– Сотнями! Тысячами! Фабрика! Квадратное яйцо. Долой рюмочки для яиц. Квадратное яйцо можно поставить прямо на стол. А скорлупа остается в хозяйстве. Можно из нее спичечницу сделать или приспособить под горчицу! Квадратное яйцо можно укладывать в ящики навалом, как бруски мыла! А брать такое яйцо с собой в экспедицию, представляете себе, а?
Господин Шаль попытался взобраться на свою скамеечку, но, словно ужаленный, тут же соскочил на пол.
Он даже побагровел от смущения.
– Простите, я на минуточку, – пробормотал он, бросаясь к двери. Мочевой пузырь… Чисто нервное… Стоит мне заговорить об этом квадратном яйце…
На следующий день, в воскресенье, Жиз, проснувшись, уже не чувствовала себя разбитой, – очевидно, лихорадка окончательно прошла, – напротив, она была полна решимости и нетерпения.
Из-за слабости в церковь она не пошла и все утро провела у себя в комнате: молилась, собиралась с мыслями. Ее раздражало, что она не может спокойно и с толком обдумать то положение, какое создалось в связи с возвращением Жака: ничего определенного впереди не было; и сегодня при свете дня она ощущала после вчерашнего визита Жака неприятный привкус разочарования, почти отчаяния и сама не могла понять, откуда оно взялось. Значит, надо объясниться, рассеять недоразумение. Тогда все станет ясно.
Но Жак все утро не показывался. Антуана с тех пор, как тело положили в гроб, тоже почти не было видно. Тетка с племянницей позавтракали вдвоем. Потом Жиз снова ушла к себе.
Печально тянулся этот туманный холодный день.
Сидя в одиночестве, не способная ничем заняться, Жиз, вся во власти навязчивой идеи, дошла до состояния такого нервного возбуждения, что часа в четыре, когда тетка еще не вернулась с вечерней молитвы, схватила пальто и одним духом спустилась на первый этаж, где Леон провел ее в комнату Жака.
Жак читал газету, придвинув стул к амбразуре окна.
Его силуэт четко вырисовывался против света на фоне синеватого стекла, и Жиз поразила ширина его плеч; не видя Жака, она как-то забывала, что он стал мужчиной, и представляла его подростком с детскими чертами лица, таким, какой три года назад прижал ее к себе под липами Мезона.
С первого же взгляда, даже не разобравшись в своем впечатлении, Жиз заметила, что Жак как-то боком притулился на складном стульчике и что в комнате ужасный беспорядок (на полу открытый чемодан, шляпа нацеплена на стенные часы, а часы не ходят, письменным столом явно не пользуются, перед книжным шкафом – пара ботинок), словом, все свидетельствовало о том, что здесь лишь временный бивуак, случайный приют, к которому нечего и привыкать.
Жак поднялся и шагнул ей навстречу. И когда ее голубой лаской коснулся его взгляд, где читалось лишь изумление, Жиз до того смутилась, что не могла вымолвить ни одной из придуманных фраз, долженствовавших оправдать ее появление здесь; в голове у нее осталось лишь самое важное: неодолимое желание выяснить все до конца. Поэтому, пренебрегши всякими уловками, она, бледная и отважная, остановилась посреди комнаты и сказала:
– Жак, нам необходимо поговорить.
Она успела заметить в его глазах, только что так ласково приветствовавших ее, короткую и жесткую вспышку, тут же притушенную движением ресниц.
Жак рассмеялся несколько искусственно:
– Боже, до чего серьезна!
Она похолодела, услышав это ироническое восклицание. Однако улыбнулась: трепетная улыбка, закончившаяся страдальческой гримаской; на глазах ее выступили слезы. Она отвернулась, сделала несколько шагов и села на раскладной диван, но, так как надо было вытереть слезы, уже катившиеся по щекам, она проговорила с упреком, хотя сама считала, что говорит почти весело:
– Вот видишь, ты уже довел меня до слез… Глупо как…
Жак чувствовал, что в нем закипает глухая ненависть. Уж таков он был: с самого раннего детства носил этот гнев в себе, в потаенных своих глубинах, так вот, думал он, и земля носит в своих недрах расплавленную магму, – и эта глухая ярость, эта злоба прорывалась порой наружу потоком раскаленной лавы, которую ничто не могло удержать.
– Ну ладно, говори тогда! – крикнул он враждебно и с досадой. – Я тоже предпочитаю покончить со всем этим!
Меньше всего Жиз ждала грубой вспышки, и на вопрос, который она задала, уже был дан ответ этим бешеным взрывом, ответ столь красноречивый, что она оперлась о спинку дивана, приоткрыв побледневшие губы, словно Жак и впрямь ее ударил. Она протянула руку – это и была вся ее защита – и прошептала: "Жако", – таким раздирающим голосом, что Жака всего перевернуло.
Ошеломленный, забыв все на свете, он сразу перешел от воинствующей неприязни к самой непроизвольной, к самой иллюзорной нежности: он бросился на диван, сел рядом с Жиз и привлек ее, рыдающую, к себе на грудь. Он бормотал:
– Бедняжка ты моя… Бедняжка ты моя…
Лицо Жиз было так близко, что он видел атласную матовость ее кожи, видел вокруг глаз прозрачную и темную синеву, придававшую ее влажным, вскинутым на него глазам выражение грусти и ласки. Но тут же к нему вернулась способность мыслить трезво, вернулась полностью, даже, пожалуй, обострившись, и пока он сидел, склоняясь к ней, касаясь ноздрями ее волос, он отметил про себя, будто речь шла о другом человеке, что это чисто физическое влечение весьма сомнительного свойства. Стоп! Уж он вступил однажды на скользкий путь жалости, и тогда пришлось ради спасения обоих остановиться вовремя – и бежать. (Впрочем, раз он может в такую минуту рассуждать, взвешивать все эти неопасные опасности, которым они подвергались, – не доказывает ли это посредственность его увлечения? Разве не было это мерилом того ничтожного самообмана, жертвами которого они чуть не стали?)
И тут же, одержав над собой, впрочем, не слишком блистательную победу, он отказал себе в сладости поцелуя, хотя губы его уже касались ее виска; он ограничился тем, что нежно прижал Жиз к плечу и стал ласково гладить кончиками пальцев смуглую атласную щеку, еще мокрую от слез.
Приникнув к Жаку, Жиз, чувствуя, как неистово бьется ее сердце, подставляла под эти ласкающие прикосновения щеку, шею, затылок. Она не шевелилась, но готова была соскользнуть к ногам Жака, обнять его колени.
А он, напротив, чувствовал, что с каждой минутой все ровнее и ровнее бьется его пульс; он вновь обрел какое-то чудовищное спокойствие. На мгновение он даже рассердился на Жиз за то, что она внушает ему самое банальное желание и то временами; он дошел до того, что чуточку стал презирать ее. Вдруг образ Женни подобно молнии ожег его и тут же растаял, но мысль стала работать яснее. Затем, все отринув вновь, он спохватился, и ему стало стыдно. Насколько Жиз лучше его. Эта пылкая любовь преданного зверька, любовь, которую после трех лет отсутствия он обнаружил неизменной, равно как и ее манеру слепо отдаваться своему уделу влюбленной, уделу трагическому, ибо она принимала все, не дрогнув, презрев любой риск, – чувство ее, безусловно, более сильно, более чисто, чем все, что сам он способен был испытать. Он взвешивал, размышлял невозмутимо, с внутренним холодком и мог поэтому теперь, ничего не опасаясь, держать себя с Жиз ласково…
Так он переходил от одной мысли к другой, меж тем как Жиз упрямо думала об одном, только об одном… И она так тянулась к этому единственному своему помыслу, к этой любви, стала такой восприимчивой, такой чувствительной ко всему, что исходило от Жака, что сразу, хотя он не сказал ни слова, не изменил своей позы, все так же гладил щечку, прижавшуюся к его плечу, только по тому, как невнимательно-нежно двигались его пальцы от губ к виску и от виска к губам, она вдруг прозрела: поняла, что связывавшие их узы порваны навсегда и бесповоротно и что для Жака она ничто.
Уже ни на что не надеясь, – так человек проверяет что-то, давно уже не нуждающееся в проверке, – и желая убедиться наверняка, Жиз резко отстранилась от Жака и посмотрела ему прямо в лицо. Он не успел изменить сухое выражение глаз, и тут она окончательно уверилась, что все кончено бесповоротно.
Но в то же время она совсем по-ребячьи боялась услышать это из его уст: тогда страшная истина сгустится до нескольких вполне недвусмысленных слов, которые обоим им суждено навсегда хранить в памяти. Сознавая свою слабость, она вся собралась, лишь бы Жак не заподозрил ее растерянности. У нее хватило мужества отодвинуться подальше, улыбнуться, заговорить.
Обведя комнату неопределенным жестом, она пробормотала:
– Сколько же времени я здесь не была!
На самом же деле с предельной ясностью она вспомнила, как последний раз сидела здесь, на том же диване, в этой самой комнате рядом с Антуаном. Какой же она тогда считала себя несчастной! Считала, что нет горшего испытания, чем отсутствие Жака, чем смертная тоска по нем, не оставлявшая ее ни на минуту. Но что все это по сравнению с тем, что выпало ей сегодня? Тогда стоило только закрыть глаза, и Жак возникал, как живой, покорный ее зову, и был именно таким, каким она хотела его видеть. А сейчас? Сейчас, когда она вновь обрела его, она воочию убедилась, что значит жить без него! "Как же это возможно? – думала она. – Как такое могло случиться?" И тоска стала такой непереносимо острой, что она на секунду прикрыла глаза.
Жак поднялся, чтобы зажечь свет, подошел к окну и опустил занавески, но не вернулся, не сел с нею рядом на дива".
– Не простудишься? – спросил он, заметив, что Жиз вздрогнула.
– Нет, но в комнате у тебя все-таки топят плохо, – ответила она, обрадовавшись хоть этой теме. – Знаешь, я лучше пойду к себе.
Звук голосов, разорвавших тишину, отчасти подбодрил ее, подкрепил. Сила, которую черпала Жиз в этой видимой естественности, была слишком эфемерна, но ей так требовалась ложь, что еще несколько минут она продолжала болтать, судорожно бросая слова, лишь бы укрыться за ними, как укрывается каракатица за облачком выпущенных ею чернил. А он, стоя посреди комнаты, подбадривал ее улыбкой, тоже втянувшись в эту игру, и, возможно, подсознательно радовался, что и сегодняшний день тоже обошелся без объяснений.
Жиз наконец удалось подняться. Они посмотрели в глаза друг другу. Оба были почти одинакового роста. Жиз твердила про себя: "Никогда, никогда я не смогу обходиться без него!" Но твердила лишь затем, чтобы не подпустить к себе другую, жестокую мысль: "Он-то сильный, он-то без меня прекрасно обходится!" И вдруг ее осенило: Жак с чисто мужской жестокостью и холодностью сам выбирал свою судьбу, а она, она… Ох, ни за что ей не выбрать своей, и как бы скромна ни была ее участь, даже направить ее она не сумеет.
Тогда она в упор спросила:
– Когда ты уезжаешь?
Ей казалось, что спросила она это непринужденным тоном.
Жак сдержался, рассеянно прошелся по комнате, потом бросил вполоборота:
– А ты?
Нельзя было показать более наглядно, что он и в самом деле уедет и даже представить себе не может, что Жиз останется во Франции.
Жиз неопределенно пожала плечами, с усилием улыбнувшись в последний раз, – теперь ей уже легче удавалась улыбка, – открыла дверь и исчезла.
Он не попытался ее удержать, но следил за ней взглядом в неожиданном приливе чистой нежности. Ах, как бы ему хотелось, чтобы можно было, ничего не опасаясь, обнять ее, убаюкать, защитить… От кого защитить? От нее самой? От него? От того зла, какое он ей причиняет? (Впрочем, сам он лишь смутно осознавал это.) От того зла, какое он ей еще причинит; от того зла, которого он не мог ей не причинить.
Засунув руки в карманы, расставив ноги, Жак так и остался стоять посреди неубранной комнаты. Рядом на полу валялся раскрытый чемодан, весь в пестрых наклейках.
И вдруг он перенесся мыслью в Анкону, а может быть, было это в Триесте, в полутемном трюме пакетбота; он увидел себя в толпе эмигрантов, переругивавшихся на непонятном ему диалекте; от адского хриплого гула машины сотрясались недра судна, потом лязг железа заглушил голоса спорящих; выбрали якорь, качка усилилась; внезапно воцарилась мертвая тишина; пакетбот отчалил, пакетбот пустился в открытое море!
Грудь Жака распирало. Это почти болезненная тяга к борьбе – он и сам толком не знал к какой, – к созиданию, к абсолютной полноте существования наталкивалась на этот дом, на этого покойника, на Жиз, на все минувшее, где все было капканы и оковы.
– Бежать отсюда, – буркнул он, сцепив челюсти, – бежать к чертовой матери!
В лифте Жиз рухнула на скамеечку. Хватит ли у нее сил добраться до своей комнаты?
Итак, свершилось: объяснение, на которое она, вопреки всякой очевидности, возлагала столько надежд, – объяснение это состоялось, исчерпало себя. И для этого хватило всего четырех фраз: "Жак, нам надо поговорить!" – на что он ответил: "Я тоже предпочитаю покончить с этим!" А потом два вопроса, оставшиеся без ответа: "Когда ты уезжаешь?" – "А ты?"
Четыре коротеньких фразы, которые Жиз тупо повторяла про себя.
А что теперь?
Когда Жиз очутилась в просторной прихожей верхней квартиры, где в спальне две монахини бодрствовали у гроба и где уже ровно ничего не осталось от надежды, витавшей здесь еще полчаса назад, у нее так сильно сжалось сердце, ей стало так страшно остаться одной, что страх этот пересилил слабость и потребность в покое. Вместо того чтобы прямо пройти к себе, она зашла к тетке.
Старушка Мадемуазель вернулась из церкви. Она, как и обычно, сидела у своего рабочего столика, заваленного накладными, какими-то образцами, проспектами и лекарствами.
Узнав Жиз по походке, она с трудом повернула к ней свою скованную болезнью шею:
– Ах, это ты? А я как раз…
Жиз бросилась к тетке, хотя ее шатало, поцеловала этот лоб цвета слоновой кости, прикрытый седыми бандо, и упала перед ней, как ребенок, на колени, потому что слишком выросла и не могла, как прежде, укрыться на груди старушки.
– А я как раз хотела тебя спросить, Жиз… Они никаких распоряжений о генеральной уборке и насчет дезинфекции не сделали? А ведь существуют на сей счет соответствующие законы! Спроси-ка Клотильду! Ты должна поговорить с Антуаном. Сначала надо пригласить муниципальную дезинфекционную бригаду. А потом для верности еще обкурить квартиру, купить в аптеке специальный прибор для обкуривания, Клотильда знает: законопатим все щели. И ты нам тогда поможешь…
– Но, тетя, – пробормотала Жиз, и глаза ее снова наполнились слезами, я должна уехать, я… Меня там ждут…
– Как это там? После того, что произошло? Значит, ты собираешься оставить меня одну? – Нервическое покачивание головы сопровождало каждое слово Мадемуазель. – И это в моем состоянии, мне ведь уже семьдесят восемь…
"Уехать, – думала Жиз. – И Жак тоже уедет. И все будет как раньше, не будет только надежды… Никакой, никакой надежды не будет!.." Виски у нее ломило. Мысли мешались. Жак стал для нее теперь каким-то совсем непонятным, и это было мучительнее всего. Непонятным, и это он, – тот, которого, как ей казалось, она понимала так хорошо, даже когда его не было рядом! Как же такое могло получиться?
Вдруг ей пришла в голову новая мысль: "Уйти в монастырь?" Там вечный покой, покой Христов.
Да, но отказаться от всего! Отказаться… Сможет ли она?
Уже не в силах сдерживаться, она разрыдалась и, приподнявшись с колен, судорожно обняла тетку.
– Ох, – простонала она, – это же несправедливо, тетя. Как все несправедливо!
– Да о чем ты? Что несправедливо? Что это ты такое мелешь, перестань! проворчала Мадемуазель, она и встревожилась и рассердилась одновременно.
Жиз снова без сил опустилась на колени. И, как бы ища опоры, желая почувствовать хоть чье-то присутствие, она терлась щекой о грубую ткань платья, натянутого острыми старушечьими коленями, и слушала, как сварливо твердит тетка, неодобрительно покачивая головой.
– В семьдесят восемь лет остаться одной, да еще в таком состоянии…
Маленькая часовенка при исправительной колонии в Круи была набита до отказа. Несмотря на холодную погоду, двери распахнули настежь; уже целый час во дворе, где от сотен ног снег превратился в грязное месиво, стояли строем, не двигаясь, без головных уборов двести восемьдесят шесть воспитанников колонии; их новые холстинковые куртки были стянуты поясами со сверкающей медной пряжкой, где был выбит номер, а стерегли их стражники в полной форме, с кобурой на боку.
Заупокойную мессу служил аббат Векар, но отпущение грехов дал епископ епархии Бовэ своим басистым глухим голосом. Торжественные песнопения следовали одно за другим и мгновение витали в гулкой тишине маленького нефа:
– "Pater nos-ter…"[174]174
«Отче наш…» (лат.).
[Закрыть]
– "Requiem aeternam dona ei, Domine…"[175]175
«Вечный покой дай, господи…» (лат.).
[Закрыть]
– "Requiescat in pace…"[176]176
«В мире почил…» (лат.).
[Закрыть]
– Amen[177]177
Аминь (лат.).
[Закрыть].
Потом на хорах в шесть голосов был исполнен заключительный псалом.
Антуан, чья мысль с самого утра работала на редкость четко, хотя и отвлекалась зрелищем, подумал: "Почему-то все прямо помешались на траурном марше Шопена и непременно играют его на похоронах, да какой же он траурный! Быстротечная печаль, и тут же сразу же – переход к радости, потребность иллюзии… Просто легкомыслие больного туберкулезом, думающего о собственной смерти!" Он вспомнил последние дни Дэрни, тоже музыканта, лежавшего в их госпитале: "Все умиляются, ищут здесь экстаз умирающего, которому открываются небеса… А на самом-то деле для нас это лишь один из симптомов заболевания, вернее, просто один из болезненных признаков, как, например, температура!"
Впрочем, он не мог отрицать, что великая патетическая скорбь была бы довольно неуместной в данных обстоятельствах. Никогда еще похоронная церемония не проходила с такой сугубо официальной помпой. Сам Антуан, если не считать г-на Шаля, который сразу же по приезде юркнул в толпу, был единственным "близким". Двоюродные братья, дальние родственники, присутствовавшие при отпевании в Париже, не сочли для себя обязательным тащиться по такому холоду в Круи. Публика сплошь состояла из коллег покойного и делегатов от различных благотворительных обществ. "Из "представителей", – подумал про себя Антуан, и эта мысль даже развеселила его. – А я тоже "представитель семьи". – Но тут же не без грусти ответил: И ни одного друга". Это означало: "Никого, кто бы был моим другом. И поделом мне". (После смерти отца он вдруг сделал открытие, что у него нет настоящих друзей. За исключением, быть может, Даниэля, никогда он не имел друга, только товарищей. И в этом виноват был он сам: зачем так долго жил, не думая о людях. Вплоть до последних лет он чуть ли не гордился этой своей обособленностью. А сейчас начал от нее страдать.
Он с любопытством следил за манипуляциями священнослужителей. "А что будет сейчас?" – подумал он, заметив, что все духовенство скрылось в ризнице.
Оказывается, ждали, когда служащие похоронного бюро водрузят гроб на катафалк, установленный на паперти часовни. Тут снова появился распорядитель все с тем же чопорным видом балетмейстера средней руки, склонился перед Антуаном, пристукнув по плитам своим черным жезлом, издавшим меланхолический звон, после чего провожающие гуськом потянулись к дверям, сгрудились под аркой, чтобы слышать речи. С достоинством выпрямившись, Антуан покорно выполнял все пункты церемониала, его поддерживала мысль, что на него устремлены десятки глаз. Присутствовавшие расступились, каждому не терпелось увидеть, как за сыном Тибо проследуют субпрефект, мэр Компьена, генерал-комендант крепости, директор конского завода, муниципальный совет Круи в полном составе и в сюртуках, молодой епископ in partibus[178]178
Еще не получивший сана (лат.).
[Закрыть], который «представлял» его преосвященство кардинала-архиепископа города Парижа, и прочие знаменитости, чьи имена называли шепотом, в том числе несколько членов Академии моральных наук, приехавших в качестве друзей отдать последний долг останкам своего собрата.
– Господа… – прогремел чей-то зычный голос. – Французский институт возложил на меня эту печальную, но почетную обязанность…
Говорил Луден-Костар, юрисконсульт, лысенький, дородный, в очень узкой шубе с меховым воротником. Он, видимо, вознамерился дать широкий очерк биографии покойного.
– …Его юность, исполненная трудов и рвения, протекала неподалеку от отцовской фабрики, в Руанском лицее.
Антуан припомнил фотографию, на которой был изображен ученик коллежа, опершийся локтем о стопку книг, полученных в награду. "Юность Отца… думал он. – Кто бы мог тогда предсказать дальнейшее? Человека удается понять полностью только после его смерти, – заключил он. – Пока человек жив, все то, что он может еще совершить, то, что неведомо для других, составляет неизвестное, которое путает все расчеты. И только смерть закрепляет его контуры, личность, так сказать, отделяется от возможных вариантов и обособляется, тогда можно обойти его вокруг, наконец-то увидеть его со спины, вынести целостное суждение… Недаром я всегда говорил, – мысленно добавил он, невольно улыбнувшись, – что нельзя ставить окончательного диагноза до вскрытия".
Антуан сам чувствовал, что он далеко еще не исчерпал своих мыслей о жизни и характере отца, и что еще долго в этих своих размышлениях он будет находить повод оглянуться на себя самого, каждый раз обнаруживая нечто весьма любопытное и поучительное.
– …Когда он был призван принять участие в трудах нашего достославного института, мы памятовали не только о его бескорыстии, его энергии, его любви к человечеству, даже не так из-за того высокого и бесспорного авторитета, в силу коего он стал наиболее примечательной личностью среди самых представительных…
"И он тоже, оказывается, "представитель", – подумал Антуан.
Он слушал эти славословия, и они отнюдь не оставляли его безучастным. Он даже пришел к мысли, что всегда недооценивал отца.
– …Склонимся же, милостивые государи, перед этим благородным сердцем, которое до последней минуты билось ради прекрасного и справедливого дела.
Бессмертный[179]179
Бессмертный. – Так иронически называют членов Французской Академии; число академиков постоянно (сорок человек), и выборы нового академика назначаются только после смерти одного из них.
[Закрыть] закончил. Он сложил листки, засунул руки в подбитые мехом карманы и, отступив, скромно занял место среди своих собратьев.
– Господин председатель Комитета Католических богоугодных заведений Парижской епархии, – с достоинством возгласил балетмейстер.
Почтенный старец, вооруженный слуховым рожком и поддерживаемый лакеем, почти таким же дряхлым и таким же немощным, как и хозяин, приблизился к катафалку. Это был не только преемник г-на Тибо как председателя приходского Комитета, но и близкий друг покойного, единственный оставшийся в живых из группы юных руанцев, прибывших вместе с Оскаром Тибо в Париж учиться на юридическом факультете. Он был абсолютно глух, и глух уже очень давно, так что Антуан с Жаком еще в детстве окрестили его "Глухарем".
– Чувство, которое привело нас всех сюда, милостивые государи, это не только чувство печали, – завизжал старичок; и этот пронзительный блеющий голос напомнил Антуану, как третьего дня Глухарь явился к ним, поддерживаемый все тем же развалюхой-лакеем. "Орест, – взвизгнул он еще с порога спальни, где лежало тело. – Орест хочет отдать Пиладу последний долг дружбы!" Его подвели к покойному, и он долго смотрел на него, моргая воспаленными красными глазами; потом выпрямился и, рыдая, крикнул Антуану так, будто тот находился на расстоянии трех десятков метров от него. "Какой он был красавец в двадцать лет!" (Сейчас это воспоминание позабавило Антуана. "До чего же быстро все меняется в жизни", – отметил он про себя; ведь он-то хорошо помнил, что всего два дня назад, стоя у гроба, по-настоящему растрогался.)
– В чем был секрет его силы? – взывал старичок. – Откуда, из каких источников черпал Оскар Тибо это непогрешимое равновесие, этот возвышенный оптимизм, эту веру в себя, сметающую любые препятствия и приносившую ему успех в любом самом трудном начинании?
Разве не к вящей и вечной своей славе католическая религия, милостивые государи, формирует таких людей, такие жизни?
"Вот это, бесспорно, правильно, – мысленно согласился Антуан. – В своей вере Отец нашел такую опору, какой не мог найти нигде. Благодаря ей он никогда не ведал стесняющих человека пут: раскаяния, чрезмерного чувства ответственности, сомнения в себе и всего такого прочего. Человеку верующему только и действовать". Ему даже пришла в голову мысль: и уж не выбрали ли такие люди, как его Отец и этот Глухарь, в сущности, самый мирный путь, ведущий человека от рождения к смерти. "В общественном плане, – думал Антуан, – они принадлежат к числу тех, кому наилучшим образом удается сочетать свое личное существование с существованием коллективным. Они, без сомнения, повинуются инстинкту, который делает возможным и приемлемым муравейник и улей, только, конечно, в человеческом преломлении. А это не пустяк. Даже самые ужасные недостатки, в которых я упрекал Отца, – гордыня, жажда почестей, склонность к деспотизму, – надо признать, что именно они позволили ему в общественном плане проявить себя гораздо ярче, чем если бы он был покладистым, на все согласным, скромным…"
– Милостивые государи, этому великому борцу ни к чему сейчас наши бесплодные почести, – продолжал Глухарь уже сильно охрипшим голосом. Наступил решающий час! Так не будем же тратить драгоценное время на то, чтобы хоронить наших мертвецов. Так будем же черпать силы все из того же священного источника и, главное, поторопимся, поторопимся…
Увлеченный искренностью своего порыва, он ступил было вперед, но вынужден был вцепиться в не Слишком богатырское плечо своего лакея. Однако этот прискорбный эпизод не помешал ему проверещать:
– Поторопимся же, милостивые государи, поторопимся вернуться на славное поле битвы!
– Господин председатель Моральной лиги материнства и младенчества, провозгласил балетмейстер.
Маленький старичок с седой бородкой неловко выступил вперед, казалось, он промерз насквозь и даже двигаться не может. Зубы его выбивали дробь; от лысины отхлынула кровь. Так его скрючило от мороза, так его доняло, что даже жалко было на него смотреть.
– Я сражен тем… (Казалось, он делает нечеловеческие усилия, чтобы расцепить смерзшиеся челюсти)… сражен горестным волнением…
– Дети насмерть простудятся в своих холстинковых куртках, – буркнул еле слышно Антуан, которого забирало нетерпение. И его тоже пробирал холод, замерзли ноги, и даже под пальто заледенела крахмальная грудь сорочки.
– …он проходил среди нас, сея добро. Лучшей эпитафией ему будет: Pertransiit benefaciendo![180]180
Умер, творя добро! (лат.).
[Закрыть]
Он ушел от нас, милостивые государи, сопровождаемый зримым свидетельством нашего всеобщего уважения…
"Уважения" – вот оно! – подумал Антуан. – Да чье уважение-то?" Он обвел жалостливым взглядом ряды почтенных старичков, дряхлых, закоченевших от мороза, со слезящимися глазками, с мокрыми на морозе носами, тянувших к оратору свое не окончательно оглохшее ухо и подчеркивавших каждую фразу одобрительным покачиванием головы. Не было среди них ни одного, который бы не думал о собственных похоронах и не завидовал бы этим "зримым свидетельствам уважения", столь щедро раздаваемым их прославленному коллеге, отошедшему в лучший мир.
Старичок с бородкой скоро выдохся. И тут же уступил место следующему.
Этим следующим оказался благообразный старик с поблекшими, но пронзительными нездешними глазами. Это был вице-адмирал в отставке, отдавшийся благотворительным делам. Первые же его слова вызвали в Антуане внутренний отпор:
– Оскар Тибо, обладая ясным и искушенным умом, неизменно умел прозревать в злосчастных распрях нашего смутного времени благо и трудился ради будущего…
"Вот это уж неправда, – запротестовал в душе Антуан. – Отец ходил в шорах и так прошел всю жизнь, не увидев ничего, кроме того, что непосредственно примыкало к раз и навсегда выбранной им узенькой тропке. Больше того, по самому духу своему он был типичный "последователь". Еще на школьной скамье он полностью отказался от попыток найти себя самого, свободно истолковывать факты, открывать, познавать. Умел только идти след в след. Нацепил на себя ливрею…"
– Существует ли более завидная доля? – вопросил адмирал. – Разве подобная жизнь, милостивые государи, не является воплощением…
"Ливрею, – думал Антуан, снова оглядев ряды внимательно слушавших оратора старцев. – Совершенно верно, все они из одного теста. Взаимозаменяемые. Описать одного из них – значит обрисовать всех. Зябкие, моргающие, подслеповатые, а главное, всего боятся: боязнь мысли, боязнь социальной эволюции, боязнь всего, что может смести их твердыню! Осторожнее на поворотах, – одернул он сам себя, – видно, я тоже заразился их краснобайством. Но "твердыня" – это я верно сказал: все они живут с ощущением людей осажденных и без передышки пересчитывают друг друга, дабы убедиться, что за укрепленными стенами их осталось еще достаточно!"
Антуаном все больше завладевало чувство неловкости, и он перестал слушать оратора, но взглядом невольно следил за его широкими жестами, сопровождавшими заключительную часть речи:
– Прощай, наш дорогой председатель, прощай! Пока будут живы те, кто видел твои деяния…
Директор исправительной колонии выступил из рядов. Последний в списке ораторов. Хоть этот имел возможность наблюдать вблизи того, кому было посвящено его надгробное слово:
– …Дорогой основатель нашего заведения был чужд искусству обряжать свою мысль в покровы легкодоступной обходительности и, постоянно побуждаемый необходимостью действовать, имел мужество отбрасывать в сторону все церемонии никому не нужной учтивости.
Заинтересованный началом речи, Антуан прислушался.
– …Его доброта скрывалась под суровым мужеством, что сообщало ей особую действенность. Непримиримые суждения, высказываемые им на собраниях нашего совета, были одним из проявлений его энергии, его уважения к праву, к высокому сознанию справедливости, которые он выработал в себе на своем директорском посту. Все в нем было борьбой, незамедлительно оканчивавшейся победой. Любое слово его вело всегда к непосредственной цели. Оно было оружием, палицей…
"Верно, несмотря ни на что, Отец был силою, – вдруг подумалось Антуану. И он сам удивился, откуда это убеждение, успевшее уже пустить в нем корни. Отец мог бы стать другим… Отец мог бы стать великим человеком".
Но директор уже простер руку в направлении воспитанников, стоявших рядами под конвоем стражников. Все головы повернулись к малолетним преступникам, застывшим и посиневшим от холода.
– …Этим молодым правонарушителям, с колыбели приверженным ко злу, Оскар Тибо протянул руку; эти злосчастные жертвы нашего социального порядка, увы слишком несовершенного, милостивые государи, пришли засвидетельствовать вечную свою благодарность и скорбеть вместе с нами о нашем общем благодетеле, коего они лишились!








