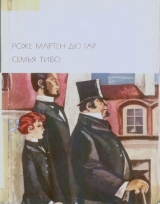
Текст книги "Семья Тибо, том 1"
Автор книги: Роже Мартен дю Гар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 86 страниц)
Но все же эта среда непривычна для Мартен дю Гара, и дело не обошлось без некоторой доли экзотики. Таково, например, деление революционеров на "апостолов" и "исполнителей". Весьма спорной кажется фигура Мейнестреля. Думается, что образ этот искусственный, лишенный той внутренней логики, которая обычно свойственна характерам Мартен дю Гара. Мейнестрель изображен как революционер большой политической зрелости и опыта, резко выступающий против реформистов, идейно стоящий выше и пацифистских интеллигентов, и леваков-сектантов. Когда все кругом еще полны иллюзий, Мейнестрель уже уверен, что войну предотвратить нельзя. И все же он считает, что надо бороться против нее, ибо массы в этой борьбе приходят к зрелости. При всем том Мартен дю Гар, может быть, желая подчеркнуть бессилие II Интернационала на Западе, очень неудачно наделяет именно Мейнестреля мужской физической неполноценностью, из-за которой он в самый острый политический момент пытается покончить с собой. Более того, именно Мейнестрелю автор приписывает черты своеобразного политического авантюризма. Секретные документы, добытые социалистами, опубликование которых могло бы, по его мнению, остановить войну, Мейнестрель сжигает. В сущности, он не прочь, чтобы мировая война все же разразилась, ибо она может ускорить нарастание революционной ситуации. Нужно ли напоминать, что в последующие десятилетия подобные идеи снова возникали в мире, уже прошедшем через испытания второй мировой войны и опыт Хиросимы?
Зато с чрезвычайным блеском психологического анализа нарисован в "Лете 1914 года" идейный и жизненный путь Жака Тибо. Жак здесь более сложный, более зрелый, чем в первых книгах. Как и прежде, он чужд компромиссам, но мы видим его в непрерывных идейных поисках, порой в противоречиях бурного роста. Так, он отвергает диктатуру, споря с Митгергом, и признает ее в споре с Антуаном; порой он сомневается в природе человека, но убеждает себя в том, что социализм может в корне изменить человеческую сущность. И это естественные для Жака противоречия. Во французской критике подчеркивалось одиночество Жака, невозможность для него слиться со средой социалистов, его неспособность к настоящей революционной деятельности. Утверждалось даже, что Жак – тип террориста-одиночки. Все это, конечно, не так. Жак был одинок и индивидуалистичен, пока он оставался в духовно чуждой ему среде. Порвав с ней, он стремительно идет к слиянию с новой средой, которую находит среди социалистов Женевы. Умирая, Антуан завидует тому, что у Жака всегда были друзья. В Женеве Жак не только находит Друзей и единомышленников, но и приобретает среди них большой авторитет. Товарищи прислушиваются к его суждениям, ждут его оценки и помощи. Мы чувствуем, что в иных исторических условиях Жак мог бы вырасти в последовательного революционера. Но история не дает ему времени для этого. Жак лихорадочно ищет действия, в котором могла бы проявиться его страстная ненависть к войне. Он вовсе не стремится быть одиночкой, напротив, именно в эти дни он становится членом социалистической партии и разъезжает по городам Европы с важными и опасными заданиями. Но после начала войны, после предательства верхов II Интернационала, он не видит больше путей организованной борьбы. Конечно, здесь сказывается недостаточность его революционного опыта, но автор упорно подчеркивает, что Жак вынужден остаться одиночкой, а не стремится к этому. Не случайно левые силы социализма, впоследствии объединившиеся в Циммервальде и Кинтале, представлены в романе очень бегло. С восхищением, но мельком упоминается о русских большевиках, об июльских стачках в России, неоднократно говорится о роли Карла Либкнехта. И тем не менее в июле 1914 года в Париже вокруг Жака лишь отдельные, разрозненные люди, близкие ему по духу.
До конца преданный идеалу будущего братства народов, не признающий насилия, Жак отчасти близок к тем образам "свободной совести", которые неоднократно создавали французские писатели ("Клерамбо" Ромена Роллана и др.), но он отличается от них тем, что его одиночество в борьбе против войны связано с кризисом II Интернационала. Его страстная речь на митинге – это его последняя попытка обращения к массам. Напрасная попытка! И тогда он жадно ищет действия, в котором его натура бунтаря нашла бы свое высшее проявление. Попытаться остановить уже начавшуюся войну героическим индивидуальным действием! Поднявшись на аэроплане над линией фронта, сбросить тысячи пламенных листовок и сразу, молниеносно озарив сознание миллионов, вызвать братание солдат и кончить войну! Братание солдат осуществилось, но через четыре года окопов и боев, изменивших сознание людей. Ярче всего это было отражено в книгах А.Барбюса "Огонь" и "Письма с фронта".
Мартен дю Гару ничего не стоило превратить последние эпизоды "Лета 1914 года" в апофеоз пацифистского, индивидуалистического бунта. Но он не сделал этого. Он заставил Жака упасть с неба, прежде чем тот успел сбросить листовки. Французский жандарм пристреливает умирающего Жака как шпиона. Гибель Жака – героический подвиг. Но его гибель бессмысленна, и Мартен дю Гар подчеркивает ею исчерпанность индивидуалистических форм борьбы. Это крушение целой системы французской мысли. Бессмысленно сгоревший, "упавший с неба" Жак – почти символ. Он остается примером цельности характера и моральной высоты. Но гибель его подчеркивает историческую ограниченность и относительность такого характера. Его пламенная, но не гибкая целеустремленность в дальнейшем уже недостаточна. Она должна уступить место иному сознанию, более зрелому, более народному и революционному. И писатель, поднимая образ Жака, как образ душевной высоты, достигнутой в непримиримом бунте, зовет тех, к кому обращен роман, продолжить борьбу Жака, но не повторять его жизнь. Продолжить путь Жака теперь уже можно и нужно иными путями. Сыну Жака Жан-Полю в 1939 году было бы двадцать четыре года. Возможно, он стал бы бойцом антифашистского Сопротивления. Но в справедливой войне против гитлеризма лозунгом его и его сверстников будет уже не "мир", а вооруженная борьба. А внуки Жака в 60-х или в 70х годах должны были бы бороться против империалистических войн опять под новыми лозунгами.
В "Эпилоге" завершается путь и Антуана Тибо. Отравленный ипритом, зная, что он обречен, Антуан подводит итоги той переоценке ценностей, которую вызвали в нем четыре года фронта. Ибо они провели грань между теми, кто воевал, и теми, кто посылал умирать. Антуан становится теперь на сторону Жака. Он понимает, что бунтарь Жак больше, чем он, сумел остаться самим собой. Философия эгоизма распадается, когда Антуан пытается осознать смысл мировой катастрофы и потрясений, еще предстоящих миру. Блестящий медик робко начинает задумываться над социальными проблемами, которые он, специалист, раньше так презирал. Сцены медленной агонии Антуана принадлежат к самым большим психологическим достижениям Мартен дю Гара. Отчаяние Антуана – не от сознания своего ничтожества перед небытием, но от страстной любви к жизни, от ужаса перед тем, что он уйдет, не успев осуществить себя целиком. Он пытается мысленно выйти за пределы своего "я". Умирая, он полон мыслей о конце войны, о будущем Европы. Теперь он остается прежде всего ученым. Иначе, чем Жак, Антуан тоже превращает свою гибель в подвиг, создав из наблюдений над распадом собственного тела научное открытие. Самую свою смерть он превращает в творчество.
Жизнь Антуана заканчивается в дни подписания Версальского мира, в преддверии новой эпохи. Разгадать ее стремятся все герои "Эпилога" – и какая смесь прозрений, догадок и наивных иллюзий в их размышлениях! Антуан все время возвращается к идее медленной эволюции человечества. Именно он поддается новым для него пацифистским иллюзиям. Лига наций, Вильсон, Соединенные Штаты Европы – не есть ли это средства навсегда покончить с войной? Антуан мыслит так, как он только и мог мыслить в 1918 году. В нем соединяются идеи организованного капитализма, иллюзии буржуазной демократии, концепции биолога. Но и он предчувствует непрочность уродливого Версальского мира, возможность в будущем новых кровавых конфликтов. И он предчувствует впереди новую длительную эпоху потрясений.
Последние мысли Антуана, как и автора, как и весь роман в целом, обращены к маленькому Жан-Полю, сыну Жака. Бунтарская линия Жака не погибла, она продолжена в "Эпилоге" судьбой Женни и ее сына. Все лучшие друзья Жака в Советской России (замечание, брошенное мельком, но многозначительное). А Женни мечтает воспитать ребенка в том же духе революционного бунта, воплощением которого был для нее Жак. Маленький Жан-Поль унаследовал характер отца: упорство, волю, резко выраженную индивидуальность, непослушание, в котором окружающие видят зачатки бунтарского духа Жака. Упрямое "нет", которое повторяет этот малыш, – не является ли оно проявлением характера того героя нового поколения, который сумеет сказать решительное "нет" старому миру? "Быть может, – так мечтает, умирая, Антуан, – сила и энергия Тибо лишь у Жан-Поля выльются в настоящую творческую силу, а мы все, Отец, Жак и я, были лишь его предтечами". Имя Жан-Поля Антуан вписывает в свой дневник, уже впрыснув себе морфий. Жан-Поль – последнее слово "Эпилога", последнее слово всего огромного романа. Оно подчеркивает логику развития всего цикла "Семьи Тибо", подчеркивает преемственность поколений, но и относительность, ограниченность характеров, сходящих со сцены, когда начинается новая полоса жизни и на сцену должно выступить новое поколение.
После "Эпилога" Мартен дю Гар долгое время ничего не издавал. И только из "Воспоминаний" (1956) мы узнали о работе писателя во время и после второй мировой войны. Уже с 1941 года, среди потрясений войны и оккупации, у Мартен дю Гара опять возникает мысль о большом романе, на этот раз в свободной форме "Дневника", который мог бы вобрать его мысли о жизни, воспоминания, наброски, накопленные за сорок лет. В нем мог бы отлиться весь жизненный опыт писателя. Роман был задуман в форме дневников старого полковника Момора, живущего в своем поместье во время оккупации Франции гитлеровцами. Эта книга должна была стать итогом жизни писателя и своеобразным его завещанием – "завещанием целого поколения накануне полного разрыва между двумя эпохами человечества". Благодаря свободной форме такой роман мог бы продолжаться бесконечно и, по замыслу писателя, мог быть прерван лишь его смертью. После смерти писателя в 1958 году опубликованы пока лишь отдельные фрагменты из "Дневника полковника Момора"[1]1
В 1982 году «Дневник полковника Момора» опубликован во Франции полностью (Прим. ред.).
[Закрыть]. Судя по записям Мартен дю Гара, он столкнулся в работе с большими трудностями. Полковник Момор, как сложно задуманный образ, довольно далек от самого писателя, и мысли Мартен дю Гара о жизни, о современности, о войне, видимо, с большим трудом поддавались изложению от имени Момора. Отсюда непрестанные попытки изменять композицию романа, попытки разорвать его на цепь новелл и опасения Мартен дю Гара, что «большой роман» может остаться неосуществленным. Но, судя по дневникам, были и трудности идейного порядка.
Автор столь острых политических романов, как "Жан Баруа" и "Семья Тибо", Мартен дю Гар не считал для себя возможным принимать участие в политической борьбе, и непосредственно, и в качестве публициста. Он сожалел о писателях, которые "ради минутного воздействия отказываются от воздействия более долговечного". И поскольку Мартен дю Гар годами жил уединенно в маленькой провинциальной усадьбе, поглощенный лишь работой писателя, о нем складывалось представление как о затворнике, который, отрешившись от бурь эпохи, в уединении лепит свои образы. Записи дневника во многом разрушили эту легенду. Они показывают, с каким жгучим интересом писатель следил за политическими событиями, как он был обеспокоен настоящим и будущим мира. Порой, упорно отыскивая точное слово, в дни, когда на политическом горизонте снова сгущались тучи, Мартен дю Гар казался себе безумцем. "У Архимеда не было чувства юмора", – записывал он иронически в годы войны.
Ключ к идейным трудностям Мартен дю Гара, думается, надо искать в его оценке судьбы его поколения. Он понимал, что задачи современности состоят не в перекрашивании фасада, но в постройке нового здания. В дневнике 1945 года он записывал: "Надо все пересоздать заново: города, учреждения, нравы…" Но вместе с тем со свойственной ему честностью художника он, видимо, сомневался в том, что сам он сможет ответить на запросы молодого поколения, призванного построить новый мир. Ему казалось, что люди, воспитанные, подобно ему, в духе старых представлений о гуманизме и демократии, в какой-то мере уже являются анахронизмом. Вероятно, сложность обстановки, возникшей после второй мировой войны, невозможность дать четкие ответы на запросы молодежи и породили главные трудности, с которыми он столкнулся в "Дневнике полковника Момора". Художник, столь уверенно утверждавший своим творчеством идею преемственности, эстафеты поколений, кажется, усомнился, может ли она быть передана в современной обстановке.
Между тем высокая оценка, которую творчество Мартен дю Гара получило в странах социализма и в прогрессивной критике, явно опровергала эти сомнения. Может быть, это почувствовал и сам писатель. К его семидесятипятилетию (1956) в издательстве Галлимара вышло полное собрание его сочинений, с большой вступительной статьей Альбера Камю, включавшее "Воспоминания" и обширную библиографию. В это же время во Франции появился и ряд критических работ о его творчестве. В письме к одному из критиков Мартен дю Гар писал: "Мне бы хотелось… чтобы я мог уйти с мыслью, что оставляю после себя роман, который сможет (не потому, что я хотел этого или намеренно к этому стремился, – но ведь это и есть самый верный путь) облегчить читателям "познание истории" завтрашнего дня".
"Семья Тибо" останется надолго. Сделав последним словом романа имя Жан-Поля, Мартен дю Гар подчеркивал его открытый конец. Он обращается к каждому новому поколению, пробуждая острое чувство движения истории. Этот большой, казалось бы, замедленно развивающийся роман в действительности передает внутреннюю динамику общества.
Воспринимая "Семью Тибо" как эстафету, переданную нам, не будем искать в ней, как и вообще в больших произведениях, ни поверхностных исторических аналогий, ни школьных примеров.
Каждый поворот истории выдвигает свои задачи и предоставляет нам найти их решение. "Семья Тибо" не пытается подсказывать их. Она лишь говорит о долге, об ответственности народов и отдельного человека перед историей. Но это не сухой, нравоучительный "долг" моралистов. Ответственность, которую имеет в виду Мартен дю Гар, совпадает о потребностью полного выражения нашей собственной личности, потребностью в творчестве, в действии, в том, чтобы пересоздавать мир, согласно нашим планам и моделям.
Каждое поколение, говорит Мартен дю Гар, – лишь звено в бесконечной цепи. И каждое поколение не имеет права уклониться от выполнения своего долга: оно должно передать следующему поколению опыт более зрелым, формы жизни – обогащенными.
Е.Гальперина
СЕМЬЯ ТИБО
Посвящаю «Семью Тибо» братской памяти Пьера Маргаритиса, чья смерть в военном госпитале 30 октября 1918 года уничтожила могучее творение, вызревавшее в его мятежном и чистом сердце.
Р.М.Г.
СЕРАЯ ТЕТРАДЬ
На углу улицы Вожирар, когда они уже огибали здания школы, г-н Тибо, на протяжении всего пути не сказавший сыну ни слова, внезапно остановился:
– Ну, Антуан, на сей раз, на сей раз я сыт по горло!
Молодой человек ничего не ответил.
Школа оказалась закрытой. Было воскресенье, девять часов вечера. Сторож приотворил окошко.
– Вы не знаете, где мой брат? – крикнул Антуан.
Тот вытаращил глаза.
Господин Тибо топнул ногой.
– Позовите аббата Бино.
Сторож отвел их в приемную, вытащил из кармана витую свечку, зажег люстру.
Прошло несколько минут. Г-н Тибо без сил рухнул на стул; он опять пробормотал сквозь зубы:
– Ну, знаете ли, на сей раз!..
– Прошу извинить, сударь, – сказал аббат Бино, бесшумно входя в комнату. Он был очень мал ростом, и, чтобы положить руку на плечо Антуану, ему пришлось встать на цыпочки.
– Здравствуйте, юный доктор! Так что же случилось?
– Где мой брат?
– Жак?
– Он не вернулся сегодня домой! – воскликнул г-н Тибо, поднимаясь со стула.
– Куда же он ушел? – спросил аббат без особого удивления.
– Да сюда, черт побери! Отбывать наказание!
Аббат заложил руки за пояс.
– Жака никто не наказывал.
– Как?
– Жак сегодня в школу не приходил.
Дело запутывалось. Антуан не спускал со священника глаз. Г-н Тибо передернул плечами и обратил к аббату одутловатое лицо с набрякшими, почти никогда не поднимавшимися веками.
– Жак сказал нам вчера, что его оставили на четыре часа без обеда. Сегодня утром он ушел, как обычно. А потом, часов около одиннадцати, вернулся, но застал только кухарку, мы все были в церкви; сказал, что завтракать не придет, потому что оставлен на восемь часов, а не на четыре.
– Чистейшая фантазия, – заявил аббат.
– Днем мне пришлось выйти из дома, чтобы отнести свою хронику в "Ревю де Дё Монд"[2]2
«Ревю де Дё Монд» – литературно-научный журнал, основанный в 1829 г.; перестал выходить в 1944 г.
[Закрыть], – продолжал г-н Тибо. – У редактора был прием, я вернулся только к обеду. Жак не появлялся. Половина девятого – его нет. Я забеспокоился, послал за Антуаном, вызвал его из больницы с дежурства. И вот мы здесь.
Аббат задумчиво покусывал губы. Г-н Тибо приподнял веки и метнул острый взгляд на аббата, потом на сына.
– Итак, Антуан?
– Что ж, отец, – сказал молодой человек, – если этот номер он задумал заранее, значит, предположение о несчастном случае отпадает.
Поведение Антуана внушало спокойствие. Г-н Тибо придвинул стул и сел; его живой ум перебирал десятки вариантов, но заплывшее жиром лицо ничего не выражало.
– Итак, – повторил он, – что же нам делать?
Антуан размышлял.
– Сегодня – ничего. Ждать.
Это было очевидно. Но невозможность покончить с неприятной историей тут же, сразу, применив отцовскую власть, а также мысль о конгрессе моральных наук, который открывался послезавтра в Брюсселе и куда он был приглашен возглавлять французскую секцию, вызвали у г-на Тибо приступ ярости, его лоб побагровел. Он вскочил.
– Я подниму на ноги всю жандармерию, – крикнул он. – Или во Франции больше нет полиции? Или у нас разучились разыскивать преступников?
Его сюртук болтался по обеим сторонам живота, складки на подбородке то и дело ущемлялись углами воротничка, и он дергал головой, выбрасывая вперед челюсть, точно конь, натягивающий поводья. "Ах, негодяй, – пронеслось у него в мозгу. – Попасть бы ему под поезд!" И на какой-то миг г-ну Тибо представилось, что все улажено – выступление на конгрессе и даже, быть может, избрание на пост вице-президента… Но почти в ту же секунду он увидел младшего сына лежащим на носилках, а потом в гробу, обрамленном горящими свечами, увидел себя, сраженного горем отца, и всеобщее сочувствие окружающих… Ему стало стыдно.
– Провести целую ночь в такой тревоге! – сказал он вслух. – Тяжело, господин аббат, да, тяжело отцу переживать такие часы.
Он направился к дверям. Аббат выпростал из-за пояса руки.
– С вашего разрешения. – сказал он, потупясь.
Люстра освещала его лоб, наполовину прикрытый черной бахромкой волос, и хитрое лицо, клином сбегавшее к подбородку. На щеках аббата проступили два розовых пятна.
– Мы сомневались, сообщать ли вам об одном случае, сударь, который произошел с вашим сыном совсем недавно и который должно рассматривать как весьма и весьма прискорбный… Но в конце концов мы сочли, что в беседе с вами могут выясниться важные подробности… И если вы будете так любезны, сударь, уделить нам несколько минут…
Пикардийский акцент подчеркивал нерешительность аббата. Г-н Тибо, не отвечая, вернулся к своему стулу и грузно сел; веки его были опущены.
– В последние дни, сударь, – продолжал аббат, – мы уличили вашего сына в проступках особого свойства… в проступках чрезвычайно тяжелых… Мы даже пригрозили ему исключением. О, разумеется, лишь для острастки. Он вам об этом рассказывал?
– Вы же знаете, какой он лицемер! Он, как всегда, промолчал!
– Невзирая на серьезные недостатки нашего дорогого мальчика, не следует считать его испорченным существом, – уточнил аббат. – И мы думаем, что и в последнем случае согрешил он не намеренно, а по слабости своей; здесь следует усматривать дурное влияние опасного товарища, каких, увы, так много в государственных лицеях…
Господин Тибо скользнул по аббату тревожным взглядом.
– Вот факты, сударь. Изложим их в строгом порядке. Дело происходило в минувший четверг… – Он на секунду задумался, потом продолжал почти радостно: – Нет, прошу прощенья, это произошло позавчера, в пятницу, да-да, в пятницу утром, во время уроков. Незадолго до двенадцати мы вошли в класс вошли стремительно, как привыкли делать это всегда… – Он подмигнул Антуану. – Осторожно нажимаем на ручку, так что дверь и не скрипнет, и быстрым движением отворяем ее. Итак, мы входим и сразу же видим нашего друга Жако, ибо мы предусмотрительно посадили его прямо напротив дверей. Мы направляемся к нему, приподнимаем словарь. Попался, голубчик! Мы хватаем подозрительную книжонку. Это роман, перевод с итальянского, имя автора мы забыли, – "Девы скал"[3]3
«Девы скал» – мистико-эротический роман итальянского писателя Габриеле Д'Аннунцио (1863–1938).
[Закрыть].
– Этого еще не хватало! – воскликнул г-н Тибо.
– Судя по его смущенному виду, мальчик скрывает еще кое-что, глаз у нас на это наметан. Приближается время завтрака. Звонок; мы просим надзирателя отвести учеников в столовую и, оставшись одни, открываем парту Жака. Еще две книжки: "Исповедь" Жан-Жака Руссо и, что гораздо более непристойно, прошу извинить меня, сударь, гнусный роман Золя – "Проступок аббата Муре"…
– Ах, негодяй!
– Только закрыли мы крышку парты, как нам в голову приходит мысль пошарить за стопкой учебников. И там мы обнаруживаем тетрадку в сером клеенчатом переплете, которая на первый взгляд, должны вам признаться, выглядит вполне безобидно. Раскрываем ее, просматриваем первые страницы… Аббат взглянул на своих гостей; его живые глаза смотрели жестко и непреклонно. – Все становится ясным. Мы тут же прячем нашу добычу и в течение большой перемены спокойно обследуем ее. Книги, тщательным образом переплетенные, имеют на задней стороне переплета, внизу, инициал: Ф. Что касается главного вещественного доказательства, серой тетради, она оказалась своего рода сборником писем; два почерка, совершенно различных, – почерк Жака и его подпись: "Ж." – и другой, нам незнакомый, и подпись: "Д." – Он сделал паузу и понизил голос: – Тон и содержание писем, увы, не оставляли сомнений относительно характера этой дружбы. Настолько, сударь, что поначалу мы приняли этот твердый и удлиненный почерк за девичий или, говоря вернее, за женский… Но потом, исследовав текст, мы поняли, что незнакомый почерк принадлежит товарищу Жака, – о нет, хвала господу, не из нашего заведения, а какому-нибудь мальчишке, с которым Жак наверняка познакомился в лицее. Дабы окончательно в этом убедиться, мы в тот же день посетили инспектора лицея, достойного господина Кийяра, – аббат обернулся к Антуану, – он человек безупречный и обладает печальным опытом работы в интернатах. Виновный был опознан мгновенно. Мальчик, который подписывался инициалом "Д", это ученик третьего класса[4]4
Третий класс. – Во французской школе принят иной, чем в СССР, порядок нумерации школьных классов: первому году обучения соответствует наибольший порядковый номер (восьмой класс); соответственно третий класс это шестой год обучения.
[Закрыть], товарищ Жака, по фамилии Фонтанен, Даниэль де Фонтанен.
– Фонтанен! Совершенно верно! – воскликнул Антуан. – Помнишь, отец, их семья живет летом в Мезон-Лаффите, у самого леса. Конечно, конечно, в эту зиму, возвращаясь вечерами домой, я много раз заставал Жака за чтением стихов, которые давал ему этот Фонтанен.
– Как? Чтение чужих книг? И ты не поставил меня в известность?
– Я не видел в этом ничего опасного, – возразил Антуан, глядя на аббата так, будто собирался с ним спорить; и вдруг его задумчивое лицо озарилось на миг молодой улыбкой. – Это был Виктор Гюго, Ламартин, – объяснил он. – Я отбирал у него лампу, чтобы заставить спать.
Аббат поджал губы.
– Но что еще важнее: этот Фонтанен – протестант, – сказал он, решив взять реванш.
– Ну вот, так я и знал! – удрученно воскликнул г-н Тибо.
– Впрочем, довольно хороший ученик, – поспешно заверил аббат, выказывая свою беспристрастность. – Господин Кийяр сказал нам: "Это взрослый мальчик, который всегда казался серьезным; здорово же он всех обманул! Его мать тоже держится вполне достойно".
– Ах, мать… – перебил г-н Тибо. – Совершенно невозможные люди, несмотря на весь их достойный вид.
– К тому же хорошо известно, – ввернул аббат, – что кроется за суровостью протестантов!
– Во всяком случае, отец у него вертопрах… В Мезоне[5]5
В Мезоне… – Имеется в виду Мезон-Лаффит, дачное место в окрестностях Парижа, получившее свое наименование по старинному замку, построенному знаменитым французским архитектором Луи Мансаром (1598–1666) и в XIX в. купленному финансовым магнатом времен Июльской революции Жаком Лаффитом (1767–1844).
[Закрыть] никто их не принимает; с ними едва здороваются. Да, нечего сказать, умеет твой братец выбирать знакомых!
– Так вот, – продолжал аббат, – мы вернулись из лицея, вооруженные всеми необходимыми сведениями. И уже собирались произвести расследование по всем правилам, как вдруг вчера, в субботу, в начале утренних занятий наш друг Жако ворвался к нам в кабинет. Ворвался, в полном смысле этого слова. Бледный, зубы стиснуты. И прямо с порога, даже не поздоровавшись, стал кричать: "У меня украли книги, записи!.." Мы обратили его внимание на крайнюю непристойность его поведения. Но он не желал ничего слушать. Глаза его, всегда светлые, потемнели от гнева: "Это вы украли мою тетрадь, кричал он, – это вы!" Он даже сказал нам, – добавил аббат с глуповатой улыбкой: – "Если вы посмеете ее прочесть, я покончу с собой!" Мы попытались действовать на него лаской. Он не дал нам говорить: "Где моя тетрадь? Верните мне ее! Я тут все у вас переломаю, если мне ее не вернут!" И прежде чем мы успели ему помешать, он схватил с нашего письменного стола хрустальное пресс-папье, – вы помните его, Антуан? – сувенир, который наши бывшие воспитанники привезли нам из Пюи-де-Дом[6]6
Пюи-де-Дом – гористая местность в Оверни, получившая название по центральной горе массива, где добывают горный хрусталь.
[Закрыть], – и с размаху швырнул в мраморный камин. Это пустяк, – поспешил добавить аббат в ответ на сконфуженный жест г-на Тибо, – мы вспомнили об этой мелочи лишь для того, чтобы показать вам, до какой степени возбуждения дошел наш дорогой мальчик. Потом он стал кататься по полу, с ним начался настоящий нервный припадок. Нам удалось схватить его, втолкнуть в маленькую классную комнату, смежную с нашим кабинетом, и запереть на ключ.
– Ах, – произнес г-н Тибо, вздевая вверх кулаки, – бывают дни, когда он точно одержимый! Спросите у Антуана – разве не приходил он на наших глазах из-за сущей безделицы – в такое неистовство, что мы, конечно, сдавались; весь посинеет, на шее вздуются вены, – кажется, еще миг, и задушит кого-нибудь от ярости!
– Ну, все Тибо отличаются вспыльчивостью, – констатировал Антуан, всем своим видом показывая, что он ничуть этим не огорчен, и аббат счел своим долгом снисходительно улыбнуться.
– Когда через час мы отперли дверь, – продолжал он, – Жак сидел за столом, зажав голову ладонями. Он посмотрел на нас ужасным взглядом; глаза у него были сухие. Мы потребовали извинений, он не отвечал ни слова. Безропотно проследовал он за нами в наш кабинет – с упрямым видом, взлохмаченный, уставясь глазами в пол. По нашему настоянию он подобрал обломки злосчастного пресс-папье, но нам так и не удалось выжать из него ни слова. Тогда мы отвели его в часовню и решили оставить на какое-то время наедине с господом. Потом мы вернулись и преклонили возле него колена. В этот момент нам показалось, что он перед нашим приходом плакал; но в часовне было темно, и мы не решились бы это утверждать. Прочитав вполголоса несколько молитв, мы обратились затем к нему с увещеваниями, живописали ему страдания отца, когда он узнает, что плохой товарищ осквернил чистоту его дорогого ребенка. Скрестив руки и подняв голову, он глядел на алтарь и, казалось, нас не слышал. Видя, что его упрямство еще не сломлено, мы отвели его в класс. Он оставался там до вечера на своем месте, по-прежнему скрестив руки, не раскрывая учебника. Мы делали вид, что ничего не замечаем. В семь часов он ушел, как обычно, – однако не попрощался с нами. Вот и вся история, сударь, – заключил аббат с большим воодушевлением. – Прежде чем ввести вас в курс дела, мы ожидали сообщений о том, какие меры примет инспектор лицея в отношении этого субъекта по имени Фонтанен; нет сомнения в том, что его просто исключат. Но сейчас, видя, как вы встревожены…
– Господин аббат, – прервал его г-н Тибо, переводя дыхание, как после быстрого бега, – я в отчаянии, ничего другого не могу вам сказать! Когда думаю о том, какие еще сюрпризы ожидают нас при таких задатках… Я просто в отчаянии, – повторил он задумчиво, почти шепотом и застыл, вытянув вперед шею и упершись руками в бедра. Веки его были опущены, и, если бы не едва заметное подергивание нижней губы, прикрытой седеющими усами и белой бородкой, могло показаться, что он спит.
– Негодяй! – крикнул он внезапно, устремляя вперед подбородок, и острый взгляд, блеснувший из-за ресниц, убедительно показал, как можно ошибиться, слишком доверяясь его кажущейся неподвижности. Он снова прикрыл глаза и всем корпусом вопросительно повернулся к Антуану. Молодой человек отозвался не сразу; он уставился в пол, зажав в кулаке бороду и хмуря брови.
– Я сообщу в больницу, чтобы там меня завтра не ждали, – сказал он, – и утром пойду поговорить с этим Фонтаненом.
– Утром? – повторил машинально г-н Тибо. Он встал. – А пока нам предстоит бессонная ночь. – Он вздохнул и направился к дверям.
Аббат пошел следом. На пороге толстяк протянул священнику вялую руку.
– Я в отчаянии, – вздохнул он, не открывая глаз.
– Будем молить бога, чтобы он нам всем помог, – учтиво отозвался аббат Бино.
Отец и сын молча прошли несколько шагов. Улица была пуста. Ветер утих, потеплело. Было начало мая.
Господин Тибо подумал о беглеце. "Хорошо хоть, что он не мерзнет, если у него нет сейчас крова над головой". От волнения он ощутил слабость в ногах. Он остановился и обернулся к сыну. Поведение Антуана немного успокаивало его. Он любил своего старшего сына, гордился им, а в этот вечер любил его особенно нежно, ибо усилилась его враждебность к младшему. Не то чтобы он был неспособен любить Жака; дай, малыш, хоть какую-то пищу отцовской гордости, и он пробудил бы в г-не Тибо нежность; но сумасбродные выходки Жака всегда уязвляли его в самое чувствительное место: они ранили его самолюбие.
– Лишь бы только все обошлось без излишнего шума, – проворчал г-н Тибо. Он приблизился к Антуану, и голос его дрогнул: – Я рад, что ты смог уйти с дежурства на эту ночь, – сказал он. И сам испугался выраженных чувств.
Молодой человек, смущенный еще больше, чем отец, не отвечал.








