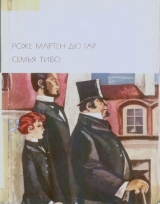
Текст книги "Семья Тибо, том 1"
Автор книги: Роже Мартен дю Гар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 79 (всего у книги 86 страниц)
Тело Жерома де Фонтанена положили в гроб рано утром, как это было принято в клинике; и тотчас же вслед за этим гроб был перенесен в глубь сада, в павильон, где администрация разрешала умершим больным дожидаться похорон, – как можно дальше от живых больных.
Госпожа де Фонтанен, почти не покидавшая комнаты мужа все то время, пока длилась его агония, обосновалась теперь в узком полуподвальном помещении, куда перенесли тело. Она была одна. Женни только что вышла: мать поручила ей сходить на улицу Обсерватории за траурной одеждой, которая понадобится им обеим для завтрашней церемонии; и Даниэль, проводивший сестру до калитки, задержался в саду, чтобы выкурить папиросу.
Сидя в тени на соломенном стуле под окошечком, освещавшим подвал, г-жа де Фонтанен готовилась провести здесь последний день. Глаза ее были устремлены на гроб, ничем пока не украшенный и установленный на черных козлах посреди комнаты. О личности покойного говорил теперь лишь один внешний признак – медная дощечка с выгравированной на ней надписью:
ЖЕРОМ-ЭЛИ ДЕ ФОНТАНЕН
11 МАЯ 1857 г. – 23 ИЮЛЯ 1914 г.
Она чувствовала себя очень уверенной и спокойной: она была под покровом божиим. Кризис того, первого вечера, момент слабости, вполне извинительный, – ведь драма разразилась так внезапно, – теперь прошел; теперь в ее горе не было ни безрассудства, ни остроты. Она привыкла жить в доверчивом контакте с той Силой, которая регулирует Жизнь вселенной, с тем Всё, в котором каждому из нас предстоит когда-нибудь растворить свою эфемерную оболочку; и смерть не внушала ей никакого страха. Даже будучи молодой девушкой, она не испытала ужаса перед трупом своего отца; она ни на мгновение не усомнилась, что этот руководитель, которого она так чтила, останется духовно с нею даже после распада его физического облика; и действительно, она никогда не лишилась его поддержки, никогда, – на этой неделе она получила лишнее тому доказательство: этот пастырь не переставал принимать участие в ее интимной жизни, в ее борьбе, помогать ей при разрешении трудных вопросов, вдохновлять все решения, которые она принимала…
Точно так же и теперь она не могла воспринимать смерть Жерома как конец. Ничто не умирает: все видоизменяется, сменяются времена года. Перед этим гробом, навеки закрытым над бренной плотью, она ощущала мистическую экзальтацию, аналогичную тому чувству, которое овладевало ею каждую осень, когда она наблюдала в своем саду в Мезоне, как листья, распустившиеся у нее на глазах весной, теперь опадают один за другим в свой положенный час, и это опадание никак не отражается на стволе, живущем своими тайными силами, на стволе, где таятся жизненные соки, где неизменно пребывает жизненная Субстанция. Смерть оставалась в ее глазах проявлением жизни, и созерцать без всякого ужаса это неизбежное возвращение в лоно матери-земли значило для нее смиренно приобщаться к всемогуществу божию.
В помещении было прохладно, как в недрах гробницы, здесь носился нежный, немного приторный запах роз, которые Женни положила на крышку гроба. Г-жа де Фонтанен машинально терла ногти на пальцах правой руки о левую ладонь. (Она привыкла каждое утро, закончив свой туалет, присаживаться на несколько минут к окну и, полируя себе ногти, предаваться на пороге нового дня краткому размышлению, которое она называла своей утренней молитвой; эта привычка создала у нее рефлекс – полировка ногтей и обращение к Духу божьему находились в некоей неразрывной связи.)
Пока Жером был жив, хотя он и находился далеко от нее, она втайне хранила надежду, что ее великая, испытанная любовь к нему обретет когда-нибудь свою земную награду, что когда-нибудь Жером вернется к ней остепенившийся и полный раскаяния и что, может быть, им обоим будет дано закончить свои дни друг подле друга, в забвении прошлого. Несбыточность этой надежды она осознала лишь в тот час, когда ей пришлось навсегда отказаться от нее. Все же память о перенесенных страданиях была еще слишком жива, и она ощущала некоторое облегчение при мысли, что теперь навсегда избавлена от подобных испытаний. Благодаря этой смерти иссяк единственный источник горечи, который в течение стольких лет отравлял ей существование. Она как бы невольно распрямила спину после долгого рабства. И, сама о том не подозревая, она наслаждалась этим чувством, таким человеческим и законным. Она была бы очень смущена, если бы это дошло до ее сознания. Но ослепление веры мешало ей бросить в глубины своей совести подлинно проницательный взгляд. Она приписывала духовной благодати то, что было следствием одного лишь инстинктивного эгоизма; она благодарила бога за то, что он даровал ей покорность судьбе и умиротворенность сердца, и без угрызений отдавалась этому приятному облегчению.
Сегодня она отдавалась этому чувству с особенной полнотой, потому, что день бдения над телом мужа был для нее только передышкой перед целым рядом дней, которые будут полны утомительных хлопот и борьбы: завтра, в субботу, похороны, возвращение домой, отъезд Даниэля. Затем, с воскресенья, начнется для нее тягостное, но неотложное занятие: надо спасать от бесчестия имя ее детей, надо поехать в Триест, в Вену и там, на месте, выяснить все дела мужа. Она еще не предупредила об этом ни Женни, ни Даниэля. Предвидя возражения со стороны сына, она предпочитала отсрочить бесполезный спор, ибо решение было ею принято. План действий был внушен ей Высшей силой. В этом не могло быть сомнений: ведь при мысли о своем смелом плане она ощущала в себе какое-то душевное возбуждение, которое было ей так хорошо знакомо, какой-то сверхъестественный властный порыв, свидетельствующий о том, что тут замешана божественная воля… В воскресенье, если представится возможность, самое позднее – в понедельник она отправится в Австрию, останется там две, если нужно будет, три недели; потребует свидания с судебным следователем, лично переговорит с руководителями обанкротившегося предприятия… Она не сомневалась в успехе: только бы поехать туда, действовать лично, оказывать на все прямое влияние. (В этом ее инстинкт не обманывался: уже не раз при трудных обстоятельствах она могла убедиться в своей силе. Но, разумеется, ей и в голову не приходило приписать эту силу своему личному обаянию: она видела в ней лишь чудесное вмешательство божества, через нее излучался божественный промысел.)
В Вене ей предстояло также предпринять один щекотливый шаг: ей хотелось познакомиться с этой Вильгельминой, чьи наивные и нежные письма, показавшиеся ей трогательными, она нашла в чемоданах Жерома…
Только закрыв Жерому глаза, она решилась разобрать его багаж. Она решилась на это прошлой ночью, выбрав час, когда наверняка сможет остаться одна, чтобы до конца охранить от детей тайны их отца.
Больше всего времени ушло на то, чтобы собрать бумаги: они были беспорядочно рассованы среди вещей. В течение целого часа она прикасалась своими руками к интимным вещам, роскошным и жалким, которые Жером оставил после себя, словно обломки крушения: к поношенному шелковому белью, костюмам от хороших портных, тоже истертым до нитки, но еще издававшим приятный, чуть-чуть кисловатый запах – лаванды, индийского нарда и лимона, – которому Жером оставался верен вот уже тридцать лет и который волновал ее, как ощущение его ласки… Неоплаченные счета валялись даже в ящике для обуви, даже в туалетном несессере: старые описи сумм, подлежащих уплате банкам, кондитерским, обувным и цветочным магазинам, ювелирам, врачам, счета на непредвиденные расходы – от китайца-педикюрщика с Нью-Бондстрит, от сафьянщика с улицы Мира за несессер с позолотой, за который так и не было заплачено. Квитанция триестского ломбарда на заложенные за смехотворно ничтожную сумму жемчужную булавку для галстука и пальто на меху с воротником из выдры. В бумажнике с графской короной фотографии г-жи де Фонтанен, Даниэля и Женни мирно соседствовали с фотографическими карточками, подписанными какой-то венской певичкой. Наконец, среди немецких книжонок с эротическими иллюстрациями г-жа де Фонтанен с удивлением обнаружила карманную Библию на тонкой бумаге, сильно потрепанную… Она хотела помнить только об этой маленькой Библии… Сколько раз во время душераздирающих "объяснений" Жером, стараясь всячески оправдать свое безобразное поведение, восклицал: "Вы слишком строго судите меня, друг мой… Я не так уж плох, как вы думаете!" Это была правда! Один лишь бог ведает тайну человеческой души, только ему известно, какими извилистыми путями и ради каких необходимых целей создания божьи движутся к совершенству…
Глаза г-жи де Фонтанен заволокло слезами, но она не спускала их с гроба, на котором уже увядали розы.
"Нет, – говорила она в глубине своего сердца, – нет, ты не был до конца погружен во зло…"
Размышления ее прервало появление Николь Эке, сопровождаемой Даниэлем.
Николь была ослепительна; траурное платье подчеркивало цвет ее кожи. Блестящие глаза, высокие брови и какая-то устремленность всей фигуры вперед придавали ей такой вид, будто она спешила сюда, торопилась принести в дар свою юность. Она наклонилась и поцеловала тетку, и г-жа де Фонтанен была благодарна ей за то, что она не нарушила тишины какими-нибудь условными словами сочувствия. Затем Николь подошла к гробу. Несколько минут она стояла совсем прямо, опустив руки вдоль туловища, сцепив пальцы. Г-жа де Фонтанен наблюдала за ней. Молилась ли она? Припоминала ли прошлое, прошлое застенчивой девочки, в котором дядя Жером занимал столько места?.. Наконец после нескольких секунд загадочной неподвижности молодая женщина вернулась к тетке, снова поцеловала ее в лоб и вышла из комнаты; Даниэль, все это время стоявший за стулом матери, последовал за ней.
Когда они были в коридоре, Николь остановилась и спросила:
– В котором часу завтра?
– Отсюда отправимся в одиннадцать. Процессия двинется прямо на кладбище.
Они были одни у входа в павильон, под сводами вестибюля. Перед ними расстилался залитый солнцем сад, полный выздоравливающих, – облаченные в светлые халаты, они лежали в шезлонгах у самых газонов. День был жаркий, чудесный; воздух неподвижен; казалось, лето будет длиться вечно.
Даниэль объяснил:
– Пастор Грегори прочтет краткую молитву над могилой. Мама не хочет заупокойной службы.
Николь задумчиво слушала.
– Как прекрасно держится тетя Тереза, – прошептала она, – так мужественно, так спокойно… Она, как всегда, совершенство…
Он поблагодарил ее дружеской улыбкой. Глаза ее были уже не детские, но в их синеве была все та же необычайная прозрачность и то же выражение ленивой нежности, которое некогда его так волновало.
– Как давно я тебя не видел! – сказал он. – Ну что ж, ты счастлива, Нико?
Взгляд молодой женщины, устремленный куда-то вдаль, к зелени деревьев, проделал целое путешествие, прежде чем вернуться к Даниэлю; лицо ее приняло страдальческое выражение; ему почудилось, что она вот-вот разрыдается.
– Я знаю, – пробормотал он. – Ты тоже, бедная моя Нико, испытала свою долю горя…
Только тогда он заметил, насколько она изменилась. Нижняя часть лица несколько погрубела. Под легким налетом грима, под искусственным румянцем проступала уже немного потерявшая девическую свежесть, немного усталая маска.
– Но все же, Нико, ты молода, перед тобой вся жизнь! Ты должна быть счастливой!
– Счастливой? – повторила она, как-то нерешительно поведя плечами.
Он с удивлением смотрел на нее.
– Ну да, счастливой. Почему же нет?
Взгляд молодой женщины снова потерялся где-то в залитом солнцем саду. После непродолжительного молчания она, не глядя на него, промолвила:
– Странная штука – жизнь… Ты не находишь? В двадцать пять лет я чувствую себя такой старой… (Она запнулась.) Такой одинокой…
– Одинокой?..
– Да, – ответила она, продолжая глядеть вдаль. – Мать, прошлое, молодость – все это далеко, далеко… Детей у меня нет… И это дело безнадежное – никогда, никогда я не смогу иметь детей…
Она говорила тихим и спокойным голосом, без всякого отчаяния.
– У тебя есть муж… – нерешительно произнес Даниэль.
– Муж, да… У нас глубокая, прочная привязанность друг к другу… Он умный, добрый… Он делает все, что может, только бы мне было хорошо.
Даниэль молчал.
Она сделала один шаг по направлению к стене, прислонилась к ней и продолжала, не повышая голоса и слегка подняв голову, словно решилась наконец сказать все, не боясь слов:
– Но видишь ли, несмотря на все это, у нас с Феликсом очень мало общего… Он на тринадцать лет старше меня и никогда не обращался со мной как с равной… Впрочем, он ко всем женщинам относится как-то по-отечески, немного снисходительно, как к своим больным…
Внезапно в воображении Даниэля возникла фигура Эке с его седеющими висками, испещренными мелкими морщинками, с его близорукими глазами, с его скромностью, собранностью и точностью движений. Почему он женился на Николь? Сделал это бездумно? Как срывают на ходу соблазнительный плод? Или, скорее, хотел внести в свою трудовую жизнь немного молодости и естественной грации, которой ему, вероятно, всегда не хватало?
– К тому же, – продолжала Николь, – у него своя жизнь, жизнь хирурга. Ты сам знаешь, что это такое. Он принадлежит другим с утра до вечера… Большей частью он даже ест совсем не в те часы, когда я… Впрочем, это даже лучше: когда мы вместе, нам почти не о чем говорить друг с другом, нечем делиться, и вкусы у нас во всем различные, и ни одного общего воспоминания ничего… О, мы никогда не ссоримся, у нас никогда не бывает разногласий… – Она засмеялась. – Ведь стоит ему высказать малейшее желание, какое бы оно ни было, я говорю: да… Я заранее хочу того, чего хочет он. – Она больше не смеялась и странно медленно произнесла: – Мне все до такой степени безразлично!
Она тихо отделилась от стены и стала с рассеянным видом спускаться по ступенькам невысокого крыльца. Даниэль следовал за ней, не говоря ни слова. Внезапно она повернулась к нему и промолвила с улыбкой:
– Вот тебе пример! Этой зимой он заказал новые книжные шкафы для маленькой гостиной и решил продать секретер красного дерева, который теперь некуда было поставить. Эта вещь – память моей матери. Но мне было все равно: у меня ничего нет, и я ничем не дорожу. Пришлось вынуть из этого секретера все, что в нем находилось. Он был полон бумаг, которых я никогда не разбирала, – там лежала переписка моих родителей, старые счетные книги, бабушкины письма, разные извещения о семейных событиях, письма от друзей… Все наше прошлое, Реннская улица, Руайя, Биарриц… Целая груда всякого старья, старые позабытые истории, старые, уже умершие люди… Я все перечитала от первой до последней страницы, прежде чем бросить в огонь… И целые две недели плакала над всем этим. – Она опять засмеялась. – Чудесные две недели!.. Феликс даже не подозревал ни о чем. Он бы и не понял. Он ничего не знает обо мне, о моем детстве, о моих воспоминаниях…
Неторопливо шли они через сад. Проходя мимо больных, она понизила голос:
– Теперь еще ничего… Но будущее – вот чего я иногда боюсь… Понимаешь, сейчас каждый из нас занимается своим: у него есть больница, деловые встречи, пациенты; у меня – хождение по магазинам, в гости; кроме того, я снова взялась за скрипку и немного занимаюсь музыкой с приятельницами; несколько раз в неделю мы у кого-нибудь обедаем; при том положении, которое занимает Феликс, приходится вести довольно широкую жизнь… Но что будет потом, когда он бросит практику, когда мы перестанем выезжать?.. Вот чего я боюсь… Что с нами будет, когда мы постареем и придется долгими вечерами сидеть друг против друга у горящего камина?
– То, что ты говоришь, ужасно, бедненькая моя Нико, – прошептал Даниэль.
Она вдруг громко расхохоталась, и это прозвучало как неожиданное пробуждение ее молодости.
– Глупый ты! – Сказала она. – Я ведь не жалуюсь. Такова жизнь – вот и все. Другим тоже не лучше, Наоборот, Я еще одна из самых счастливых… Но плохо, что в детстве воображаешь себе бог знает что… какую-то сказочную жизнь.
Они подошли к воротам.
– Я рада, что повидалась с тобой, – сказала она. – В форме ты просто великолепен!.. Когда ты кончаешь службу?
– В октябре.
– Уже?
Он засмеялся:
– Для тебя-то время пролетело быстро.
Она остановилась. Солнечные блики трепетали на ее коже, блестели на зубах и местами придавали ее волосам прозрачные оттенки светлого черепахового гребня.
– До свиданья, – сказала она, братски протянув ему руку. – Передай Женни – я очень жалею, что нам так и не удалось с ней повидаться. А когда зимою я опять переселюсь в Париж, ты время от времени приходи ко мне в гости… Хотя бы из простого великодушия… Будем болтать, изображать двух старых друзей, перебирать воспоминания… Смешно, как это я с возрастом привязываюсь к прошлому… Так придешь? Обещаешь?
На мгновение он погрузил свой взор в прекрасные глаза, немножко слишком большие, немножко слишком круглые, но полные такой прозрачной чистоты.
– Обещаю, – сказал он почти торжественно.
В этот день, впервые с воскресенья, Женни смогла выбраться из клиники; за это время ей лишь изредка удавалось пройтись вместе с Даниэлем по саду, В столь новом для нее соседстве со смертью она прожила эти четыре бесконечных дня, как тень среди живых: все, что происходило вокруг нее, казалось ей непонятным, чуждым. И потому, как только брат посадил ее в машину, как только она оказалась одна на залитом солнцем бульваре, ее охватило невольное чувство облегчения. Но оно продолжалось лишь краткий миг. Не успел автомобиль доехать до ворот Шамперре, как она почувствовала, что к ней опять возвращается то глубокое и неопределенное смятение духа, которое мучило ее уже четыре дня. И ей даже показалось, что это смятение, не сдерживаемое более присутствием посторонних людей, угрожающе возросло теперь, когда она осталась одна.
В час пополудни такси остановилось у дверей ее дома, и она вышла.
Постаравшись, на сколько было возможно, сократить соболезнующие излияния и расспросы консьержки, она быстро поднялась в квартиру.
Там царил полнейший беспорядок. Все двери были широко раскрыты, точно жильцы спасались бегством. В комнате г-жи де Фонтанен одежда, валявшаяся на постели, ботинки, разбросанные на полу, открытые ящики наводили на мысль о краже со взломом. На маленьком круглом столике, за которым обе женщины, уже в течение двух лет не имевшие прислуги, совершали обычно свою недолгую трапезу, виднелись остатки прерванного обеда. Все это надо было убрать, чтобы завтра, по возвращении с кладбища, матери не пришли слишком ярко на память при виде этого мрачного хаоса те ужасные минуты, которые она пережила в воскресенье вечером.
Подавленная, не зная, с чего ей начинать, Женни прошла к себе в комнату. По-видимому, она забыла затворить перед уходом окно: ливень, прошедший накануне, залил паркет; от порыва ветра разлетелись во все стороны письма на ее маленьком бюро, опрокинулась ваза, осыпались цветы.
Медленно снимая перчатки, она созерцала этот беспорядок. Она старалась собраться с мыслями. Мать дала ей самые подробные инструкции. Надо было взять ключ в секретере, открыть чулан, порыться в гардеробе, в ящиках, в чемоданах, разыскать зеленую картонку, в которой находились две траурных накидки и креповые вуали. Машинально сняла она с вешалки блузу, в которой по утрам убирала комнаты, и облачилась в это рабочее платье. Но силы изменили ей, и она вынуждена была присесть на край кровати. Тишина, наполнявшая квартиру, тяжело давила ей на плечи.
"Почему я так устала?" – задавала она себе лицемерный вопрос.
На прошлой неделе она ходила взад и вперед по этим самым комнатам, и ее легко несло течение жизни. Неужели же достаточно было недели, – даже меньше, четырех дней, – чтобы нарушить равновесие, достигнутое столь дорогой ценой?
Она продолжала сидеть, вся сжавшись, и какая-то тяжесть налегла ей на затылок. Слезы облегчили бы ее, но судьба всегда отказывала ей в этом утешении слабых людей. Даже девочкой она переживала свои горести без слез, замкнуто, жестко… Сухой взгляд ее скользнул по разбросанным бумажкам, по мебели, по безделушкам на камине и остановился на зеркале, привлеченный и словно поглощенный ослепительным отражением яркого, солнечного дня, царившего на дворе. И внезапно в этом мерцающем блеске на мгновение возник образ Жака. Она быстро встала, закрыла наружные ставни, окно, подобрала письма, цветы и вышла из комнаты.
В чулане было невыносимо душно. От жары в нем сгущался и усиливался запах шерсти, пыли, камфары, старых, пожелтевших от солнца газет. Она с усилием вскарабкалась на табуретку и открыла окно. Вместе со свежим воздухом в чулан ворвался ослепляющий свет, подчеркивая печальную уродливость нагроможденных тут вещей: пустых чемоданов, ненужных тюфяков и матрасов, керосиновых ламп, старых школьных учебников, картонок, покрытых серыми комками пыли и дохлыми мухами. Чтобы очистить угол, где один на другом громоздились чемоданы, ей пришлось переставить, прижав к себе обеими руками, набитый манекен, на котором вместо шляпы красовался старый абажур: покрытые блестками оборки его были там и тут схвачены букетиками искусственных фиалок; и одно мгновение она с нежностью глядела на это претенциозное сооружение, которое в ее детские годы неизменно царило на рояле в гостиной. Затем она мужественно принялась за работу, открывая чемоданы, роясь в шкафах, заботливо кладя на место мешочки с нафталином, острый запах которого обжигал ей ноздри и вызывал легкую тошноту. Обессиленная, вся в поту и все же борясь с этой унизительной расслабленностью, она упорно продолжала работу, которая, по крайней мере, мешала ей думать.
Но вот неожиданно, словно длинный луч света, прорезавшийся сквозь туман, одна мысль, совершенно четкая, хотя и неопределенно выраженная, коснулась самого чувствительного места ее души, и она сразу остановилась: "Ничто никогда не бывает потеряно… Все всегда возможно…" Да, несмотря ни на что, она молода, перед ней целая жизнь, – жизнь, неисчерпаемый кладезь возможностей!..
То, что открывалось ей за этими банальными словами, было столь ново, столь опасно, что у нее закружилась голова. Она внезапно поняла: после того как Жак ее покинул, ей удалось излечиться и овладеть собой лишь потому, что она сумела тогда отказаться даже от самой слабой надежды.
"Неужели же я снова начинаю надеяться?"
Ответ был столь явно утвердительным, что ее охватил трепет, и ей пришлось опереться о косяк гардероба. Несколько минут она стояла неподвижно, опустив веки, в состоянии какого-то летаргического оцепенения, которое делало ее почти бесчувственной. В мозгу ее проносились одно за другим какие-то видения, словно обрывки снов. Жак в Мезоне, после игры в теннис сидящий рядом с нею на скамейке, – и она отчетливо видела мелкие капли пота на его висках… Жак с нею вдвоем на лесной дороге, у гаража, где они только что видели, как задавило старого пса, и сейчас ей словно слышался тревожный голос Жака: "Вы часто думаете о смерти?.." Жак у садовой калитки, когда он поцеловал тень Женни на залитой лунным светом стене; и она опять слышала, как в сумраке ночи шуршали в траве его удаляющиеся шаги…
Она продолжала стоять, прислонившись к гардеробу и дрожа, несмотря на жару. Внутри нее воцарилась какая-то необычайная тишина. Шум города доносился сквозь высокое окно, словно из потустороннего мира. Как затушить теперь эту безрассудную жажду счастья, которую встреча с Жаком снова зажгла в ней четыре дня тому назад? Начинался новый приступ болезни, и он будет длиться, длиться, она это отлично понимала… На этот раз ей не удастся выздороветь: ведь она и не хочет выздоровления…
Тяжелее всего быть одной, всегда одной. Даниэль? Он, разумеется, был к ней очень внимателен в течение этих дней совместной жизни в Нейи. Не далее как сегодня утром, в клинике, за табльдотом, пораженный, может быть, отсутствующим видом Женни, он взял ее руку и вполголоса, без улыбки промолвил: "Что с тобой, сестричка?" Она неопределенно покачала головой и отняла руку… Ах, для нее всегда было такой мукой любить этого большого брата и никогда, никогда не находить подходящих слов, ничего, что раз навсегда разрушило бы перегородки, которые воздвигали между ними жизнь, их характеры, даже, пожалуй, их отношения брата и сестры! Нет. Не с кем было ей быть откровенной. Никто никогда не выслушал ее и не понял. Никто никогда и не мог бы понять… Никто? Он, может быть… Когда-нибудь?.. Где-то в глубине ее души нежный и тайный голос прошептал: "Мой Жак…" Краска бросилась ей в лицо.
Она чувствовала себя совершенно обессиленной, разбитой. Надо выпить холодной воды…
Осторожно, как слепая, держась одной рукой за стену, прошла она на кухню. Вода из-под крана показалась ей ледяной. Она смочила руки, лоб, глаза. Силы возвращались к ней. Еще немного терпения… Она открыла окно и оперлась локтями о подоконник. Лучистая дымка, словно сотканная вибрациями молекул, колыхалась над крышами. На Люксембургском вокзале отчаянно загудел паровоз. Сколько раз в последние недели, вот в такие же послеполуденные часы, в ожидании, пока закипит вода для чая, опиралась она об этот же подоконник, почти веселая, мурлыча себе что-то под нос… И она затосковала по той Женни, какою была еще этой весной, по той полусестре, умиротворенной, выздоравливающей. "Откуда взять силы, чтобы прожить завтра, послезавтра, все дальнейшие дни?" – спрашивала она себя вполголоса. Но эти слова, приходившие ей на ум, выражали только некую условную мысль, не раскрывая тайной правды ее сердца. Она принимала страдание, с тех пор как к ней вернулась надежда. И вдруг она, никогда не улыбавшаяся, ощутила, увидела так ясно, словно сидела перед зеркалом, на своих губах еще несмелую улыбку.








