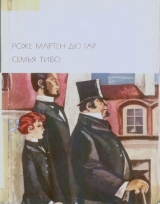
Текст книги "Семья Тибо, том 1"
Автор книги: Роже Мартен дю Гар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 65 (всего у книги 86 страниц)
Жак не знал Жанота. Он оказался именно таким, как его описывала Альфреда. Коренастый, немного натянутый, в старомодном черном костюме, он на цыпочках прошел через комнату, и его смиренные движения и жесты церковного служки плохо согласовывались с торжественным выражением его лица, увенчанного копною волос какой-то баснословной белизны, волос, подобных гриве геральдического зверя.
Жак встал. Воспользовавшись сутолокой представлений и приветствий, чтобы незаметно исчезнуть, он прокрался в самую дальнюю комнатку и стал дожидаться Мейнестреля.
Тот и в самом деле не замедлил появиться. Как всегда – в сопровождении Альфреды.
Беседа была краткой. Мейнестрель в несколько минут извлек из папки дела "Гиттберг – Тоблер" пять-шесть документов, на которых основывалось обвинение. Он передал их Жаку и прибавил записку к Хозмеру. Затем он дал несколько общих советов относительно фактической стороны расследования.
После этого он поднялся.
– А теперь, девочка, обедать!
Альфреда быстро собрала разбросанные бумаги и уложила в портфель.
Мейнестрель подошел к Жаку. Он разглядывал его секунду-другую. Дружеским тоном, совершенно не похожим на тот, в котором только что вел с ним разговор, он вполголоса спросил:
– Что у тебя сегодня не ладится?
Жак, немного смутясь, удивленно улыбнулся:
– Да все в порядке!
– Тебе не хочется ехать в Вену?
– Наоборот. Откуда вы взяли?..
– Только что мне показалось, будто ты озабочен.
– Да нет…
– Какой-то… бесприютный…
Жак еще шире улыбнулся.
– Бесприютный, – повторил он. По его плечам пробежала легкая дрожь усталости, и улыбка погасла. – Бывают дни, когда неизвестно почему чувствуешь себя больше чем когда-либо… бесприютным… Вы, должно быть, тоже это знаете, Пилот?
Мейнестрель, не отвечая, сделал два шага, отделявшие его от двери, и обернулся, чтобы убедиться, что Альфреда уже готова. Он открыл дверь и пропустил Альфреду вперед.
– Разумеется, – сказал он затем очень быстро, бегло улыбнувшись Жаку. Это нам знакомо… Это нам знакомо.
"Локаль" опустел. Монье расставлял стулья и наводил некоторый порядок. (По субботам и воскресеньям собрания обычно затягивались до поздней ночи. Но в этот вечер большинство завсегдатаев условилось о встрече после обеда в зале Феррер, на докладе Жанота.)
Мейнестрель дал Альфреде немного опередить их. Он взял Жака под руку и спускался по лестнице, слегка волоча больную ногу.
– Мы одиноки, дружок… Надо смириться с этим раз навсегда. – Он говорил быстро и тихо; он сделал паузу, его взгляд скользнул вслед Альфреде, и он повторил еще тише: – Всегда одиноки. – Это было сказано тоном самого объективного признания факта, без малейшего оттенка грусти или сожаления. Однако у Жака появилась уверенность, что Пилот в этот вечер думал о чем-то личном.
– Да, я знаю это, – вздохнул Жак, замедляя шаг и наконец совсем остановившись, словно он влачил за собой целый груз смутных мыслей, мешавший его движениям. – Это проклятие Вавилона! Люди одних лет, одного образа жизни, одних убеждений могут проводить целый день в разговорах, в самой свободной и искренней беседе, ни минуты не понимая друг друга и даже не соприкасаясь ни на секунду!.. Мы рядом, один возле другого – и непроницаемы… Как камешки на берегу озера… И я спрашиваю себя: разве наши слова, которые дают нам иллюзию соединения, не разделяют нас больше, чем сближают?
Он поднял глаза, Мейнестрель тоже остановился внизу лестницы и молча слушал этот печальный голос, разносившийся под каменным сводом.
– Ах, если бы вы знали, как мне порою противны слова! – продолжал Жак с внезапным тылом. – Как мне надоели наши словопрения! Как мне надоела вся эта… идеология!
При последнем слове Мейнестрель порывисто махнул рукой.
– Ясно. Слова тоже должны быть каким-то действием… Но поскольку действовать невозможно, говорить – это уже значит делать кое-что… – Он бросил взгляд во двор, где Патерсон и Митгерг, вероятно, продолжая начатую наверху "дискуссию", жестикулируя, прогуливались взад и вперед. Затем он устремил острый взгляд на Жака. – Терпение!.. Идеологическая фаза… это всего лишь фаза… фаза подготовительная, необходимая! Непреложность учения укрепляется контроверзами. Без революционной теории нет революционного движения. Без революционной теории нет авангарда. Нет вождей… Наша "идеология" раздражает тебя… Да, она, несомненно, покажется нашим наследникам смехотворным расточением сил… Но наша ли это вина? – Он очень быстро прошептал: – Время для действия еще не настало.
Жак своим внимательным видом, казалось, требовал: "Объяснитесь".
Мейнестрель продолжал:
– Капиталистическая экономика еще крепка. Машина проявляет признаки изношенности, но – плохо ли, хорошо ли – еще работает. Пролетариат страдает и волнуется, но, в общем, еще не подыхает с голоду. В этом мире, хромающем и задыхающемся, живущем накопленным жиром, – что ты хочешь, чтобы делали все эти предтечи, ожидающие своего часа? Они говорят! Они опьяняются идеологией! Их активность не может найти другого поля приложения, кроме области идей. У нас еще нет власти над ходом вещей…
– Ах! – сказал Жак. – Власть над ходом вещей!
– Терпение, малыш. Всему свой срок! Противоречия строя проявляются все ярче и ярче. Соперничество между нациями все растет. Конкуренция и борьба за рынки все обостряются. Вопрос жизни и смерти: вся их система рассчитана на беспрестанное расширение рынков! Как будто рынки могут расширяться до бесконечности!.. И они полетят с обрыва и сломают себе шею. Мир идет прямо к кризису, к неминуемой катастрофе. И это будет всеобщая катастрофа… Подожди только! Подожди, пока в мировой экономике все хорошенько разладится… Пока машины еще больше сократят число рабочих рук… Участятся крахи и банкротства, широко распространится безработица, капиталистическая экономика окажется в положении страхового общества, все клиенты которого потерпели бедствие в один и тот же день… И тогда…
– Тогда?..
– Тогда мы выйдем за пределы идеологии! Тогда кончится время словопрений! И мы засучим рукава, потому что настанет час действия, потому что мы обретем наконец власть над ходом вещей! – Какой-то свет озарил на мгновение его лицо и померк. Он повторил: – Терпение… терпение! – Затем повернул голову, чтобы найти взглядом Альфреду. И машинально, хотя она была слишком далеко, чтобы его услышать, он пробормотал: – Правда, девочка?..
Альфреда подошла к Патерсону и Митгергу.
– Идемте с нами в "Погребок" чего-нибудь поесть, – предложила она Митгергу, не глядя на Патерсона. – Не правда ли, Пилот? – весело крикнула она Мейнестрелю (что должно было для Патерсона и Митгерга означать: "Пилот заплатит за всех").
Мейнестрель в знак согласия опустил веки. Она добавила:
– А потом все пойдем в зал Феррер.
– Только не я, – сказал Жак, – не я!
"Погребок" был маленький вегетарианский ресторан, помещавшийся в подвале на улице Сент-Урс, позади бульвара Бастионов, в центре Университетского квартала, и посещавшийся преимущественно студентами-социалистами. Пилот и Альфреда часто ходили туда обедать – в те вечера, когда они не возвращались для работы на улицу Каруж.
Мейнестрель и Жак пошли вперед. Альфреда с обоими молодыми людьми следовала за ними на расстоянии нескольких метров.
Пилот снова заговорил со свойственной ему порывистостью:
– Нам еще, знаешь, сильно повезло, что мы переживаем эту идеологическую фазу… что родились на пороге чего-то нового, что только начинается… Ты слишком строг к товарищам! А я прощаю им все, даже их болтовню, ради их жизнеспособности… ради их молодости!
Тень меланхолии, ускользнувшая от его спутника, пробежала по лицу Мейнестреля. Он оглянулся, чтобы убедиться, идет ли Альфреда за ними.
Жак, не соглашаясь, упрямо покачивал головой. В часы отчаяния ему, действительно, случалось сурово осуждать молодых людей, которые его окружали. Ему казалось, что большинство из них мыслит слишком суммарно, узко, слишком легко поддается нетерпимости и ненависти; что они систематически упражняют свой ум в укреплении своих взглядов, а не в их расширении и обновлении; что большинство из них скорее бунтари, чем революционеры, и что они любят свое бунтарство больше, чем человечество.
Однако он воздерживался от критики своих товарищей в присутствии Пилота. Он сказал только:
– Их молодости? Но я как раз ставлю им в вину, что они недостаточно… молоды!
– Недостаточно?
– Нет! Их ненависть, в частности, – это старческая реакция. Маленький Ванхеде прав: подлинная молодость – не в ненависти, а в любви.
– Мечтатель! – серьезно произнес Митгерг, догнавший их. Он бросил сквозь очки косой взгляд на Мейнестреля. – Чтобы действительно хотеть, надо ненавидеть, – заявил он после паузы, глядя теперь куда-то вдаль перед собой. И почти тотчас же добавил вызывающим тоном: – Так же, как всегда было необходимо убивать, чтобы победить. Ничего не поделаешь!
– Нет, – сказал Жак твердо. – Не надо ненависти, не надо насилия. Нет! В этом я никогда не буду вместе с вами!
Митгерг окинул его взглядом, лишенным и тени снисхождения.
Жак слегка наклонился в сторону Мейнестреля и подождал секунду, прежде чем продолжать. Но так как Мейнестрель не вмешивался в спор, он решился и заговорил почти грубо:
– Надо ненавидеть? Надо убивать? Надо, надо!.. Что ты знаешь об этом, Митгерг? Стоит одному какому-нибудь великому революционеру достигнуть победы без убийств, одной силой ума – и все ваши концепции насильственной революции изменятся.
Австриец тяжело шагал немного в стороне. Лицо его было сурово. Он не отвечал.
– Если на протяжении истории все революции пролили слишком много крови, – продолжал Жак, бросив новый взгляд в сторону Мейнестреля, – то это, должно быть, потому, что те, кто их совершал, недостаточно их подготовляли и продумывали. Все революции происходили более или менее неожиданно, от случая к случаю, в обстановке паники, осуществлялись руками сектантов вроде нас, возводивших насилие в догму. Они верили, что делают революцию, а довольствовались гражданской войной… Я охотно допускаю, что в непредвиденных обстоятельствах она может стать необходимостью; но я не вижу ничего абсурдного в том, чтобы допустить, в условиях нашей цивилизации, возможность революции другого типа, революции медленной, терпеливо направляемой умами вроде Жореса, – людьми, сформировавшимися в школе гуманизма, имевшими достаточно времени, чтобы дать созреть своему учению, чтобы установить план последовательных действий; оппортунистами в хорошем смысле слова, которые подготовили бы захват власти путем целого ряда методических маневров, играли бы на всех досках сразу – парламент, муниципалитеты, профсоюзы, рабочее движение, стачки; революционерами, которые в то же время были бы государственными деятелями и осуществляли бы свой план с размахом, авторитетом и спокойной энергией, возникающими из ясной мысли, из понимания своего времени, – словом, в определенном порядке! И никогда не выпускали бы из своих рук управления событиями!
– "Управление событиями"! – рявкнул Митгерг, замахав руками. Dummkopf![212]212
Дурак (нем.).
[Закрыть] Установление нового строя мыслимо только под давлением катастрофы, в момент спазматической коллективной Krampf[213]213
Судороги (нем.).
[Закрыть], когда все страсти накалены… (Он довольно бегло говорил по-французски, но с подчеркнутым и грубоватым немецким акцентом.) Ничто подлинно новое не может совершиться без того порыва, который порождается ненавистью. И для того, чтобы строить, необходимо сначала, чтобы циклон, Wirbelsturm, все разрушил, все сровнял с землей, вплоть до последних обломков! – Эти слова он произнес, опустив голову, с выражением какой-то отрешенности, которая делала их страшными. Он поднял голову: – Tabula rasa! Tabula rasa![214]214
Здесь: все дочиста (лат.).
[Закрыть] – Резким движением руки он, казалось, сметал с пути препятствия, создавал перед собой пустоту.
Жак, прежде чем ответить, сделал несколько шагов.
– Да, – вздохнул он, силясь сохранить спокойствие. – Ты живешь, да и все мы живем аксиомой, что идея революции несовместима с идеей порядка. Мы все отравлены этим романтизмом – героическим, кровавым… Однако знаешь, что я скажу тебе, Митгерг? Бывают дни, когда я сам себе задаю вопрос, когда я спрашиваю себя: на чем в самом деле зиждется эта всеобщая склонность к теории насилия… Единственно ли на том, что насилие необходимо нам, чтобы действовать с успехом? Нет… Также и на том, что эти теории потворствуют нашим самым низменным инстинктам, самым древним, глубже всего скрытым в человеке!.. Посмотримся в зеркало… С какими кровожадными глазами, с какими дикарскими гримасами, с какой жестокой, варварской радостью мы притворяемся, будто принимаем это насилие как необходимость! Истина в том, что мы придерживаемся этой теории по мотивам значительно более личным, мотивам, в которых не так легко признаться: у всех у нас в глубине души таится мысль о том, чтобы взять реванш, отплатить за обиду… А для того чтобы без угрызений совести смаковать эту страсть к реваншу, что может быть лучше, чем оправдываться подчинением роковому закону?
Задетый за живое, Митгерг резко повернул голову.
– Я, – запротестовал он, – я…
Но Жак не дал прервать себя.
– Подожди… я никого не обвиняю… Я говорю "мы". Я констатирую. Потребность в разрушении еще более могущественна, чем надежда на созидание… Разве для многих из нас революция, прежде всего, не дело социального преобразования, а всего лишь возможность утолить жажду мести, которая получила бы опьяняющее удовлетворение в сутолоке мятежа, в гражданской войне, в насильственном захвате власти? Как будем мы упиваться репрессиями в тот день, когда после кровопролитной победы сможем, в свою очередь, утвердить тиранию – тиранию нашего правосудия!.. Пособник смуты, Митгерг, – вот кто гнездится сверх всего прочего в душе у каждого революционера. Не отрицай… Кто из нас осмелится утверждать, что он полностью избежал этой хмельной заразы разрушения? Иногда я вижу, как в лучших из нас, самых великодушных и наиболее способных к самоотречению, беснуется этот фанатик…
– Разумеется! – прервал его Мейнестрель. – Но разве вопрос заключается в этом?
Жак быстро обернулся, чтобы встретить его взгляд. Но напрасно. Ему показалось, что Мейнестрель улыбнулся, однако он не был в этом уверен. Он тоже улыбнулся, но по другому, личному поводу: он только что вспомнил, как несколько минут назад сказал: "Наскучили мне все эти словопрения!"
Брови Митгерга были высоко подняты над очками, и он, казалось, не хотел больше говорить.
Они достигли площади Бур-дю-Фур и молча перешли через нее. Багрянец заката окрашивал черепицы старинных крыш. Узкая улица Сен-Леже открылась подобно сумрачному коридору. Патерсон и Альфреда, шедшие позади, громко разговаривали. Был слышен их смех, но слов нельзя было разобрать. Мейнестрель несколько раз оглянулся на них через плечо.
Жак, не объясняя хода своих мыслей, прошептал:
– …как будто личность не могла бы объединиться с другими, участвовать в группе, в жизни коллектива, не отрекаясь прежде всего от своей ценности…
– Какой ценности? – спросил австриец, по лицу которого было ясно, что он действительно не находил никакой связи между этими словами Жака и предшествовавшими.
Жак помедлил.
– Ценности человеческой личности, – сказал он наконец тихо и уклончиво, словно опасался, чтобы спор не разгорелся на этой новой почве.
Наступило минутное молчание. И внезапно зазвучал пронзительный голос Мейнестреля:
– Ценность человеческой личности?
Почти веселый тон этого вопроса был загадочен, и Жаку почудился в нем след скрытого волнения. Уже несколько раз ему казалось, что в сухости Мейнестреля есть оттенок, позволявший думать, что сухость эта – напускная и что за ней скрывается тоска чувствительного сердца, которому нечего больше открывать в человеческой природе, и оно втайне неутешно тоскует об утраченных иллюзиях.
Митгерг не заметил ничего, кроме веселости Пилота; он засмеялся и постучал ногтем большого пальца по зубам.
– У тебя, Тибо, ни настолько нет политического чутья! – объявил он, словно для того, чтобы закончить спор. Жак не удержался и сказал сердито:
– Если обладать политическим чутьем означает…
На этот раз его прервал Мейнестрель:
– Обладать политическим чутьем – а что это значит, Митгерг?.. Соглашаться на применение в общественной борьбе таких методов, которые в частной жизни внушают отвращение каждому из нас, как низость или преступление? Так?
Он начал фразу как насмешливый выпад, а закончил ее серьезным тоном, сдержанно, но с силой. И теперь он смеялся про себя, с закрытым ртом, часто дыша носом.
Жак был готов возразить Мейнестрелю. Но Пилот всегда подавлял его. И он обратился к Митгергу:
– Подлинная революция…
– Доподлинно подлинная революция, – проворчал Митгерг, – революция ради освобождения народов, как бы жестока она ни была, не нуждается в оправданиях!
– Да? Средства не имеют значения?
– Именно так, – подтвердил Митгерг, не дав ему закончить. Революционная борьба идет другим путем, чем теории твоего воображения. Борьба, Camm'rad[215]215
Товарищ (нем.).
[Закрыть], берет человека за горло. Да, в борьбе дело сводится только к одному – восторжествовать!.. По мне, что бы ты ни думал, цель заключается вовсе не в реванше! Нет, цель – это освобождение человека. Вопреки его воле, если это необходимо! Ружейными залпами, гильотиной, если необходимо! Когда ты хочешь спасти утопающего в реке, ты начинаешь с того, что крепко бьешь его по голове, чтобы не мешал тебе его спасать… В тот день, когда игра начнется по-настоящему, для меня не будет никакой другой цели, кроме как сбросить, смести капиталистическую тиранию. Чтобы опрокинуть Голиафа подобных размеров, который сам считал, что все средства хороши, когда стремился подчинить себе народы, я не буду наивно останавливаться перед выбором средств. Чтобы подавить глупость и зло, все годится, что может их подавить, даже глупость и зло. Если понадобится несправедливость, если понадобится жестокость, – ну что ж, я буду несправедлив, я буду жесток. Любое оружие пригодно, если оно сделает меня сильнее, чтобы добиться победы. В этой борьбе, говорю я, все позволено! Все, абсолютно все, – кроме поражения!
– Нет! – сказал Жак пылко. – Нет!
Он стремился встретить взгляд Мейнестреля. Но Пилот, заложив руки за спину и опустив плечи, шел немного в стороне, вдоль домов, не глядя вокруг себя.
– Нет, – повторил Жак. (Он едва удержался, чтобы не сказать: "Такая революция меня не устраивает. Человек, способный на подобную кровавую жестокость, которую он прикрывает именем правосудия, такой человек, если он достигает победы, никогда не обретет ни чистоты, ни достоинства, ни уважения к человечеству, к равенству людей, к свободе мысли. Я стремлюсь к революции не для того, чтобы поднять к власти такого безумца…") Но он сказал только: – Нет! Я слишком хорошо чувствую, что насилие, которое ты проповедуешь, угрожает также области духа.
– Тем хуже для тебя! Мы не должны парализовать свою волю из-за интеллигентских шатаний. Если то, что ты называешь областью духа, должно быть уничтожено, если духовная жизнь должна быть задушена на полвека – тем хуже для нее! Я жалею об этом так же, как и ты. Но я говорю: тем хуже! И если мне, для того чтобы действовать, надо ослепнуть, ну что ж, я скажу: выколи мне глаза!
У Жака вырвался жест возмущения.
– Ну нет! "Тем хуже" – так не пойдет… Пойми меня, Митгерг… (Он обращался к австрийцу, но стремился уточнить свою мысль для Мейнестреля.) Дело не в том, что я меньше, чем ты, сознаю важность конечной цели. Если я восстаю, то именно в интересах этой цели! Революция, свершенная посредством несправедливости, жестокости и лжи, будет для человечества лишь ложной удачей. Такая революция будет нести в себе зародыш своего разложения. То, чего она достигнет подобными средствами, не будет прочно. Раньше или позже она тоже окажется обречена… Насилие – это оружие угнетателей! Никогда оно не принесет народам подлинного освобождения. Оно лишь приведет к торжеству нового угнетения… Дай мне сказать! – закричал он с внезапным раздражением, заметив, что Митгерг хочет его перебить. – Сила, которую вы все черпаете в этом теоретическом цинизме, мне понятна; и возможно, что я мог бы поступиться моим личным отвращением к нему и даже разделить с вами этот цинизм, если бы только я верил в его плодотворность. Но именно в это я и не верю! Я уверен, что никакой истинный прогресс не может осуществляться грязными средствами. Разжигать насилие и ненависть, чтобы построить царство справедливости и братства, – это бессмыслица; это значит с самого начала предать справедливость и братство, которые мы хотим установить в мире… Нет! Думай что хочешь, но, по-моему, подлинная революция, та революция, которая стоит того, чтобы отдать ей все наши силы, не свершится никогда, если отказаться от моральных ценностей!
Митгерг хотел возразить.
– Неисправимый маленький Жак! – произнес Мейнестрель тем фальцетом, который появлялся у него иногда и который всех обескураживал.
Он присутствовал при этом споре, как зритель. Его всегда интересовало столкновение двух темпераментов. Эти ученические дискуссии о различии между духовным и материальным, между насилием и ненасилием как таковыми казались ему нелепыми и тщетными – типичной псевдопроблемой, образцом неверной постановки вопроса. Но к чему говорить об этом?
Жак и Митгерг смущенно замолчали.
Австриец повернулся к Пилоту и несколько секунд испытующе смотрел в его непроницаемое лицо; сообщническая улыбка, которую Митгерг приготовил, застыла у него на губах; лицо его помрачнело. Он был недоволен оборотом, который получил спор благодаря Жаку, и досадовал на Жака, на Пилота, на самого себя.
После нескольких минут молчания он намеренно замедлил шаг, отдалился от двух мужчин и присоединился к Патерсону и Альфреде.
Мейнестрель воспользовался отсутствием Митгерга и приблизился к Жаку.
– Тебе хотелось бы, – сказал он, – очистить революцию заранее, прежде чем она свершится. Слишком рано! Это значило бы помешать ей родиться. – Он сделал паузу и, словно угадав, насколько его слова задевают Жака, быстро добавил, бросив на него проницательный взгляд: – Однако… я очень хорошо понимаю тебя.
Они продолжали молча идти по улице.
Жак пытался как следует разобраться в себе. Он думал о полученном воспитании. "Классическое образование… Буржуазная закваска… Это придает мышлению неизгладимые черты… Мне долго казалось, что я рожден, чтобы стать романистом, и только совсем недавно я перестал думать об этом. Я всегда был гораздо больше склонен созерцать, чем судить и принимать решения… А в революционере это, несомненно, слабость!" – подумал он не без тревоги. Он не хитрил с самим собою, по крайней мере, сознательно. Он не чувствовал себя ни ниже, ни выше товарищей: просто он ощущал себя другим и, если уж на то пошло – менее пригодным "орудием революции", чем они. Сможет ли он когда-нибудь, как его товарищи, отречься от своей личности, растворить свою мысль и волю в абстрактном учении, в коллективном деле партии?
Внезапно он сказал вполголоса:
– Сохранить и защищать независимость своего ума – значит ли это неизбежно быть непригодным для коллективной борьбы? А что же в таком случае делаете вы, Пилот?
Мейнестрель, казалось, не слышал его. Однако немного погодя он тихо произнес:
– Индивидуалистические ценности… Ценность человеческой личности… Ты думаешь, что за этими терминами скрыто одно и то же?
Жак продолжал смотреть на него; его вопросительное молчание, казалось, побуждало Пилота к дальнейшим объяснениям.
Он заговорил опять, словно нехотя:
– Человечество, поднимающееся вместе с нами, начинает чудесное превращение, которое изменит на века не только отношения между людьми, но и человека как такового, вплоть до того, что он считает своими инстинктами, хотя мы еще не знаем, каким путем это произойдет!
Затем он снова замолчал и, казалось, погрузился в размышления.








