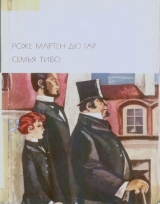
Текст книги "Семья Тибо, том 1"
Автор книги: Роже Мартен дю Гар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 86 страниц)
Антуан между тем, слегка согнувшись, медленно вытирал руки и, рассеянный, озабоченный, заранее представлял себе воспаление костной ткани, размягчение, затем быстрое разрушение подточенного позвоночника. Необходимо было как можно скорее попытаться сделать единственное, что еще оставалось: заключить больную в гипсовый корсет на долгие месяцы, может быть, на годы…
– Этим летом в Остенде было очень весело, доктор, – продолжала г-жа де Батенкур, несколько повышая голос, чтобы Антуан ее услышал. – Съехалась масса народу. Даже слишком много. Прямо ярмарка.
Она засмеялась. Затем, видя, что врач не обращает на нее внимания, стала постепенно понижать голос и перевела ласковый взгляд на мисс Мэри, которая одевала Гюгету. Но она не умела долго выдерживать роль зрительницы: ее всегда тянуло вмешаться в дело. Она поспешно встала, поправила складку на воротничке, беглым движением руки привела в порядок корсаж и, как-то непринужденно склонившись к самому лицу англичанки, сказала ей вполголоса:
– Знаете, Мэри, мне больше нравится шемизетка, которую сделали у Хедсона; нужно будет дать ее Сюзи как модель… Да держись же ты прямо! вскричала она с раздражением. – Постоять не можешь! Ну, как тут проверишь, хорошо ли сидит на тебе платье? – и гибким движением она повернулась к Антуану.
– Вы не представляете себе, доктор, как ленива эта дылда! Я всегда была подвижна, как ртуть; просто не выношу этого.
Глаза Антуана встретились с чуть-чуть вопросительным взглядом Гюгеты и, как он ни старался сдержаться, загорелись понимающим, сообщническим огоньком, заставившим девочку улыбнуться.
"Так, – отметил он про себя. – Сегодня понедельник. Нужно, чтобы в пятницу или в субботу она была уже в гипсе. Потом будет видно. Потом?.." Некоторое время он размышлял. Ему ясно представилась терраса одного из санаториев в Берке[140]140
Берк – город на побережье Ла-Манша, с большим количеством детских санаториев.
[Закрыть] и среди прочих «гробов», выстроенных в ряд под ласковым соленым ветром, тележка подлиннее других и в ней, на матрасе без подушки, – запрокинутое лицо больной и эти же прекрасные глаза, синие, живые, устремленные на дюны, замыкающие горизонт.
– В Остенде, – объясняла г-жа де Батенкур, все еще сердясь на лень своей дочери, – были устроены уроки танцев по утрам в казино. Я хотела, чтобы она ходила туда. Так вот, после каждого танца эта девица в изнеможении валилась на диванчик, хныкала, старалась обратить на себя всеобщее внимание. Все ее страшно жалели… – Она пожала плечами. – А я терпеть не могу этих нежностей! – горячо вырвалось у нее.
И взгляд, устремленный на Антуана, был так неумолим, что ему внезапно вспомнились ходившие в свое время слухи, будто старый Гупийо, который под конец жизни сделался ревнив, умер от яда. Она прибавила негодующим тоном:
– Это становилось так смешно, что я вынуждена была уступить.
Антуан окинул ее недоброжелательным взглядом. Внезапно он принял твердое решение. С этой женщиной он не станет вести серьезного разговора: пусть она себе спокойно уходит, а он спешно вызовет ее мужа. Гюгета не дочь Батенкура, но Антуан помнил, что Жак всегда говорил о Симоне: "В башке у него пусто, а сердце золотое".
– Ваш муж в Париже? – спросил он.
Госпожа де Батенкур решила, что он наконец соглашается придать разговору более светский характер. Мог бы поторопиться! Она хотела попросить его кое о чем, и для этого ей нужно было завоевать его расположение. Она засмеялась и призвала англичанку в свидетельницы.
– Вы слышите, Мэри? Нет, мы осуждены оставаться в Турени до февраля, из-за охотничьего сезона! Мне удалось вырваться сюда на этой неделе, в перерыве между двумя партиями гостей, но в субботу у меня опять полон дом.
Антуан ничего не ответил, и это молчание рассердило ее окончательно. Приходилось отказаться от мысли приручить этого дикаря. Она находила, что он просто смешон с этим своим отсутствующим видом и к тому же дурно воспитан.
Она прошла через всю комнату за своим манто.
"Отлично, – подумал Антуан, – сейчас я пошлю телеграмму Батенкуру; адрес у меня есть. Он может быть в Париже завтра, самое позднее послезавтра. В четверг – рентген. И для полной уверенности консультация с Патроном. В субботу мы заключим ее в гипс".
Гюгета, сидя в кресле, надевала перчатки с видом примерной девочки. Г-жа де Батенкур, утопая в мехах, поправляла перед зеркалом свою шляпу из перьев золотистого фазана, напоминавшую шлем валькирии. Довольно кислым тоном она спросила:
– Ну что же, доктор? Никаких предписаний? Что вы велите ей делать? Нельзя ли ей будет иногда ездить на охоту с мисс в английском шарабане?
Проводив г-жу де Батенкур, Антуан вернулся в кабинет и открыл дверь в приемную.
Вошел Рюмель походкой человека, который не может терять даром ни минуты.
– Я заставил вас ждать, – сказал, извиняясь, Антуан.
Тот ответил жестом вежливого протеста и протянул руку как хороший знакомый. Он как бы говорил: "Здесь я всего-навсего пациент". На нем был черный сюртук с шелковыми отворотами, в руке он держал цилиндр. Его представительная осанка вполне гармонировала с этим официальным облачением.
– Ого! – весело заметил Антуан. – У вас такой вид, словно вы приехали прямо от президента республики.
Рюмель засмеялся довольным смехом.
– Не совсем, мой друг. Я из сербского посольства: был завтрак в честь миссии Даниловского, которая на этой неделе остановилась проездом в Париже. А сейчас – новая обуза: министр посылает меня встречать королеву Елизавету[141]141
Королева Елизавета. – Имеется в виду супруга Альберта I, короля Бельгии с 1909 г.
[Закрыть], которой, к сожалению, вздумалось объявить, что в пять часов она посетит выставку хризантем. Впрочем, я с ней знаком. Она очень простая и милая. Обожает цветы и терпеть не может никаких церемоний. Я могу ограничиться несколькими приветственными словами без всякой официальности.
Он улыбнулся с каким-то отсутствующим видом, и Антуану пришло в голову, что он обдумывает свое приветственное слово, которое должно быть и почтительным, и галантным, и остроумным.
Рюмелю было уже за сорок. Львиная голова с густой белокурой гривой, откинутой назад и обрамляющей полноватое лицо, похожее на лицо древнего римлянина; воинственные, лихо закрученные усы; голубые глаза, живые и пронзительные. "Не носи этот хищник усов, – думал иногда Антуан, – у него был бы бараний профиль".
– Ах, этот завтрак, мой друг! – Он сделал паузу, полузакрыл глаза и слегка покачал головой. – Двадцать или двадцать пять человек за столом, всё сановники, важные особы, и что же? В лучшем случае найдется двое-трое умных людей. Просто ужасно!.. Но все-таки я, кажется, обделал одно дельце. Министр ничего не знает. Боюсь, как бы он мне его не испортил: он совсем как собака, вцепившаяся в кость…
Сочный голос и тонкая улыбка, как бы продолжающая каждое произнесенное слово, придавали его речи известную остроту, всегда, впрочем, одинаковую.
– Вы разрешите? – прервал его Антуан, подходя к письменному столу. Мне нужно только послать одну срочную телеграмму. – Я вас слушаю. Как вы себя чувствуете после этой сербской трапезы?
Рюмель не ответил на вопрос, словно не расслышал его. Он продолжал непринужденно болтать. "Стоит ему начать говорить, – подумал Антуан, – как он сразу же теряет вид занятого человека…" И пока он набрасывал телеграмму Батенкуру, до его рассеянного слуха долетали обрывки фраз:
– …с тех пор как Германия начала шевелиться… Сейчас они собираются открыть в Лейпциге памятник событиям тысяча восемьсот тринадцатого года[142]142
…открыть в Лейпциге памятник… – В октябре 1813 г. армия Наполеона потерпела поражение от соединенной армии России, Австрии, Пруссии и Швеции. Это событие вошло в историю под названием «Битва народов». В день ее столетия в Лейпциге состоялось открытие обелиска в честь победы над французами, сопровождавшееся антифранцузскими манифестациями.
[Закрыть]. Тут уж не обойдется без шума. Они пользуются любым предлогом… Все к тому идет, друг мой, и очень быстро! Подождите годика два-три… Все к тому идет!..
– К чему? – спросил Антуан, поднимая голову. – К войне?
Он весело поглядел на Рюмеля.
– Разумеется, к войне, – ответил тот серьезно. – Прямо к ней и идем.
Рюмель страдал безобидной манией: он давно уже предсказывал, что в скором времени разразится европейская война. Иногда можно было подумать, что он рассчитывает на это. Так, например, сейчас он даже добавил:
– Вот тогда и надо будет оказаться на высоте.
Двусмысленная фраза, которая могла означать: идти сражаться, но которую Антуан без колебания перевел: добраться до власти.
Подойдя к письменному столу, Рюмель наклонился к Антуану и машинально понизил голос:
– Вы следите за тем, что происходит в Австрии?
– Гм… Да… как и всякий неосведомленный человек.
– Тисса уже метит на место Берхтольда[143]143
Тисса уже метит на место Берхтольда. – Тисса Иштван (1861–1918) – с 1913 по 1917 г. глава правительства Венгрии. Берхтольд Леопольд (1864–1918) – в 1912–1915 гг. министр иностранных дел Австро-Венгрии.
[Закрыть]. А Тиссу я хорошо разглядел в тысяча девятьсот десятом году: это самый отчаянный малый. Что он, впрочем, и доказал, будучи председателем венгерского парламента. Читали вы речь, в которой он открыто угрожал России?
Антуан кончил писать и встал.
– Нет, – сказал он. – Но с тех пор, как я достиг возраста, когда начинают читать газеты, Австрия всегда выступала в роли забияки… Однако до настоящего времени никаких серьезных последствий это не имело.
– Потому что ее сдерживала Германия. Но с месяц тому назад позиция Германии изменилась, и теперь поведение Австрии начинает внушать серьезные опасения. Публика об этом и не подозревает.
– Объясните же мне, в чем дело, – сказал, невольно заинтересовавшись, Антуан.
Рюмель взглянул на часы и выпрямился.
– Для вас не будет новостью, что, несмотря на кажущийся союз, несмотря на речи обоих императоров, отношения между Германией и Австрией уже лет шесть или семь…
– Так что же? Разве эти несогласия не являются для нас гарантией мира?
– Неоценимой. Это была даже единственная гарантия.
– Была?
Рюмель с очень серьезным видом утвердительно кивнул головой.
– Теперь, друг мой, все это быстро меняется. Он посмотрел на Антуана, как бы спрашивая себя, насколько далеко можно зайти, разговаривая с ним, и затем процедил сквозь зубы: – И, может быть, по нашей собственной вине.
– По нашей собственной вине?
– Ну да, боже ты мой! Это сложная история. Что вы скажете, если я вам сообщу, что самые осведомленные люди в Европе считают, будто мы втайне лелеем воинственные намерения?
– Мы? Какая чепуха!
– Французы не путешествуют. Французы, мой дорогой, даже не представляют себе, какое впечатление производит их вызывающая политика, если смотреть со стороны… Так или иначе, но постепенное сближение Англии, Франции и России, их новые военные соглашения, вся дипломатическая игра последних двух лет, все это, основательно или нет, начинает беспокоить Берлин. Перед лицом того, что она совершенно искренне называет "угрозами" со стороны Тройственного согласия, Германия внезапно обнаружила, что легко может оказаться в полном одиночестве. Ей хорошо известно, что Италия сейчас только теоретически входит в Тройственный союз. На стороне Германии теперь одна лишь Австрия, и потому в эти последние дни она решила скрепить с нею узы дружбы. Даже ценой значительных уступок, даже ценой изменения внешнеполитического курса. Вы понимаете, в чем тут дело? Отсюда только один шаг до резкого поворота, до признания балканской политики Австрии правильной, быть может, даже до поддержки ее, и говорят, что этот шаг уже сделан. И это тем более важно, что Австрия, почувствовав, откуда ветер дует, сейчас же воспользовалась этим, как вы сами видели, чтобы повысить голос. И вот Германия сознательно одобряет дерзкое поведение Австрии, и не сегодня завтра эта дерзость может дойти бог знает до чего. И вся Европа окажется автоматически втянутой в балканскую распрю!.. Понимаете вы теперь, что при некоторой осведомленности в делах можно стать пессимистом или, по крайней мере, почувствовать известное беспокойство?
Антуан скептически отмалчивался. Он по опыту знал, что специалисты по внешней политике всегда предрекают неизбежные конфликты. Он позвонил Леону и стоял у дверей, ожидая, когда придет слуга, чтобы перейти наконец к вещам посерьезнее, и весьма неблагосклонно поглядывал на Рюмеля, который, увлекшись своей темой и позабыв о времени, расхаживал взад и вперед перед камином.
Отец Рюмеля, бывший сенатор, некогда был приятелем г-на Тибо (он умер как раз вовремя, чтобы не видеть, как сын поднимается по лестнице республиканских почестей). Антуану и прежде нередко приходилось встречаться с Рюмелем, но зачастил он к Антуану, по правде сказать, только в последнюю неделю. И с каждой встречей довольно суровое мнение о нем Антуана становилось все определеннее. Антуан заметил, что сквозь эту неослабную словоохотливость, сквозь скороспелую любезность "влиятельного лица", сквозь интерес к важным проблемам то и дело проскальзывает что-то обывательское, с наивной откровенностью обнаруживая самое обыкновенное честолюбие; честолюбие было, по-видимому, единственным сильным чувством, на какое вообще был способен Рюмель; Антуан считал даже, что оно несколько не соответствует его действительным возможностям, по мнению Антуана, ограниченным. Впрочем, недостаток образования, робость без скромности, отсутствие твердости в характере – все это было ловко скрыто под внешним лоском будущего "великого человека".
Тем временем Леон пришел за телеграммой. "Ну, хватит на сегодня политики", – сказал про себя Антуан, оборачиваясь к продолжавшему разглагольствовать Рюмелю.
– Так что же? Всё по-прежнему?
Лицо Рюмеля внезапно омрачилось.
Как-то вечером около девяти часов, в начале прошлой недели, Рюмель, бледный, как смерть, появился в кабинете Антуана. Заразившись дня за два перед тем известного рода болезнью, о которой он не решился довести до сведения своего постоянного врача, а тем более кого-либо постороннего ("Понимаете, мой друг, ведь я женат, – говорил он, – я до некоторой степени лицо официальное, и моя частная и общественная жизнь так легко может стать жертвой чьей-либо нескромности иди шантажа…"), – он вспомнил, что молодой Тибо тоже врач, и явился к Антуану, умоляя взяться за лечение его болезни. После тщетных попыток направить его к специалисту Антуан, всегда готовый пустить в ход свое искусство и заинтересовавшийся этим политическим деятелем, наконец согласился.
– Никакого улучшения? Неужели?
Рюмель уныло покачал головой, не ответив ни слова Этот болтун не мог заставить себя говорить о своей болезни, признаться, что иногда он испытывает адские мучения и что сегодня еще, после дипломатического завтрака, ему пришлось прервать важный деловой разговор и поспешно выйти из курительной комнаты, настолько мучительны были приступы боли.
Антуан подумал немного.
– Ну что ж, – сказал он решительным тоном, – придется испробовать ляпис…
Он открыл дверь в "лабораторию" и ввел туда Рюмеля, который окончательно смолк; затем, повернувшись к нему спиной, он приготовил раствор и наполнил шприц кокаином. Когда он вернулся к своей жертве, та уже успела снять с себя парадный сюртук. Без воротничка, без брюк, Рюмель превратился в жалкого, униженного, замученного болью и тревогой пациента, который неловко освобождался от покрытого пятнами белья.
Но он еще не окончательно пал духом. Когда Антуан приблизился к нему, он приподнял голову и попытался улыбнуться хоть сколько-нибудь непринужденно, несмотря на то, что невыносимо страдал. Страдал он и от морального одиночества. Ведь обрушившаяся на него неприятность усугублялась в довершение всего невозможностью окончательно сбросить маску, признаться кому-нибудь, каким глубоким унижением не только для его плоти, но и для его гордости был этот дурацкий случай. Увы, кому мог он довериться? У него не было друга. Вот уже десять лет, как политика обрекла его на жизнь за глухой стеной одиночества в кругу державшихся по-товарищески, но лицемерных и недоверчивых сослуживцев. Кругом не было никого, с кем бы он мог завязать настоящую дружбу. Впрочем, нет, был такой человек – его жена; в сущности, она была его единственным другом, единственным существом, которое знало и любило его таким, каков он был на деле, единственной, кому он мог бы довериться с чувством облегчения, – но увы! Именно от нее ему приходилось тщательнее всего скрывать случившуюся с ним беду.
Ощущение физической боли положило конец его размышлениям. Ляпис начал действовать Рюмелю удалось подавить первые стоны. Но вскоре, несмотря на применение болеутоляющего средства, он уже оказался не в состоянии сдерживаться, как ни стискивал зубы, как ни сжимал кулаки. Глубокое прижигание исторгло у него вопли, подобные воплям роженицы. В голубых глазах заблестели крупные слезы.
Антуану стало его жаль.
– Ну, будьте молодцом, мужайтесь! Я кончил. Это больно, но необходимо. Сейчас все пройдет. Лежите спокойно. Я введу еще немного кокаину.
Рюмель не слушал его. Распластанный на столе, под неумолимым рефлектором, он судорожно дергал ногами, словно препарированная лягушка.
Наконец Антуану удалось смягчить боль.
– Сейчас четверть пятого, – сказал он, – в котором часу вам надо уходить?
– То… только в пять, – пролепетал несчастный. – Мой автомобиль… ждет у подъезда.
Антуан улыбнулся дружеской, ободряющей улыбкой, но под ней таилась другая улыбка: ему невольно представился хорошо выдрессированный шофер с трехцветной кокардой, который ожидает, невозмутимо сидя у руля, господина чиновника особых поручений при министре; ему представился красный ковер, который сейчас, наверно, раскатывают под полотняной крышей выставочного павильона по этому ковру через какой-нибудь час этот самый Рюмель, дрыгающий сейчас ногами, как сосунок, которого перепеленывают, красавчик Рюмель, затянутый в сюртук и с неопределенной улыбкой под своими кошачьими усами, пройдет размеренным шагом навстречу маленькой королеве Елизавете.
Но Антуан отвлекся лишь на минуту. Скоро перед глазами врача остался только больной; даже меньше того – просто случай из практики, и даже еще меньше – результат химической реакции: действие прижигающего средства на слизистую оболочку, действие, которое он, Антуан, сознательно вызвал, за которое отвечал и о последствиях которого сейчас раздумывал.
К действительности вернул его Леон, осторожно постучавший три раза в дверь "Пришла Жиз", – подумал Антуан, бросая инструменты на подставку автоклава. Но как ни спешил он теперь расстаться с Рюмелем, привычка не шутить с профессиональными обязанностями заставила его терпеливо ждать, пока у несчастного утихнет боль.
– Отдыхайте здесь, сколько хотите, – сказал он, выходя, – эта комната мне не понадобится. Когда будет без десяти пять, я вам сообщу.
Леон сказал Жиз:
– Будьте добры, мадемуазель, обождите здесь…
"Здесь" – это была прежняя комната Жака, уже охваченная надвигающимися сумерками, наполненная мраком и тишиной, точно склеп. У Жиз, когда она переступила порог, забилось сердце, и усилие, которое ей пришлось сделать, чтобы победить свое волнение, приняло, как всегда, форму молитвы, короткого призыва к тому, кто никогда не оставляет без помощи. Затем она машинально опустилась на раскладной диван, на тот самый диван, сидя на котором она столько раз, и в детстве и в отрочестве, болтала с Жаком. Сейчас до нее доносились (из приемной или с улицы?) шумные всхлипыванья ребенка. Сама Жиз с трудом удерживалась от слез: в последнее время они начинали душить ее из-за всякого пустяка. К счастью, в настоящую минуту она совершенно одна. Нужно посоветоваться с доктором. Только не с Антуаном. Она чувствовала себя неважно, похудела. Он бессонницы, наверное. Это ведь ненормально в девятнадцать лет… С минуту она размышляла о том, какой странной цепью протянулись эти девятнадцать лет: нескончаемое детство в обществе двух стариков, – а потом это великое горе, постигшее ее в шестнадцать лет и усугубленное такими тягостными тайнами!
Леон вошел, чтобы зажечь свет, и Жиз не решилась сказать ему, что ей приятнее окутывающая ее полумгла. В комнате, которая теперь осветилась, она узнавала каждый предмет меблировки, каждую безделушку. Чувствовалось, что Антуан, из уважения к памяти брата, сознательно ничего не тронул; но с тех пор как эта комната стала его столовой, все предметы переместились, переменили свое назначение, все приняло совсем другой вид: посреди комнаты стоял раздвинутый обеденный стол; на письменном столе, уже не выполнявшем своего прямого назначения, между хлебницей и компотницей красовался чайный сервиз. Даже книжный шкаф… Прежде эти зеленые занавески за стеклами не задергивались. Одна из занавесок была слегка отодвинута, и Жиз, наклонившись, увидела блеск посуды; Леон, очевидно, сложил все книги на верхние полки… Бедный Жак! Что бы он сказал, если бы увидел свой книжный шкаф превращенным в буфет!
Жак… Жиз ни за что не хотела думать о нем как о мертвом. Она не только не изумилась бы, если бы он вдруг появился в дверях, но даже, напротив, чуть ли не каждое мгновение ждала, что он вот-вот предстанет перед ней; и это суеверное ожидание, длившееся уже три года, повергало ее в какое-то полубредовое состояние, восторженное и вместе с тем подавленное.
Здесь же, среди этих знакомых предметов, воспоминания обступили ее со всех сторон. Она не смела подняться; она едва дышала, боясь поколебать воздух, нарушить торжественность этого безмолвия. На камине стоит фотография Антуана. Взор Жиз останавливается на ней. Она вспоминает день, когда Антуан подарил эту карточку Жаку; точно такую же получила и Мадемуазель; она там, наверху. Это Антуан, каким он был прежде, тот Антуан, которого она любила как старшего брата, который так поддерживал ее все эти годы, когда она столько пережила. С тех пор как Жак исчез, она так часто спускалась к Антуану поговорить о нем! Сколько раз уже она едва не выдала ему свою тайну! А теперь все изменилось. Почему? Что между ними произошло? Ей трудно установить что-либо определенное. Вспоминается лишь короткая сцена, которая разыгралась в июне, накануне ее отъезда в Лондон. Антуан, казалось, потерял голову, узнав о неизбежности разлуки, тайной причины которой он не мог разгадать. Что же именно он ей сказал? Она как будто поняла, что он любит ее уже не только как старший брат, что он думает о ней "по-другому". Возможно ли это? Может быть, она все это сама выдумала? Но нет, даже в письмах, которые он писал ей, двусмысленных, слишком нежных и полных недомолвок, она не могла обнаружить тихой привязанности прежних лет. И вот, вернувшись во Францию, она стала инстинктивно избегать его и за эти две недели ни разу не поговорила с ним наедине. Чего он хочет от нее сегодня?
Она вздрагивает. Вот и Антуан: это его быстрые, мерные шаги. Он входит и, улыбаясь, останавливается. Лицо немного усталое, но лоб ясен, глаза счастливые, оживленные. Жиз, совсем было обессилевшая, приходит в себя; достаточно Антуану показаться, и кругом словно растекается часть его жизненной энергии.
– Здравствуй, Негритяночка! – говорит он с улыбкой. (Это очень давнее прозвище; его придумал в один прекрасный день, будучи в хорошем настроении, г-н Тибо еще в те времена, когда мадемуазель де Вез, вынужденная принять на себя заботы об осиротевшей племяннице, взяла Жиз к себе и ввела в буржуазный дом Тибо эту дочь мадагаскарской мулатки, во всем походившую на маленькую дикарку.)
Чтобы сказать что-нибудь, Жиз спрашивает:
– У тебя сегодня много больных?
– Уж такое ремесло! – весело отвечает он. – Хочешь, пройдем в кабинет? Или лучше остаться здесь? – И, не ожидая ответа, он усаживается рядом с ней. – Ну, как ты живешь? Мы теперь совсем перестали видеться… У тебя красивая шаль… Дай мне руку… – И он без стеснения берет руку Жиз, которая не противится этому, кладет ее на свой сжатый кулак, приподнимает. – Она уже не пухленькая, как раньше, твоя ручка…
Жиз для приличия улыбается, и Антуан замечает, что на ее смуглых щеках появляются две ямочки. Она не убирает руки, но Антуан чувствует ее напряженность, готовность ускользнуть. Он уже собирается прошептать: "Ты стала такая нехорошая с тех пор, как вернулась", – но спохватывается, хмурит брови и замолкает.
– Твой отец снова лег в постель, из-за ноги, – говорит она уклончиво.
Антуан не отвечает. Ему уже давно не случалось, как сейчас, сидеть вдвоем с Жиз. Он продолжает смотреть на маленькую темную руку; прослеживает узор жилок до тонкой и мускулистой ладони; один за другим осматривает все ее пальцы; старается рассмеяться.
– Можно подумать, красивые светлые сигары…
Но в то же время, словно сквозь теплую дымку, он ласкает взором изгиб этого стройного, перегнувшегося пополам тела, от мягкой округлости плеч до колена, выступающего из-под шелковой шали. Какое очарование таится для него в этой томности, такой естественной, – и в этой близости! Внезапный буйный порыв охватывает его… жар крови… поток, готовый прорвать плотину… Сможет ли он совладать с желанием обнять ее за талию, привлечь к себе это юное и гибкое тело? Он довольствуется тем, что склоняет голову, прикасается щекой к маленькой ручке и шепчет:
– Какая у тебя нежная кожа… Негритяночка…
И взгляд его, взгляд пьяного попрошайки, тяжело поднимается к лицу Жиз, которая инстинктивно отворачивает голову и высвобождает руку. Она решительно спрашивает:
– Что ты хотел мне сказать?
– Я должен сообщить тебе ужасную вещь, бедная моя детка…
Ужасную? Мучительное подозрение, как молния, пронзает мозг Жиз. Что? Значит, на этот раз все ее надежды рухнули? Взглядом, полным отчаяния, она в несколько секунд осматривает всю эту комнату, с тоскою задерживается на каждом предмете, напоминающем ей о любимом.
Но Антуан уже заканчивает начатую фразу:
– Знаешь, отец очень болен…
Сперва у нее такой вид, точно она не расслышала. Ей нужно опомниться… Потом она повторяет:
– Очень болен?
И, произнося эти слова, соображает, что знала это раньше, чем кто-либо мог ей сообщить. Она поднимает брови, глаза ее полны немного деланного беспокойства.
– Настолько, что?..
Антуан утвердительно кивает головой и затем говорит тоном человека, который давно уже знает правду:
– Операция, которую произвели этой зимой – удаление правой почки, дала только один результат: теперь уже не приходится строить иллюзий насчет того, какого рода эта опухоль. Другая почка почти сразу же после операции подверглась поражению. Но болезнь приняла несколько иную форму, распространилась на весь организм, – к счастью, если можно так сказать… Это помогает нам обманывать больного. Он ничего не подозревает, он не знает, что дни его сочтены.
После короткого молчания Жиз задает вопрос:
– Сколько еще, по-твоему?..
Он смотрит на нее. Он доволен. Из нее вышла бы отличная жена врача. Она умеет владеть собой, что бы ни случилось; она не пролила ни слезинки. Несколько месяцев, проведенные за границей, сделали ее взрослым человеком. И его охватывает досада на себя: почему это он всегда склонен считать ее ребенком?
Он тем же тоном отвечает:
– Два-три месяца, самое большее. – Затем быстро добавляет: – Может быть, гораздо меньше.
Несмотря на то, что Жиз не отличается способностью схватывать на лету, она угадала, что в этих последних словах скрывается что-то, касающееся ее лично, и она испытывает некоторое облегчение оттого, что Антуан наконец снимает маску.
– Скажи мне, Жиз, оставишь ты меня одного теперь, когда тебе все известно? Неужели ты все-таки вернешься туда?
Не отвечая, она тихо смотрит прямо перед собой блестящими, неподвижными глазами. На ее круглом лице не дрогнула ни одна черточка, но между бровей образуется и исчезает, снова появляется и опять стирается маленькая морщинка – единственный знак происходящей в ней внутренней борьбы. Первым чувством, овладевшим ею, была нежность: этот призыв взволновал ее. Она никогда не думала, что может явиться поддержкой для кого-либо, тем более для Антуана, который сам был всегда опорой семьи.
Но нет! Она чует западню, она хорошо понимает, почему он стремится удержать ее в Париже. И все ее существо восстает против этого. Пребывание в Англии – единственная для нее возможность выполнить свое великое намерение, единственный смысл ее существования! О, если бы она могла все объяснить Антуану! Увы, это значило бы открыть тайну своего сердца, и открыть ее именно тому сердцу, которое наименее подготовлено выслушать такую исповедь… Впоследствии, может быть… Письмом… Но не сейчас.
Ее взгляд по-прежнему устремлен вдаль с выражением упорства, которое, как представляется Антуану, уже само по себе не предвещает ничего хорошего. И все же он настаивает:
– Почему ты мне не отвечаешь?
Она вздрагивает, сохраняя упрямое выражение лица.
– Да нет же, Антуан, ты не прав! Теперь я больше чем когда-либо должна постараться скорее получить этот английский диплом. Мне придется начать заботиться о себе гораздо раньше, чем я предполагала…
Антуан прерывает ее сердитым движением.
Он удивлен, он подметил в выражении ее сомкнутых губ, в ее взгляде какую-то безысходную грусть и в то же время странный блеск, какое-то возбуждение, похожее на безумную надежду. В ее чувствах для него нет места. Внезапная досада овладевает им, и он решительно поднимает голову. Досада, отчаяние? Отчаяние побеждает: горло его сжимается, на глазах слезы. И на этот раз он даже не пытается удержать их или скрыть: может быть, они даже помогут ему одолеть ее непонятное упорство…
Жиз действительно очень взволнована. Она никогда не видела Антуана плачущим, даже не представляла себе, что он может плакать. Она старается не смотреть на него. Ведь она чувствует к нему нежную и глубокую привязанность, всегда, всегда думает о нем с каким-то внутренним порывом, энтузиазмом. В течение трех лет он был единственной ее поддержкой, сильным, испытанным товарищем, чья близость стала единственным утешением ее жизни. Зачем же теперь вместо восхищения и доверия он требует от нее чего-то другого? Почему она не может больше выказывать ему сестринские чувства?
А в передней раздается звонок. Антуан машинально прислушивается. Кто-то стукнул дверью; затем снова тишина.
Неподвижно, молча сидят они друг подле друга, и их мысли, такие несходные, все мчатся и мчатся вперед…
Наконец телефонный звонок. В передней раздаются шаги. Леон приоткрывает дверь.
– Это от господина Тибо, барышня. Пришел доктор Теривье.
Жиз сразу же поднимается с места.
Антуан усталым голосом подзывает Леона:
– Сколько человек в приемной?
– Четверо.
Антуан, в свою очередь, поднимается. Жизнь вступает в свои права. "А Рюмель-то ждет, что я приду без десяти пять…" – вспоминает он.
Не приближаясь к нему, Жиз говорит:
– Мне нужно торопиться, Антуан… Прощай.
Он как-то странно улыбается и пожимает плечами:
– Ну что ж, иди… Негритяночка!
И его собственная интонация напоминает ему прощальные слова отца: "Ну иди, дорогой!" Неприятное сопоставление…
И он добавляет совсем другим тоном:
– Не передашь ли ты Теривье, что в данную минуту я не могу отлучиться? Если он хочет поговорить со мной, пусть зайдет сюда, когда будет спускаться вниз. Хорошо?
Она кивает головой и открывает дверь; затем, словно приняв внезапное решение, оборачивается к Антуану… Но нет… Что она может ему сказать? Раз ей нельзя поведать ему все, то для чего же?.. И, плотнее закутавшись в шаль, она исчезает, не поднимая глаз.








