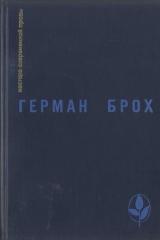
Текст книги "Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия)"
Автор книги: Герман Брох
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 49 страниц)
Старая Церлина исполнила приказание, и в комнату пахнуло ласковым садовым воздухом.
– Эта комната у нас всегда служила для гостей, – сказала баронесса. – Там, рядом, – спальня.
И тут старушка Церлина с таким видом, словно она жениха привела в невестину спальню, неслышно, как тень, зашмыгнула в дверь соседней комнаты и скрюченной от ревматизма рукой как бы исподтишка поманила за собой гостя войти и полюбоваться кроватью, на которую уже и указывала ему пальцем.
Баронесса осталась в первой комнате и оттуда окликнула служанку:
– Церлина! А как шкаф-то, очистила? Хорошенько вытерла?
– Да, сударыня. И шкаф очистила, и на кровать уже все свежее постелила.
И с этими словами она раскрыла дверцы шкафа, провела ладонью по одной из полок, чтобы вместе с нею А. сам мог убедиться, что внутри все сверкает чистотой.
– Ни пылиночки, – промолвила она, разглядывая свою ладонь.
– Не забудь проветрить спальню!
– Я уж и так проветриваю, сударыня, – отозвалась Церлина и сама продолжила беседу: – Я и воды налила в оба кувшина.
– Что же, – сказала баронесса, очевидно скуповатая на похвалу, – налила и ладно. А вечером все-таки сменить воду не мешает.
– Вечером я тепленькой принесу, – так и козырнула служанка, чтобы перещеголять свою госпожу.
Под эти разговоры А. отошел к окну подышать ласковым воздухом сада. Еще стояли сумерки, но в одной из комнат нижнего этажа уже загорелась лампочка, и на цветочные грядки легла полоска света, придавая призрачный вид многоцветью роз и превращая их листья в лакированную жесть. Но подальше от дома – в глубине сада, там, где стояли белые скамеечки, – еще царили естественные дневные краски, немного приглушенные сумерками, и гвоздики, густо посаженные по бокам главной дорожки, склонялись над нею своими матовыми, иссиня-зелеными стебельками.
Как ни хорош был безмятежный покой, источаемый садом, но он исподволь отвлекал гостя от его первоначального намерения. А. почувствовал это и сделал слабую попытку поправить дело.
– У меня, собственно говоря, были виды на комнату с окнами на улицу.
– А какое тут по утрам бывает солнышко! – сказала на это старая Церлина и в ответ на его соглашающуюся улыбку добавила тихо, так, чтобы не услышала из соседней комнаты ее госпожа: – Вот и сынок у нас есть.
А. с удовольствием посмеялся бы над ее словами, но, оказывается, не смог. Он вернулся в первую комнату, где все еще стояла, опираясь на палку, баронесса. Можно было подумать, будто между этими женщинами подспудно существует неразрывная мысленная связь, даже когда они что-то утаивают друг от друга, ибо баронесса вдруг спросила:
– Кстати, сколько вам лет, господин А.?
– Да уж четвертый десяток пошел.
Он всегда стеснялся расспросов насчет своего возраста. У него были светлые волосы и тонкая кожа, сложения он был хрупкого, в очертаниях губ и подбородка недоставало твердости, зато взгляд его голубых глаз отличался живостью, поэтому он производил на людей такое моложавое впечатление – пожалуй, что чересчур моложавое, думал он сам. Добиваясь (без особого, впрочем, успеха) внешней солидности, он решил отпустить небольшие подстриженные бакенбарды во вкусе эпохи бидермейера[9]9
Стиль, господствовавший в немецком и австрийском искусстве с середины десятых до конца сороковых годов XIX века.
[Закрыть].
– Четвертый десяток, – повторила баронесса. – Четвертый… А моей дочери… – Но тут она замолчала, судя по всему едва не проболтавшись насчет возраста своей дочери. Подумав, она продолжала: – А какая у вас профессия?
Из какого-то упрямого озорства, а отчасти еще и для того, чтобы испытать, как далеко позволено зайти сыну и сколько ему простится в родительском доме, А. чуть было не соврал, что он политический агент. Но с какой стати ему было ставить на карту едва одержанную победу? И он назвался негоциантом, занимающимся драгоценными камнями. Конечно же, это было тоже довольно рискованно. Ведь баронесса легко могла бы предположить, что под прикрытием торговли драгоценными камнями он занимается опасными спекуляциями, а не то еще вообразила бы, пожалуй, что он втерся в дом, имея виды на ее фамильные драгоценности.
Но, по всему судя, баронессе такая мысль еще не приходила в голову. И слова эти, очевидно, не связывались в ее представлении ни с каким понятием: на ее лице появилось растерянное выражение что-то недослышавшего человека.
– Драгоценными камнями? – переспросила она.
Церлина, вошедшая следом за ним, тотчас же подтвердила:
– Да, да! Драгоценными камнями!
Но не в пример хозяйке она произнесла это ободряющим тоном, как будто бы у А. обнаружилась самая почтенная профессия и с нею вполне можно примириться.
– Вернемся назад и там обсудим все остальное, – решительно заявила наконец баронесса, которой, очевидно, неловко сделалось в комнате у негоцианта, занимающегося драгоценными камнями, и потому она вместе с А. отправилась в залу. Церлина же скрылась на кухне.
Оставшись вдвоем, они снова уселись друг против друга, и баронесса нерешительным тоном спросила:
– Так, значит, вы работаете ювелиром, господин А.?
– Нет, баронесса, я торгую драгоценными камнями, это разные вещи.
Может быть, баронессу смутило упоминание о торговле, наверно, ей сразу представились другие торговцы – зеленщики, бакалейщики, словом, всякая простежь; надо думать, по ее понятиям, любой торговец был человеком, которого нельзя принимать в порядочном обществе. И ей неприятно было бы пользоваться одной ванной даже с ювелиром. Поэтому она сказала:
– В делах моя дочь разбирается лучше, чем я. К сожалению, ее нет сейчас дома…
Догадываясь об истинной причине, А. пустился в объяснения:
– Торговля бриллиантами – очень хорошая профессия. Я много лет провел на алмазных копях в Южной Африке.
– О! – отозвалась баронесса. К ней вновь возвращалось доверие.
– Вот только покончу с делами в Европе – и снова уеду в Африку.
– О! – промолвила баронесса, все более доверяя ему, и забыла осведомиться, какого рода дела привели его именно в этот город. Глядя на вас, не подумаешь, что вы – англичанин.
– Я подданный Голландии.
Это решило дело. Баронесса вздохнула с облегчением. Приютить под своим кровом иностранца, приехавшего из дальних стран, так естественно: это куда легче и приятнее, чем пустить к себе в дом местного жителя. То, что иначе показалось бы сделкой двух бедняков, приобретает видимость великодушного гостеприимства, когда речь идет об иностранце. Так что, не прибегая даже к словам, эти двое, сидевшие в комнате, в которой начали сгущаться сумерки, достигли между собой согласия. Гравюры в вишневых рамках, изображавшие архитектурные виды, смутно чернели по стенам, и только на двух писанных маслом картинах с римскими пейзажами, которые висели в простенках между окнами, еще можно было различить линии и потухшие краски. Отдаленное напоминание о свете. Совсем как мать и сын, которые присели вечерком, чтобы вместе помолчать, сидели они друг против друга, а в окнах светилось уже очистившееся от облаков, шелковистое светло-зеленое небо, и над западными крышами румянились перламутровые отблески зари. При таком задушевном настроении А. испросил разрешения выйти на балкон и вышел.
И вот перед ним та самая треугольная площадь, он видит ее, пускай не так – но ведь почти так! – как ему мечталось. Уже потемнелые, стояли деревья сквера, окруженные отчетливой светло-серой каймой совершенно просохшего асфальта, которым была покрыта широкая набережная. Вокзал осветился изнутри огнями, там остался вестибюль с гостиничными служащими, но А. о них и не вспомнил. Он разглядывал сверху редких пешеходов, которые неслышно проходили вдоль домов, слушал, как поскрипывает песок под ногами людей, бредущих по S-образной аллее, любовался собаками, которых вывели на прогулку. Временами нет-нет да и пискнет откуда-нибудь птичка; ласкающий воздух напоен влагой; изредка взлаивала собака. Родиться; стать от материнской плоти – плотью; воплотиться и стать телом, чтобы ребра вздымались от дыхания, чтобы пальцы охватывали железную балюстраду, чтобы мертвому быть в живом охвате; вечное чередование живого с неживым, одно другому приют бесконечно призрачный: да, родиться и затем отправиться по свету и странствовать по его приветливым дорогам, и чтобы детская рука неизменно покоилась в материнской руке – вот это самое естественное счастье человеческого бытия открылось ему со всей очевидностью, пока он стоял на балконе, прилепившемся к стене дома, чувствуя у себя за спиной надежность домашнего приюта, и глядел сверху на темную лужайку и темные деревья, памятью зная про кусты роз в саду позади дома, про полосу домов, что пролегла Между живым – и живым, между растущим – и растущим, про полосу из камня и дерева мертвое изделие человеческих рук, которое все равно родной приют. И А. знал, что ему позволено когда угодно возвратиться и что та, которая ждет в комнате, будет ждать терпеливо, так терпеливо, как мать ожидает свое дитя.
Он воротился домой в комнату, где сгустились глубокие сумерки, и сел на свое прежнее место напротив баронессы. Та встретила его улыбкой и, наклонившись навстречу, сказала:
– Хорошо небось там на улице?
– Дивный, незабываемый вечер! Но опять собирается дождь. – Хильдегард, – баронесса в первый раз назвала ее по имени, – Хильдегард пошла прогуляться. – И словно бы А. был членом семьи, которого следует посвятить в домашние обстоятельства, она продолжала: – Меня-то она, конечно, держит взаперти, точно пленницу.
Он нисколько не удивился, не усомнившись в правоте ее слов, однако, чтобы придать им шутливое значение, сказал:
– Ах, так, значит, вы, баронесса, пленница.
– Да, это и в самом деле так, – серьезно ответила она. – Побыв у нас подольше, вы и сами, несомненно, убедитесь, что я пленница.
А. кивнул. Ибо люди в плену друг у друга, и каждый думает, что только он – пленник. Вот ведь и для него жизненное пространство тоже сузилось и ограничилось этой треугольной площадью и этим домом, оно сузилось, при том что он и сам не мог бы высказать, по чьей вине это произошло и у кого он очутился в плену.
Баронесса продолжала свои объяснения:
– Я им обеим уступаю… Я говорю – обеим, потому что Церлина, моя старая горничная, которую вы уже видели, заодно с Хильдегард… Я им не мешаю, пускай их, раз им так нравится; я от жизни свое получила, и мне нетрудно отказаться от удовольствий.
– У вас, баронесса, остались другие радости, – сказал А.
Но баронесса продолжала свое:
– Церлина была горничной еще у моей матери, всю жизнь прожила в нашем доме… Понимаете? Она – старая дева.
Кого же любит старая служанка? Ту мебель, которой каждый день касается своими руками? Те полы, которые вот уж сорок лет все снова и снова натирает до блеска и в которых ей знакома каждая щербинка? Она спит одна, и если когда-то в те незапамятные времена, когда она еще жила в родной деревне, ей случалось постоять у ворот с каким-нибудь парнем, то с тех пор она давно об этом забыла; хотя безвременное человеческое «я» ничего не забывает и ничего не прощает.
А. сказал:
– Церлина любит вас, баронесса.
– Она мне этого не прощает, – промолвила баронесса, – ни она, ни дочка мне этого не прощают. – И повернула к нему раскрытые ладони, словно показывая, сколько ласк они подарили и сколько приняли. – Церлину насилу удалось уговорить, чтобы она перешла в мой дом, сперва ведь она и девочку невзлюбила.
Под прозрачностью невесомого, как вздох, тонкого небосвода, среди земли, пересеченной дорогами и рельсами железнодорожных путей, притаился город – кусочек густо обжитой земли; а между лужайкой сквера и зеленым садом притаился дом, составляющий вместе с другими домами единство площади; а меж мертвых, неподвижных стен дома протянулись связующие нити от человека к человеку и неизменные нити речей, источаемых устами и вбираемых ухом, – вздохи, пронизывающие собой всепроникающий вечный эфир, в котором стоит радуга.
– Первые звезды, – произнес А. и указал на окно.
Ласковая твердыня шелковистого блеска в небесах померкла, и они обрели глубину, зеленый цвет сменился матово-сиреневым; небо вздохнуло, ибо близился час его силы, близилась ночь.
– Скоро уж и Хильдегард вернется, – сказала баронесса и встала с кресла. – Пора нам зажигать свет.
Стояла она нетвердо, неся на исхудалых, должно быть, ногах тяжесть старого тела, которое давно когда-то выносило дочку, и рука, прежде когда-то любящая, обхватывала набалдашник палки. Пространство комнаты было темным, лишь три оконных проема светлели, не освещая помещения, и дверь, которая вела туда, где находились спальни, висела на своих петлях закрытая.
И поскольку внешние силы властно вступили в свои права, поскольку с наступлением ночи человеческим связям со всех сторон стала угрожать опасность, то следовало поскорее включить все, что еще оставалось снаружи, в неразрывную связь всего сущего, пока она не порвалась; и А., из боязни, как бы вспышка света не повлекла за собой разрушения, поторопился спросить:
– Вы позволите мне привезти с вокзала мой багаж?
Помедлив секунду, баронесса сказала:
– Сейчас придет Хильдегард… Зажгите, пожалуйста, свет, выключатель возле двери. – Она произнесла эти слова так, словно ей не хотелось, чтобы их застали вдвоем в потемках. – И позвоните уж заодно Церлине.
Он сделал, как ему было сказано; электрическая лампочка, окруженная хрустальными подвесками старинной люстры во вкусе бидермейера, разливала довольно рассеянный свет; углы комнаты, утопавшие во мраке, проступили теперь наравне со всем остальным, что в ней было; комната, лишенная тайны, приобрела суровый вид, и сразу же стало понятно, что в ней царит суровый мужской дух, неблагосклонный ко всяческой таинственности, а осиротелые женщины по-прежнему находятся у него в подчинении. А. даже ощутил на себе испытующий взгляд невидимых, правда, глаз, ибо и баронесса, и Церлина, которая пришла затворять окна, обе, казалось, были поглощены чем-то другим, давно прошедшим. Однако в этот миг прозрачно-тонкой тишины и напряженности послышался звук открываемой входной двери.
– Это Хильдегард, – сказала баронесса.
– Не буду мешать вашей беседе, – сказал А., собираясь уходить.
– Прошу вас, побудьте здесь, – остановила его баронесса. – И позвольте нам лишь ненадолго оставить вас одного.
Баронесса вышла. Церлина задернула занавески и старательно расправила, чтобы они висели красивыми складками. Выражение у нее было такое унылое, словно ей все опостылело. А. старался поймать ее взгляд, но она отводила глаза. Однако же, перед тем как уйти и оставить его в одиночестве, она взяла с письменного стола баронессы газету и подала ему. Потом она зажгла торшер, который освещал устроенный возле печки уголок с креслами, погасила верхний свет, и благодаря ее стараниям А. мог расположиться в кресле с газетой прямо-таки по-хозяйски.
Но читать ему не хотелось. Газета, последнее напоминание о девушке из киоска, была частью внешнего мира, в то время как его пространство сузилось до пределов освещенного круга под лампой. А. сидел в кресле, наклонясь, небрежно свесив между коленей газету в равнодушно опущенной руке. Внутреннее «я», заключенное в склоненной голове, взирало на туловище, раздваивающееся снизу на левую и правую ногу; только оно и было освещено, хотя к самому «я» и не имело никакого отношения, а самое «я», плотно погруженное во тьму своего ночного окружения, – это «я» было одиноко.
На комоде тикали часы. Пускай распадутся все нити между окружающим миром и человеческим «я», однако же сквозь его вневременную сущность все равно протянулась нить времени, и все бесконечное переплетение бесконечного множества нитей, вся эта им же созданная неизбежная сеть служит лишь для того, чтобы затерялась в ней нить времени, дабы в бесконечной шири, в бесконечном величии пространства всякое бытие вновь обратилось в безвременность.
Но вот часы пробили восемь. И тут А. услышал шаги: в их торопливости угадывалось раздражение, а вслед за тем сразу же показалась Хильдегард, и выражение лица у нее действительно было до крайности раздраженное.
– Итак, господин А., вы своего добились, – начала она без обиняков. – Поздравляю вас!
– Окончательное решение зависит от вас, сударыня.
– Не так уж трудно было втереться в доверие к двум старушкам. Попробуй я теперь сказать «нет», так маменька, пожалуй, донельзя разволнуется.
Это она сегодня уже говорила, подумал А.
– Следовательно, мне ничего не остается, как договориться с вами об условиях, – заключила Хильдегард.
– К сожалению, вас не было при нашей беседе, иначе вы по-другому судили бы о моем поведении.
– Я же просила вас отказаться от вашего намерения.
Куда уж тут было спорить против такого возмущения, какое словно нехотя выражалось у нее в этих взглядах, в этом тоне классной дамы, который, впрочем, хорошо согласовывался с ее обычно ровной и несколько угловатой манерой поведения. Случилось так, что столкнулись две судьбы: резкий излом, образовавшийся в естественном ходе вещей, как видно, еще не изгладился. А. думал: отчего же это он не мог поискать себе другое пристанище? Отчего, точно околдованный, не мог уйти с этой площади, отчего был захвачен таким течением событий, которое неумолимо и неуклонно привело его именно сюда? Не ведут ли разные обстоятельства, подобно различным дорогам, к точке пересечения, которая находится там, где расположено его «я»? То самое «я», которое сейчас обретается в световом конусе под лампой? Не в этой ли точке должны теперь проясниться и разрешиться все противоречия? Поэтому он и сказал барышне, которая сидела на границе света и тени в деревянной и угловатой позе:
– Вы не знаете меня и все же исполнены ко мне отвращения. Не все ли равно, кто явился – я или другой постоялец?
– Речь не о ваших качествах… Женщину я бы еще согласилась принять в нашем доме.
– Мне показалось, что госпожа баронесса считает желательным присутствие в доме мужчины, защитника. Простите, что я осмеливаюсь в какой-то мере отнести эти слова к себе и предлагаю свои услуги.
– Нам совершенно не требуется защита, – сурово сказала девушка.
Быть может, то был суровый завет старого барона и женщины должны были блюсти свое одиночество? Быть может, дочь в союзе со старой служанкой хранила этот завет? Тогда излом в естественном ходе вещей становился понятнее, ибо все роковое, неколебимое означает смерть – смерть, которая вмешивается в течение жизни; это безвременность смерти, поставленная на место безвременности, присущей человеческому «я»; это – окаменелость души, архитектоника смерти, блаженство окаменения.
Девушка произнесла медленно, с каким-то каменным упрямством:
– Я должна договориться с вами об условиях.
– Об условиях нам недолго сговориться, – сказал А. – Я только хотел бы заметить, что наверняка гораздо меньше причиню вам неудобств, чем женщина; напротив того: вы можете рассчитывать на мои услуги.
– Должно быть, на эту приманку вы поймали Церлину, – сказала барышня. – Для меня в этом нет ничего заманчивого… Я надеюсь, что вы, как иностранец, согласитесь заплатить приличную цену за жилье и обслуживание.
– В Голландии две такие комнаты стоили бы в месяц гульденов сорок. Я вам предлагаю эту сумму с условием, что буду платить вперед за три месяца голландской валютой, чтобы вам не терпеть убытка вследствие инфляции.
Как правило, материальная сторона еще не решает дела; однако в этом случае сразу же обозначилась по крайней мере надежда на благоприятный исход; словно не веря своим ушам, барышня переспросила:
– Сто двадцать гульденов задатка?
– Да, разумеется, – подтвердил А.
Ее суровое лицо с правильными чертами, прекрасное своей прямолинейностью, в обрамлении темных, цвета красного дерева, волос, озарилось улыбкой и сделалось желанно, потому что и само выражало желание: показались крепенькие, беленькие, очень ровные, кусачие зубки.
– Ради ста пятидесяти гульденов я готова взять назад все мои возражения… Как видите, я продажна.
Что она хочет этим сказать? – спрашивал себя А., однако согласился на сто пятьдесят, принял и все остальные условия. Когда вошла баронесса и тоном веселой уверенности спросила, все ли в порядке, то дочери ничего не оставалось, как только ответить утвердительно.
– Я рада, – сказала баронесса. – А господин А. может с нами и поужинать.
– Господин А. говорил мне, что, если ему вдруг вздумается сидеть в четырех стенах, он хотел бы кушать отдельно, у себя в комнате, – возразила Хильдегард. Так мы и условились.
– Ну и что же! Зато сегодня вы будете нашим гостем, – не уступала ей баронесса и, обратясь к Церлине, которая пришла объявить, что ужин готов, добавила: Поставь прибор для господина А., Церлина!
– Хорошо, – ответила Церлина. – Я и так уж поставила.
Они выслушали ее слова, благовоспитанно не выразив никакого удивления, словно в поведении Церлины не было ничего из ряда вон выходящего, так же как в цветах, заранее приготовленных в комнате, которая предназначалась для А. Однако то, что раньше казалось естественным, сейчас, в присутствии барышни, уже не производило такого же впечатления, пропало ощущение счастливого стечения обстоятельств, ибо все еще не было найдено завершающего разрешения. Зато обнаружилось другое совпадение, к сожалению гораздо более внешнего свойства: сейчас, когда они уселись под лампой с цветастым абажуром и свет, отраженный белой скатертью, резко освещал их лица, когда Церлина, обходя стол, подавала им кушанья рукою, одетой в белую перчатку, – сейчас-то и обнаружилось, что лица всех трех женщин похожи; отчасти сходство объяснялось кровным родством, как это было у баронессы и ее дочери, отчасти же, по крайней мере у Церлины, причиной была долгая совместная жизнь. Три вариации одного и того же лица у разных людей! Конечно, встречаются и всевозможные другие вариации, но здесь было как бы три основных типа, подобно тому как есть три основных цвета, содержащие в себе все остальные оттенки радуги; если баронесса представляла в этом треугольнике законченный материнский тип, то бездетные лица Церлины и Хильдегард были по-странному схожи – в обоих было что-то монашеское; правда, одно из них было лицом деревенской старухи, другое было молодо и утонченно, однако же на обоих – и на старушечьем, и на молодом – лежала печать монашеской вневременности. Занавеси на окнах были плотно закрыты. Неведомо куда сгинули деревья, которые росли на улице, сгинул сад позади, дома. Этот дом погружен в мертвенное одиночество, ты в келье, и тебе неведомо, откуда могла попасть жизнь в этот мир мертвых вещей, и совсем уж невозможно понять, каким образом существа, возникающие из праха и во прах возвращающиеся, существа, которым дано лепить только из праха, созидают не один только прах, но самую жизнь. Однако же, хотя здесь царила замкнутость и отрешенность от внешнего мира, а может быть, как раз поэтому потому что здесь была отрешенность от площади, над которой вздымается небосвод, отрешенность от мира, отрешенность от знания и самой возможности знания, – как раз поэтому часть стала зеркалом целого; это замкнутое пространство, этот воздух, заключенный между его стен, стали частью беспредельного эфира, и многожильная бесконечность стала постижима через конечные человеческие связи, и внешнее сходство трех женщин стало зеркалом, стало надеждой на разрешение, которое можно найти только здесь, а там, на воле, никогда.
Текучий постепенный переход, который связует все темное и земное, материальное и замкнутое с отверстым светом небес и в то же время увлекает тебя во тьму беспредельности, – вот что такое воздух, омывающий все сущее, омывающий эфироподобно конгломерат вещей. Взоры сидящего за столом А. устремились по этому пространству, полному темного воздуха, пытаясь распознать предметы за гранью светового круга. Воздух набегает на стены, набегает на вещи. В этом пространстве двигалась Церлина, она вступала в освещенный круг и снова как тень ускользала из него во мрак, туда, где стоял широкий сервант с приготовленными кушаньями. Внутренность шкафов налита текучим воздухом, но воздух плещется и вокруг человека, находится у него внутри, заполняет все пустоты человеческого тела, воздух вдыхается и выдыхается, переплескивается от человека к человеку. Промежуточная среда между живыми созданиями, несущая в себе душу, оберегающая и скрывающая то, в чем оправдание и жизнь, вся пронизана светом и прозрачными токами взоров. Там, посередине стены, над сервантом, висела картина, портрет, и лишь сейчас А. разглядел, что на ней изображен некий господин в судейской мантии.
Хильдегард, которая пристально и неблагожелательно наблюдала за непрошеным гостем, обратилась к нему:
– Вам кажется странно, что у нас висит портрет в столовой. На нем изображен мой отец.
– Мы поместили его здесь, чтобы он принимал участие в наших трапезах, – пояснила баронесса.
Церлина, которая внимательно прислушивалась к разговору, молча включила настенные светильники, расположенные справа и слева от картины; почтительно разглядывая черты покойного хозяина, она, верно, смутно догадывалась, что во все время своей земной жизни этот человек причинял ей одно только беспокойство. Ибо при всей почтительности на лице ее написано было удовлетворение, и она явно ожидала себе похвал. У человека же, находившегося в нарисованном воздухе картины, были те же глаза, что у его дочери, пристальным и неблагожелательным взглядом он наблюдал за трапезничающим обществом.
Вот и Хильдегард подняла взгляд на картину; словно две сходящиеся дороги, ее взгляд и взгляд Церлины устремились к глазам отца и там скрестились, тогда как баронесса, которая, уж верно, всех ближе была глядящему на них сверху мужчине, как-то даже виновато потупилась в свою тарелку. А., знакомый с судейскими порядками и по бархатным полоскам на мантии распознавший чин изображенного на портрете судьи, сказал:
– Господин барон был председателем суда.
– Да, подтвердила баронесса.
Подобно воину, который всегда должен быть готов к войне, к тому, чтобы убивать или самому быть убитым, подобно генералу, который всегда готов к тому, чтобы послать людей в бой, судья тоже должен быть готов при необходимости вынести смертный приговор, и все обыденные наказания, которые он назначает преступнику, для самого судьи всегда подготовка, некое приближение, зеркальный отблеск и подмена того высшего карающего деяния, которое представляет собой страшную кульминацию в жизни судьи. В четырех стенах судебного зала судья еще дышит одним воздухом с преступником, они оба еще погружены в один и тот же воздух, но судья уже должен быть готов к тому, чтобы исторгнуть оттуда преступника и отнять у него душу.
Тем самым ртом, который приникал к суровым устам судьи, тем ртом, который впивал когда-то дыхание судьи, тем самым ртом, которым она и поныне превращает в членораздельную речь свое дыхание, баронесса кушала сейчас мелко нарезанные кусочки телятины. И этим же ртом она произнесла:
– Церлина, ты можешь выключить лампочки!
– Разве комната не стала от них уютнее? – возразила Хильдегард, и Церлина, не выключив света, поспешила убраться на кухню, не дожидаясь, что скажет баронесса. Почему обе женщины так поступали? Несомненно, Церлина была согласна с барышней в том, что картина должна оставаться освещенной; быть может, в этом скрывалась подсказка для пришельца, что ему, дескать, следует подчиниться законам этого дома.
Баронесса сказала:
– Хорошо, пускай сегодня остается праздничное освещение в честь нашего гостя.
– Судья… – промолвил А. – Великая профессия.
– Да, – подхватила Хильдегард. – Он, как священнослужитель, стоит выше остального человечества. Судьям, наверно, не следовало бы жениться.
Баронесса улыбнулась:
– Судьи должны быть человечны.
Хильдегард смотрела на портрет, губы ее были плотно сжаты.
– Священнослужители тоже должны быть человечными, но их человечность иная она чище… И суровее.
– Мой муж часто страдал из-за суровости, когда вынужден был ее применить. По счастью, ему ни разу не пришлось вынести смертного приговора.
На лице девушки была написана готовность незамедлительно исправить за него это упущение. Но тут вошла Церлина с десертом и в виде компромиссного решения исполнила с некоторым запозданием распоряжение баронессы, выключив свет по бокам картины.
– Вот и кончилось праздничное освещение, – сказал А.
– Нужно мириться с ходом вещей, – сказала со смешком баронесса. – Он сильней человеческой воли.
Однако, когда лампочки потухли, оказалось, что гаси не гаси, а все остается по-прежнему. Более того, портрет на потемневшей стене словно бы даже вырос после того, как нарисованный на картине воздух слился с воздухом, находившимся в помещении, и, очутившись в общей со всеми воздушной среде, председатель суда уже и пространственна присоединился к женскому треугольнику, сделавшись как бы его средоточием, хотя сам принадлежал прошлому и висел на стенке. Ибо в отношениях одного «я» к другому царит вневременность, а пространство и бесконечно уменьшается, и бесконечно увеличивается в одно и то же время.
Хильдегард сидела в застывшей позе и кушала персик. Ротик у нее был маленький, нецелованный, ее дыхание никого пока не осчастливило. В какой момент человеческий рот теряет этот дар способность осчастливить другого? Когда он опускается до простого орудия ядения, облагороженного все ж таки даром речи, который сохраняется у него вплоть до полного одряхления?
А баронесса взяла вдруг палку, прислоненную к ее стулу, и встала, может быть, для того, чтобы вырваться из необоримого и слишком тугого круга человеческих связей. Тем не менее она все же протянула руку гостю, как бы взамен тоста (вероятно, держать в доме вино стало для них недоступно, а может быть, председатель суда не признавал вина); при этом она сказала:
– Еще раз – добро пожаловать к нам, господин А.
Рядом стояла Церлина и улыбалась одобрительно; баронесса словно бы взяла на себя ее роль и выполнила ее поручение, особенно усилилось это впечатление, когда она обернулась к своей дочери и как бы из чувства справедливости и в утешение девушке или для того, чтобы одинаковым обращением с обоими установить между Хильдегард и А. мир и согласие, взяла и поцеловала свою дочь в лобик. Церлина тоже приняла участие в этой церемонии она широко распахнула дверь в залу и зажгла в ней свет.
Началась свободная циркуляция воздушных масс по комнатам; при этом внезапном нарушении их устойчивого равновесия не только уменьшилась весомость нарисованного воздушного пространства на портрете Судьи, не только поубавился вес и поколебалось главенствующее положение его особы, но вместе с этим как бы несколько разрешилась натянутость и появилась некоторая лабильность в человеческих отношениях, а кроме того, едва успокоилось движение воздуха, как вся ненависть и вся любовь, связующие трех женщин, лишившись своего зримого средоточия и первоосновы, совершенно явственно сникли до неприметной обыденности; все погрузилось в обыденность, и не было больше праздничного освещения, хотя в зале и было светло от электричества и свет так блестел, отражаясь от зеркальной поверхности застекленных картин, что многие из архитектурных пейзажей стали неразличимы. А. с удовольствием бы закурил, но ему не предложили. Неужто и курение было под запретом у председателя суда? Все трое как бы в нерешительности остановились посреди комнаты, ощущая уже только отдаленное присутствие председателя суда, изображенного на портрете. В сложившейся обстановке для А. совершенно естественно было спросить:








