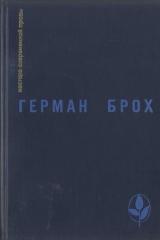
Текст книги "Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия)"
Автор книги: Герман Брох
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 49 страниц)
Плотий замотал своей большой, крупной головой.
– Ничего нельзя исключать… Но уж на такой случай подумай вот о чем, Вергилий: мы всего лишь два старых хрыча, и не верней ли было бы взять в попечители кого-нибудь помоложе…
– Перво-наперво я назначаю вас… так мне будет спокойнее, и я хочу отдать все распоряжения на этот случай.
– Хорошо, раз так, не будем больше спорить. – Луций согласился очень охотно.
– Вы тем более должны взять на себя эту задачу, что я завещаю вам рукопись, о нет, не подумайте, что в оплату за ваши хлопоты, нет, мне отрадна мысль, что она будет в ваших руках…
Действие этих слов было несколько неожиданным: после короткого ошеломленного молчания послышалось густое сопение, оно исходило из груди Плотия, и похоже было, что он опять собирается заплакать, в то время как Луций, принявший денежный легат хоть и с благодарностью, но все-таки сдержанно – по крайней мере он остался сидеть на месте, – тут вдруг вскочил со стула, энергично жестикулируя:
– Рукопись Вергилия, рукопись Вергилия!.. Да отдаешь ли ты сам себе отчет, сколь бесценен такой подарок?!
– Подарок, отягощенный обязательствами, – это не подарок.
– О боги, н-да… – Плотий вздохнул, но успел тем временем настолько совладать с собой, что мог говорить спокойно. – Н-да… Но все-таки тут надо здраво поразмыслить… Учти, ты передал рукопись Августу – не можешь же ты забрать ее назад…
– В честь Цезаря была сочинена «Энеида»… Стало быть, ему полагается первый, безупречно изготовленный список – таков обычай, и так я распоряжусь, и именно поэтому он ничего не будет иметь против того, чтобы отдать вам оригинал…
Это как будто убедило Плотия, он кивнул; но у него было и другое сомнение:
– А потом вот еще что, Вергилий… Видишь ли… я человек простой, не поэт… Главные хлопоты по изданию падут, стало быть, на Луция, и по справедливости он и должен быть единственным владельцем рукописи.
– Верно, – сказал Луций.
– Верно-то верно, но что делать, если вы для меня во всем неразделимы… Так уж я привык… А кроме того, вы должны будете составить обоюдное завещательное распоряжение касательно поэмы и всех связанных с нею обязанностей, так что, если один переживет другого, этот другой продолжит все хлопоты…
– Разумно, – заметил Луций.
– А как быть, если мы оба умрем? Рано или поздно это случится…
– То уж ваша забота, а не моя… Но вы можете оставить наследниками Цебета или Алексиса – одного как поэта, другого как грамматика… Оба молоды…
Снова послышалось сопение Плотия, оно шло из самой глубины груди.
– О Вергилий, ты щедро нас одариваешь, но твои подарки надрывают душу…
– Она у тебя еще больше надорвется, мой Плотий, если ты встрянешь в эту работу, ведь тут надо въедливо проверять каждый стих, каждое слово, даже каждую букву… Это занятие не для тебя, да и я сам, пожалуй, только рад, что богам угодно было избавить меня от такой работы и взвалить ее на Луция…
– Не кощунствуй…
– Да, Луцию придется нелегко, и потому я в своем завещании попрошу Цезаря, чтобы труд его был должным образом вознагражден.
Луций запротестовал:
– Вергилий, это не тот труд, чтобы заводить речь об оплате; напротив, я мог бы назвать тебе многих и многих людей, которые были бы настолько счастливы взять его на себя, что заплатили бы за это любую сумму… Да ты и сам это прекрасно знаешь.
– Нет, не знаю. Ведь ты поэт, Луций, а для поэта, да еще такого, который смог бы очень многое, если не все вообще, сделать лучше и который потому очень многое сочтет нуждающимся в улучшении, со многим не согласится, – для такого поэта ограничиться простой правкой текста – это тяжкая, даже жестокая обязанность…
– Ну, я бы даже и в мыслях не отважился улучшить хоть одну строчку Вергилия… Ни единого слова не должно быть добавлено, ни единого вычеркнуто. Мне ясно, что лишь такова твоя воля и лишь так ее можно соблюсти.
– Истинно так, мой Луций.
– Для подобной работы нужны способности не поэта, а опытного грамматика, и тут я льщу себя надеждой, что, помимо меня, таковых не много найдется. Но постой, Вергилий, – а что же делать с теми стихами, которые мы с тобой назвали заплатками?
– Заплатки! Да, ведь остались еще те лишь временно вставленные стихи, которые позже он собирался заменить на окончательные, ах, их уже не заменишь! Думать об этом было тяжело, и речь снова затруднилась.
– Пускай стоят как стояли, Луций.
Луцию это, похоже, не понравилось; видно было, что он обиделся и за себя, и за «Энеиду» и его гордость поручением была несколько омрачена.
– Ну что ж, Вергилий… Собственно говоря, сейчас и не время это решать; рано или поздно ты их заменишь.
– Я?
– А кто же еще? Конечно, ты…
– Уже никогда… – Это произнес, пожалуй, голос раба, а не его собственный.
– Никогда? – вскипел Плотий. – Ты просто нас стращаешь этими речами? Или ты и впрямь жаждешь навлечь на себя гнев богов…
– Боги…
– Вот именно, боги! Они не потерпят этих бесконечных кощунств!.. И Плотий, согнув руки, как гребец, потряс волосатыми кулаками.
Богам не угодно было, чтоб он доделал стихи, не угодно было, чтоб устранил в них несогласия, ибо всякое дело рук человеческих возникает из дремотности и слепоты, из несогласия рождается и в несогласии пребывает – такова воля богов. И все же он знал теперь: не проклятие только, но и благодать заключена в этом несогласии, не одна ничтожность человека, но и его богоподобие, не одна скудость человеческой души, но и ее величие, не одна слепота слепотою порожденного творения человеческого, но и его провидческая мощь, без слепой зоркости коей оно и не было бы создано вовсе, потому что оно – и ростки этого дремлют в каждом творении, – далеко выходя за пределы себя самого и своего создателя, превращает создателя в творца, ибо вселенское несогласие бытия начинается лишь тогда, когда человек дерзает действовать во вселенских пределах ведь нет несогласия ни в бытии бога, ни в бытии зверя, – и лишь в несогласии раскрывается плодоносное великолепие человеческого удела, состоящего в превышении себя самого: меж немотою зверя и немотою бога стоит человеческое слово, стоит в ожидании того мига, когда в исступлении само оно смолкнет, осиянное оком, чья слепота обрела исступленную зоркость; о исступленная слепота, о торжество над тщетою!
– Боги, Плотий!.. Я познал их милость и гнев, доброту и жестокосердье… и за все я им благодарен…
– Да, а как же иначе… Это понятно…
– За все я им благодарен… Богатой была жизнь… И за «Энеиду» я благодарен, и даже за все несогласия в ней… Пускай она остается такой как есть… со всеми несогласиями… Но именно поэтому… завещание, Плотий… именно поэтому в нем надо навести порядок… Это будет и во славу богов…
– Что толку спорить с крестьянином… Ты, стало быть, никак не хочешь отложить?
– Надо это сделать, Плотий… Луций… ты все запишешь, как я сказал?
– Ну, это проще простого, мой Вергилий… Конечно, по закону-то тебе надо было бы все свои желания продиктовать; я только отказываюсь записывать что бы то ни было, касающееся оплаты за издательские хлопоты…
– Хорошо, Луций, будь по-твоему. Ты сам потом с Цезарем все уладишь….
– Ну что, будешь диктовать?
– Диктовать… Да, я буду диктовать.
Посильна ли для него еще эта задача?
– Я буду диктовать… Но прежде… дайте еще глоток воды… А то опять скрутит кашель… Луций… ставь пока дату… сегодняшний день…
Плотий протянул ему кубок.
– Пей, Вергилий… И щади свой голос, говори тише…
Вода остудила горло приятной прохладой. А когда кубок был допит до дна, удалось и глубоко вдохнуть, и голос стал снова послушен воле:
– Ты поставил дату, Луций?
– Конечно… Писано в Брундизии, девятого дня до октябрьских календ, семьсот тридцать седьмого года по основании города Рима… так, Вергилий?
– Все так… Именно в этот день…
Снова слышится плеск воды, плеск струи стенного фонтана, журчанье в лиственной сени, плеск волны, неудержимой волны потока, только вдруг настолько расширившегося, что уже не добраться до того берега, даже не разглядеть его. Однако и не надо вовсе тянуться туда, ведь уже здесь, на этом берегу, здесь, на одеяле, прямо под рукой, забрезжило золотистое сияние: побег лавра! Положенный сюда Августом, богами, судьбою, самим Юпитером! Золотом мерцают листы…
– Я готов, Вергилий…
И голос снова послушен воле:
– Я, Публий Вергилий Марон, сегодня, на пятьдесят первом году жизни, находясь в совершенном… нет, постой… не пиши «в совершенном», напиши «в совершенно достаточном»… значит, так: находясь в совершенно достаточном телесном и душевном здравии, считаю необходимым дополнить свои прежние завещательные распоряжения, хранящиеся в архиве Гая Юлия Цезаря Октавиана Августа, нижеследующим… Ты все записал Луций?
– Разумеется…
И голос был снова послушен воле:
– Поскольку, повинуясь желанию Августа, коего милостями я был щедро взыскан, я не смог, к сожалению… – нет, вычеркни «к сожалению», а если еще не успел записать, тем лучше… – значит, так: поскольку, повинуясь желанию Августа, коего милостями я был щедро взыскан, я не смог уничтожить свои стихи, я завещаю, во-первых, считать «Энеиду» дарственным посвящением Августу, а во-вторых, передаю все мои рукописи в совместное владение моим друзьям Плотию Тукке и Луцию Варию Руфу, в случае же кончины одного из них – в единоличное владение оставшемуся. Я поручаю обоим моим вышеозначенным друзьям тщательную опись моего поэтического наследия, переходящего в их владение, с тем чтобы только тщательнейшим образом проверенные тексты считать подлинными, особливо же чтобы в них не предпринято было никаких сокращений или добавлений, и со всех этих единственно подлинных текстов должны быть изготовлены списки для книготорговцев, буде возникнет в них надобность. В любом случае надлежит незамедлительно вручить точный и чистый список Цезарю Августу. Все это я поручаю самому тщательному попечению Плотия Тукки и Луция Вария Руфа… Ты все записал, Луций?
– Разумеется, мой Вергилий… И все будет наиточнейшим образом выполнено, если и впрямь однажды наступит такая пора.
И все еще голос был послушен воле:
– Соизволением Августа я уполномочен отпустить на волю моих рабов; это распоряжение вступает в силу сразу после моей кончины, и за каждый год, проведенный у меня в услужении, каждый из рабов должен получить по сто сестерциев. Я завещаю также незамедлительно раздать сумму в двадцать тысяч… нет, поправь: в тридцать тысяч сестерциев, – на пропитание бедным Брундизия. Все другие денежные распоряжения сделаны в вышеозначенном первом завещании; оно тем самым полностью остается в силе, только соответственно уменьшается общая сумма наследства за счет названных здесь новых легатов, и я надеюсь, что это не будет поставлено мне в упрек моими главными наследниками, а именно Цезарем Августом, моим братом Прокулом, а также, помимо Плотия Тукки и Луция Вария Руфа, Гаем Цильнием Меценатом… Ну вот, наверно, и все… Этого довольно… Ведь этого довольно, правда?
Голос уже не был послушен воле. Последние слова приходилось извлекать из неимоверной, мучительной пустоты, и теперь одна она и осталась, неоглядная пустота изнеможения, беспредельная, необозримая в своих далях и закоулках, страшно-бесстрашная, беспамятная пустота, лишь полная странно-мучительной трезвости беспамятства, пустота, в просторах которой со свистом гулял озноб. Но еще и незримо мелькало во всем этом что-то недосказанное, что-то такое, что непременно должно было быть высказано, что было со всем предшествующим связано и в то же время не связано, так что надо было его найти, иначе всего совершившегося было не довольно. Оно было не менее важно, чем стихи, поначалу предназначавшиеся к уничтожению и теперь его избежавшие.
– Где… где сундук?!
Плотий с тоскою поднял глаза.
– Вергилий… Он у Августа, в надежных руках… Не тревожься…
А Луций придвинулся ближе с документом – за подписью, хоть еще и не было довольно. Или недоставало только подписи? Это ее надо было найти?
– Давай…
Подпись поставлена, но текста не разобрать; о, еще не довольно, не довольно – буквы так и пляшут.
– Надо еще добавить, Луций… добавить… песни не должны быть порваны…
– Я слушаю, Вергилий.
И Луций снова изготовился писать под диктовку.
– Песни… не должны быть порваны… и… и чтобы ни слова не было добавлено или опущено… Я запрещаю…
– Но ведь это ты уже говорил…
– Ты запиши… запиши…
Совсем один, из последних сил; ничего уже не вырвешь у пустоты: ни звука, ни воспоминания, ни даже тусклого плеска воды. Только пальцы ведут самоуправную жизнь: они блуждают по одеялу, сцепляются, разжимаются, чтобы сцепиться вновь. Песни не должны быть порваны, и ничто, ничто не должно быть порвано; это очень важно, но не в этом суть, она в том, что еще сокрыто, прячется во тьме. О, даже пустота не должна быть порвана, пока она не выдаст то, что таит в себе, – вот пальцы это знают, не зря они все ищут, блуждая в пустоте; они сжимают пустоту, дабы выдала она сокровенное, они стискиваются все отчаянней…
И тогда оно свершилось: меж стиснутых пальцев, глубоко-глубоко в пустоте, едва зримо, будто пробившись сквозь все уплывающие туманы небосвода, забрезжил робкий свет, слабый, как вздох угасающей звезды, но и перенесшийся в ту же секунду на уста и оживший вольным выдохом, обетованным и обретенным:
– Кольцо отдайте Лисанию.
– Твой перстень?
Земному отныне довлело; и было светло, и звучало неслышно и легко:
– Истинно так… Лисанию…
– Да нет такого вообще, – что-то пробормотало в ответ, и, возможно, то был Плотий.
– Ребенку…
ЭФИР – СНОВА НА РОДИНЕ
© Перевод А. Карельский
Что-то там еще бормотало? Неужели все еще Плотий с его добродушным ворчанием – таким надежным, таким живительным и добрым? О Плотий, о, пусть длится оно, пусть длится это бормотание, такое спокойное, такое успокаивающее, немолчный родник из бездонных глубин души и мира, – о, теперь, когда труд завершен, теперь, когда совершенного довольно, когда уже ни к чему не надо приуготовляться, – о, пусть длится оно вечно! И оно длилось, немолчное бормотанье, беспрестанный, мягко накатывавшийся и откатывавшийся рокот, волна за волной, неприметно мала была каждая волна, но все вместе они разбегались неоглядными, неохватными кругами; оно просто было вокруг, не надо было даже прислушиваться, не надо напрягаться, чтобы удержать его, да и не хотело оно быть удержанным, это беспрестанное бормотанье, оно устремлялось дальше, вливалось в журчание вод, в журчание фонтанов, сливалось с ними в единый бесцветно-могучий колыбельный поток, само став потоком, само став покоем, тихо ластясь к бортам и днищу ладьи, тихо пенясь и ускользая. К неведомой цели нес поток, в неведомой гавани брал начало; не отталкивалась ладья ни от какого мола, плыла из бесконечности в бесконечность, но строго и неуклонно держала курс, ведома твердой рукой, и, коли б дозволено было оглянуться, стал бы, наверное, виден рулевой на корме, подмога заблудшему, лоцман, знающий гавань, из коей они отчалили. Но подмогой и другом остался также и Плотий, ибо он, униженный и вознесенный, взял на себя, как последний холоп, тяжкую службу у весел, и умолкло его бормотанье, умолкло, перепорученное вселенной, и почти неслышным стало его натужное дыхание, растворившись в безнатужной, безболезненной легкости гребли; так греб он молча, согнувши руки, и вел ладью по бесцветной, безмолвно бормочущей водной глади – вовсе не так резко, как можно было бы от него ожидать, нет, весла едва поднимались и едва опускались, мягко врезаясь во влагу; на носу впереди сидел – а может, стоял – Лисаний, отрок, призванный сопровождать плаванье пеньем; Плотий же, повинуясь, как всякий смертный, запрету оглядываться назад, лишенный права видеть и отрока и цель, об отроке и не заботился, назад не оглядывался, неотрывно глядел он прямо перед собой, глядел поверх пассажира на рулевого, чьим распоряжениям он подчинялся, и поверх рулевого на бесконечность былого, из которой они плыли. Все дальше и дальше отступали берега, и то, что вершилось в их дали, было как беспечальное прощание с человеческим бытием и жильем, прощание из преображенной незыблемости, прощание с многоликостью будней, с привычными образами и лицами – но и со склепом, тающим в сером тумане, и с прилежно пишущим Луцием (этот, правда, придвинулся со своим столом так близко к краю реальности, что устрашающе неминуемым казалось его падение в бездну со скалистого обрыва), – о, это было прощание со многими, еще там бродившими и время от времени, подобно Горацию и Проперцию, приветно ему махавшими: привычные, родные образы, тихо и беспечально отодвигавшиеся, хоть еще и готовые сопровождать его, – а воды, по которым скользила ладья, запестрели бесчисленными судами, и хоть совсем мало было средь них таких, что плыли в противоположном направлении, возвращаясь на якорь в гавань, в забвенную, зато несметное множество было тех, что из нее были посланы, флотилия за флотилией, такое множество, что безбрежному морю пришлось расшириться до двойной безбрежности, дабы дать им всем место, и была эта безбрежность столь неоглядна, что просто исчезла граница между стихиями водной и воздушной, и корабли будто плыли в потоках не воды, а света, и это усеянное кораблями море, эта вереница кораблей, устремлявшихся к неисповедимой общей цели, сама уже будто и была целью; словно стада были эти корабли, и невидимым облаком окутывал их ласковый рокот волн; каких только судов не было тут – корабли торговые и военные, и меж них вся в золоте, с пурпурными парусами, царственно-роскошная галера Августа, множество рыбачьих лодок и других прибрежных суденышек, а всего неисчислимее были крохотные барки, они возникали то тут, то там, будто рождаясь из зыби морской; так плыли все эти суда в бесконечную даль, странным образом на одной скорости, независимо от того, приводились ли они в движение единственной парой весел, как крохотные барки, или многоярусной массою их, как корабль Августа, – не плыли, а летели над волнами, будто были они все невесомы, будто и не надо им было касаться водной глади, будто просто реяли они над ней, и туго натянуты были их паруса, как под напором незримых бурь, налетавших из безвоздушной пустоты, ибо кругом царил полный штиль, и ласковый рокот волн доносился из Ниоткуда. Море вздымалось и опадало плавными, плоскими, равниноподобными волнами, и в этой сумеречно-серой, свинцовой, но и мягкой как пух колыбели расплывалось и таяло бормотанье, неслышно таяло под дремотными чарами этой силы, что легко и воздушно несла по зеркальной глади вереницу судов; перламутровой, но, увы, и тусклой раковиной раскрывалось над морем небо, а Плотий все греб и греб, и позади остались звуки жизни, зовы с дальних прибрежий, потонувших в тумане, позади, в недосягаемости, осталось пение гор, навек замирающий свирельный напев, осталось даже эхо напева, прозвучавшее в собственной груди, неизведанной радостью канули в небытие все услады слуха, ускользающий лепет, бормотание всебылого, и, златотканой полоской вплетенная в небо, неспетой осталась мальчишечья песнь. Словно слишком еще громким было безмолвие, наступила новая, вторая, высшая тишина, тишина, надо всем вознесенная, колыхавшаяся плавной, плоской, равниноподобной волной, зеркалом нависавшая над зеркалом вод; но и зеркало вод уже обрело новый облик, преобразилось в некую неслышную текучую стихию, в которой убегавшие корабли уже не оставляли пенных борозд, и сама она будто уже не состояла из капель, ибо ни единой капли не осталось на сложенных веслах, ни единой не стекало с них, и в преображении этом слились воедино и зеркало и отраженье, тишина и эхо тишины, слились в нечто промежуточно-невесомое, что вершилось и слышалось одновременно, в новой мерности ритма, так что все зримое, слышимое, осязаемое, хоть и осталось оно позади в незримости, неслышимости, неосязаемости давно покинутой, навек потерянной бесконечности, но пребывало невредимым, и хоть кануло оно назад в безымянность, но и не утратило ни своего имени, ни своей сути, – все осталось позади, но и оставалось здесь, ибо, оставшись позади как превзойденное, оно в силу этой же превзойденности и оставалось днесь и вовек, преображенное ею в вечное присутствие, и ничто не исключалось из этой вечносущности, ибо превзойдена была тут сама вселенная во всей полноте и пестроте ее вещественности и человечности: превзойдены и оставлены позади были эти сонмы кораблей, этот приветственный эскорт, выполнивший свой долг, они отставали один за другим, но не как проигравшие состязание, не как побежденные в гонках, а будто добровольно, все происходило как бы само собой, причем на той же скорости: ни они не замедляли движения, ни его ладья не ускоряла хода, и даже если Плотий, прилежный гребец, вложил тут свою лепту, он сейчас отдыхал, спокойно было его дыхание, покоились в уключинах весла, орудья его труда, устало поник он на своем сиденье, вкушая покой, ибо для всех них, попутчиков и пилигримов, уже не было надобности в земных орудьях труда, и вот уже весла, вынутые ли из потока или все еще волочившиеся по волнам, совсем исчезли, то начинался распад, и лодка за лодкой, корабль за кораблем, в том числе и Августова галера, изымались из сущего и погружались в забвение – в оставшуюся позади бесконечность; и Август, стоявший с коротким бичом в руке под пурпурным балдахином своего красавца корабля, выронил теперь этот бич, уразумев тщету всех дальнейших попыток понукать гребцов да и вообще продолжать плавание, власть его выскользнула у него из рук, равно как и его имя, как и все имена, которые носил он дотоле и которые он теперь, вплоть до имени «Октавиан», принужден был отринуть; но сам он еще не ускользал в небытие, и в мимолетном взоре, который успел он напоследок послать, в этом прощанье пред вечной разлукой, в этой усталой прощальной улыбке постаревшего красивого лица сохранялся и отблеск вечного бытия, преображенного, не утраченного в утратах, и, хотя вслед за тем он мгновенно – о, как мгновенно! – канул в бездну, недоступную зову, канул весь – и забвенно-тихое лицо, и забвенно-тихий облик земной, и забвенно-тихое имя земное, – все же в новой и высшей тишине, надо всем вознесенный, стал он доступен новому зову и обрел новую зримость. Ибо свершившееся здесь преображение вело извне вовнутрь, было слиянием внешнего облика с внутренним ликом, было той издревле желанной, вечно несбыточной и вот, однако, свершившейся переменой: в одно мгновение, столь же внезапно, как произошло это падение в бесконечность, тот человек, что прежде звался Августом, стал зрим изнутри, зрим внутренним оком, каким наделяется иной сновидец, когда, забыв земную свою ничтожность, просветленный грезящим сном, вдруг познает он себя в символе себя самого, когда открывается ему в последнем сне последняя, неделимая, кристально ясная суть его свойств, открывается как чистая форма, как кристально ясная игра линий, как простое нагое число; над самим собою воспарил этот внутренний взор, охватив заодно и того, кто таял вдали, навек исчезавшего друга, – о, вовек не исчезнет, не будет утрачен тот, кто зрим изнутри в последней своей цельности и наготе… О пресуществление конца в начало, о возвращение символа к изначальному образу, о дружба! И хоть мало что было сейчас роднее, чем лик того, кого дозволялось по дружбе звать Октавианом, все же близкими были и те, другие, что плыли рядом в эфирных челнах и отставали один за другим, чьи лица отступали в вечность, не исчезая; и кто бы ни плыл тут рядом, лишь на мгновение зримый и в то же мгновенье забвенный, как бы ни звался он прежде или теперь – а в самом деле, кто они? неужто вон тот и впрямь Тибулл, печальный любовник Альбий Тибулл, увядший до срока? не Лукреций ли вон тот исполин в могучей броне безумия? а вон там не сам ли Саллюстий в его несокрушимой мужественности, в непоколебленной зрелости его пятидесяти лет, Саллюстий, дававший имя всему и теперь сложивший свое имя? а вон тот уж не достопочтенный ли Марк Теренций Варрон, сухонький, согбенный летами, но сохранивший всю силу и мягкость насмешливой мудрой улыбки на тускнеющем, тающем старческом лице? – о, кто б ни были все они, друзья, собравшиеся на прощанье, беспечальная свита подмоги и утешенья, все они, эти лики, бородатые и безбородые, юные и древние, мужские и женские, таявшие быстрее иль медленней, готовые без остатка, до последнего остатка безымянно кануть в бездну забвения, недоступную зову, все они претерпели окончательное преображение, их несказанно человеческий лик стал несказанно ясным выраженьем их сути, отрешенным от всякой земной заботы, глубоко истинным в своей беспредельной, безымянной самости, и не нуждались они больше ни в земном посредничестве, ни в земном именовании, ибо все они были зримы изнутри, увидены и распознаны изнутри, и такими вошли они во взор друга и со взором друга – в таинство его самопознания, что рождается в глубочайших глубинах его Я, в самых безднах его самости, по ту сторону всякой чувственности и, родившись, зрит уже не человека во плоти, не чувственный символ, а кристально ясный праобраз, кристально ясное единство сущностных черт, – и так несмутимо-чист был этот праобраз, так беспамятен и потому так врезан в память, что все образы друзей перенеслись в новое, невесомо-парящее пространство воспоминания, на новую, призрачно-зыбкую ступень постижимости, и тени их излучали свет, и полна немого звучанья была вкруг них тишина. Они вошли в новую вечность – взошли на второй круг.
Тишина внутри тишины во все стороны открыта граница, но, сколько б ни было всего оставлено позади, в невозвратимом, ничто не могло бесследно пропасть в покое всеохватного круга; о, хоть многое и осталось позади, это не означало ни оскудения, ни осиротелости, это было даже почти обогащение, ибо все забытое здесь сохранялось. Пространство беспамятности все больше вбирало в себя пространство воспоминаний и в то же время в нем пребывало, оба они все прочнее сливались в единое, второе пространство памяти, заключенное внутри первого, в пространство высшей зоркости памяти, высшей ее бесконечности, и в слиянии этом столь явственно удвоилось бытие, что такое же новое единство образовали и свинцово-мягкая тишина вод, и та тишина, что распростерлась над ней золотисто-мягким ее отраженьем, – воспоминание внутри воспоминания, та тишина слиянности, что охватывает певца, прежде чем он коснется струн, и в такой тишине, когда еще не тронута лира, когда ждущие еще не томятся ожиданьем, в новую цельность слились и пенье и слух, и поющий и внемлющий, ибо грянула вдруг могучая немота музыки сфер, рожденная из немоты, но также рожденная и в слиянности пенья и слуха, звучащая в тишине, но также звучащая и в этой слиянности, слитное двуединство того и другого, слившееся в одно с тишиной, с ожиданием, с лирой, слияние силой напева, – и вошло все сущее в единое лоно, в бытие сфер; и в двуединстве этом не было уже никакого разделения – на ожидающего и ожидаемое, на внемлющего и внемлемое, на дышащего и дыхание, на жаждущего и питье, все прежде раздельное слилось в единое длящееся действо, в само ожидание, в само вслушивание, в само дыхание, в саму жажду, и бесконечный поток, вовлеченный в эту слиянность, сам и был ожиданием, вслушиванием, дыханием, жаждой, становился всем этим все больше и больше, все пронзительней и настоятельней, все неотразимей, становился заветом, становился провозвестьем, и это в полной мере относилось и к Плотию, ибо он, будто прозрев исчезновение всякой длительности, прозрев единство начала и конца, но также и то раздвоенье, коему подчинено всякое единство и коему, стало быть, подчинен был он сам, отрешился от единства своего бытия и, хоть всего лишь на краткий миг, раздвоился тоже, ибо в одном своем облике он сидел, отдыхая спокойно, на скамье гребца, в другом же поднялся с нее, и приблизился шаткой моряцкой походкой, и еще раз поднес, о, в последний раз поднес кубок, дабы жаждущий – о, все еще жаждущий?! – еще раз отпил из него; и стоило только отпить, как, гляди-ка, то, что пил он, была уж не влага, то, что утолял он, была уж не жажда, нет, то было причастие, причащение цельности двузеркально преломленного бытия, то была вовлеченность в бесконечное течение вод, то была проникнутость душою незримости, но вместе с тем и незнаемое знание у той точки, где смыкается круг, замыкается кольцо познания вкруг пустоты, замыкается двунаправленная беспредельность, в которой грядущее переходит в прошлое, прошлое в грядущее, – о удвоение внутри удвоения, о отражение в отражении, о незримость в незримости, – и уже не было надобности ни в посреднике, ни в сосуде, не нужен был кубок, объемлющий жидкость, не нужна рука, протягивающая кубок, едва ли нужны уста, впивающие влагу, – не было во всем этом нужды, ибо всякое действие, будь то утоление жажды или еще что и даже сама жизнь, вдруг утратило свою напряженность и обрело свободу силою некоего высшего сцепления, упразднявшего все несогласия и не терпевшего никакого раздела; и, гляди-ка, слоновая кость кубка превратилась в добротный бурого цвета рог, чтоб испариться затем легким бурым облаком, и вместе с кубком исчезло все былое, исчезло не как пригрезившийся фантом, а как явью ставшая греза, коей даровано вечное пребывание в нетщетности, – и потому-то исчез теперь и сам Плотий, потому-то он, тоже растворившись во всеохватном удвоении, ушел тем же путем, что и другие спутники, канул вместе с ними без остатка, до последнего остатка имени канул в вечность, в беспамятность и все же остался в воспоминании, неколебим и надежен, каким был он всегда, – надежный, испытанный друг. Так вот и вершилось все, пока бежала по губам и гортани жидкость без влаги, влага без вкуса, не смачивая ни губ, ни языка, ни гортани, так вершилось прощание с Плотием, вершилось в милосердии его дружеской близости; и, осиянные оком вселенной, омовенные слезами вселенной, обративши друг к другу омытые истиной взоры, вселенской влагой забвенья омытые взоры, они могли уже и не плакать, и не знать ни мук, ни печали, просто тихо прощаться друг с другом, и прощанье давалось легко – тишина на дне тишины.
Ничего уже было не удержать, да и не надо было удерживать, ибо не было больше ни в чем несогласия, и он, испивший влаги, он, Публий Вергилий Марон, он теперь тоже не нуждался в имени, мог его сложить с себя, дабы оно, потускнев, стало просто знаньем, стало странно хрупким, целомудренным забвеньем, ибо хоть не был он осиротелым, но плыть дальше, сквозь новую бесконечность, он должен был один. Не соблазнит его больше страх, не прельстит чаянье встреч. Одиноким стал и свет, разлитый вокруг, стал чище и девственней, чем прежде, он сменился дремотной мглой, странной и благодатной мглой, что длилась и длилась, неясен был час ее наступленья, неясен час ее окончанья, ибо солнце, склонившись к неоглядной границе вод, будто стыдливо запнулось и медлило в них окунуться – и, застыв неподвижно, словно завороженное образом Скорпиона, которого искало, тусклым пятном повисло в безоблачном небе, в торжественной россыпи звезд. Утратило длительность время, и в притихшей пустыне спокойно и плавно то ли скользила, то ли парила ладья; потеряв всякую скорость, не ведая твердой цели, всего лишь знаемо чувством, плаванье это, однако, имело ясное направление, предначертанное рисунком звезд. Отрок стоял впереди на носу, окутанный мглою, но фигура его четко обрисовывалась на фоне неба, чья необъятная ясность превзошла уже все границы ясности, и, то ли указу я путь, то ли призывая мечту, простер он вперед руку, всем телом подавшись ей вослед, вослед призывному этому жесту, устремлению к ускользающей цели. Можно ли было еще назвать плаваньем это скольженье, скольженье без весел и без ветрил? Не было ли оно неподвижностью, лишь видимостью движенья, создаваемой встречным движеньем небесной тверди, сонма сияющих звезд? Но плыл он или не плыл, так или иначе, он парил в преддверии знанья, все еще над его вратами, и недвижно сидел позади перевозчик, пребывал в молчании на своем посту, неослабно ощущалось его присутствие, вся уверенность, как и прежде, исходила от него, а не от фигурки отрока, слишком призрачной, слишком хрупкой, – нет, направлял ладью перевозчик, он один, даже если на самом деле путь зависел от движенья светил. Глубже и глубже опускалось солнце, жидким пламенем плавясь в сумрачном закатном костре; все заметней, несмотря на чистую безоблачность далей, тускнел его блеск, и предвечерняя ясность все заметней переливалась в ночную мглу, и все кристальней блистала звездная твердь.








