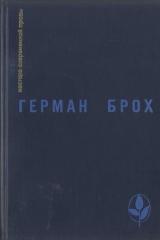
Текст книги "Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия)"
Автор книги: Герман Брох
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 49 страниц)
Подобно вестибюлю без кровли, строго и торжественно выглядел дворик, мощенный большими каменными плитами, абсолютно гладкими, хорошо пригнанными, и воробей, который нерешительно по ним прыгал, был тут совершенно лишним. Будь здесь скамейка, можно бы и присесть, хотя хорал, приглушенно доносившийся из церкви, звучал как предостережение. Барышня нерешительно прошла сквозь не менее торжественную, не менее строгую открытую двойную аркаду, которая выходит на площадь замка, и чуть ли не хитрым взглядом обвела площадь. Фотограф все еще был здесь, около памятника стояла супружеская пара, видимо приезжие, немного дальше какие-то женщины. Больше никого. Стало быть, она перехитрила преследователя, она даже бога перехитрила, потому что сейчас она все же смотрела туда, куда до этого смотреть не смела: она описала дугу по площади, чтобы взглянуть назад, и это удалось. Нет, теперь сзади никого нет, хотя затылок все еще ломит и она все еще ощущает на себе взгляд, как ожог, и вот, словно для того, чтобы навсегда защитить себя, навсегда покончить со всей этой неопределенностью, всей тьмой, что кроется за спиной, она прислоняется к каменной опоре между двумя арками ворот или, вернее, приближается к ней настолько, что чувствует ток холода, каким обдает камень в тени. Разве нельзя ей прислониться и посмотреть на прекрасную площадь? Разве нельзя прислониться и постоять здесь между тьмой и светом, между затененным двором позади и, освещенной солнцем площадью впереди? Разве нельзя? Многие смотрели отсюда или со ступеней церкви на площадь, смотрели вдаль на сады и аллеи, исчезающие за склоном холма; а вот идет сюда от памятника и супружеская чета: их ноги шагают рядом, четыре ноги, которые несут на себе два туловища и две головы; в руке у мужчины красный бедекер. Аппарат фотографа стоит на трех ногах, и лошадь курфюрста бьет согнутой ногой по воздуху, бьет копытом в светло-голубое небо, купол которого низко опустился над садами, влекомый землей, теряющейся, потерянной в бескрайней бездне. Супруг-американец открывает бедекер, его жена тоже заглядывает в него, глядит на буквы, на них и соединяются оба взгляда.
Кто петляет, может избежать встречи со злом, потому что черт – он ведь хром на одно копыто – способен скакать только напрямик, несмотря на всю свою хитрость; поэтому он всегда и остается, в конце концов, в круглых дураках.
Барышня стоит, прислонившись к каменному столбу, и если преследователь в маленьком дворике – но его там нет, ну конечно, его там нет, – то ему ее не увидеть, столб скрывает ее полностью. Но тут она опускает псалтырь и, ощущая некоторую слабость, хватается за край столба; она только слегка касается края, только пальчиком, но так неловко, что псалтырь в черном переплете открывается и – о ужас! – преследователь может из-за столба увидеть своими красными глазами за стеклами очков не только палец и раскрывшуюся книгу, но даже и буквы! Барышня быстро отдергивает назад руку и книгу. Только почему она это делает? Разве священная книга не пригвоздила бы лиходея к месту? Или она боится, что он сильнее и его взгляд способен отнять у книги священную силу? Боится соединения с ним, соединения с чертом, если их взгляды встретятся на буквах книги? О нет, он не должен касаться ее руки, иначе это и случится!
На флагштоке центрального фасада замка знамя со свастикой – символ отказа от традиций. Ветра нет, и оно повисло неподвижно вдоль древка – узкая красная полоска, резко выделяющаяся на фоне небесной голубизны, и это красное там, наверху, вдруг связалось с красным переплетом книги, в которую глядела общим взглядом соединенная воедино чета туристов поодаль, – и здесь, и там красное – красное вознесшихся наверх выскочек и красное низвергаемых ими вниз.
Под аркой ворот щебечут воробьи. Супружеская чета подходит ближе; они женаты и потому социально уравнены. Они идут, чтобы осмотреть овальную площадь и вспомнить о придворном архитекторе; с ними все в порядке, а из своей красной книги они только что узнали, что это великолепная архитектура. Преследователь во дворе человек низшего сословия, но от него, однако же, невозможно ускользнуть, стоишь здесь, прикованная к столбу, как нищенка. Барышня снова прижала псалтырь к себе, но ведь она знает, что сердце, к которому она прижимает книгу, не разбирает слов, что на белых страницах в черном переплете нет ничего, кроме букв. Окружность неба отражается в окружности площади, окружность площади – в круге, ограждающем памятник, пение ангелов отражается в пении, слышном из церкви, и церковные песнопения собраны в книге у ее сердца, но нужно знать, что это так, нужно знать, что бог отражается в правителе, а правитель в простом смертном, который пересекает площадь; а если этого не знаешь, то круг ограды никогда не станет небом, слово в молитвеннике никогда не станет пением ангелов, тогда и детским коляскам можно въезжать в ворота парка, и это – стыдно подумать – никому не мешает. Коляски черны, так же черны, как и мертвый глаз черного фотоаппарата, который все удержит в кадре, о, удержит, чтобы одно не опрокинулось в другое, чтобы земля и небо оставались разделенными, как повелел господь в первый день творения, – разделенными и все же едиными в слове господнем.
Спаситель сверху сошел на землю, святой и в то же время бренный – слово, ставшее плотью, дабы возвестить божественную истину на человеческом языке и искупить страданием плоти, жертвой человеческой, грехи земного мира. И, подобно ему, сверху низвергаются мятежные ангелы, но они падают в красную раскаленную бездну, где корни скверны, чтобы восстать из нее в человеческом облике, правда уже не способными низвергаться, но оттого тем более падкими на плотские наслаждения с детьми рода человеческого, которые в слабости плоти своей всякий раз беззащитны перед соблазняющим их насилием и становятся жертвой насилующего соблазна; колдуны и колдуньи, единые во грехе, ставшем плотью, конечно, обречены, как и сам грех, на истребление и, в конце концов, бессильны перед искупительным деянием, но все же постоянно угрожают ему и несут зло из поколения в поколение до скончания века.
Однако каждое облако разве не посредник между землей и небом? Разве оно не возносит землю вверх, не тянет небо вниз, чтобы круг его втиснулся между домами и стенами площадей и расколол их, порочный круг подражания? Белы стены, белы облака, предвестники черных туч, черны книги и слова в них, но красен и жгуч взгляд, что вырывается из бездны тьмы, увлекая за собой «я», засасывая его все глубже вниз, сквозь гремящие врата смерти, все глубже вниз, в жгучий холод темноты. Сплетаются прямые дорожки парка, круг за кругом, сплетаются в непристойный клубок, в котором все едино, и, переплетая друг друга, пожирают друг друга, все снова и снова порождая друг друга. Тут не поможет почетный караул, не поможет и то, что красная книга силится отразить жгучий жар, потому что нет более отражения большого в малом: нет более прекрасного и нет красоты, лошади статуй рвутся из красоты своего окаменения и улетают прочь; люди задыхаются под сводами церкви, и никакой кадр не может более запечатлеть происходящее, так как отныне самое тайное вырывается наружу, чтобы выплеснуться на всеобщее обозрение площадей. И уже не думая о преследователе, который теперь схватит ее, возьмет за руки и потащит за собой в бездну, барышня расставляет руки и хватается за столб позади себя, цепляется за него, прижавшись, прильнув к нему, своей единственной опоре, не замечая, что пачкает о стену свое темное пальто. Щебетанье воробьев под аркой становится все громче, набухает, переходит в ожесточенный свист, и кажется, будто вся тень сорвана с мира, тень улетела, оставив мир, который больше и не мир, в невыносимой наготе, оставив его добычей выскочек и тех, кто тащит в бездну, добычей дьявола.
От насилия не спастись! Сейчас на палящем солнце вся эта чертовщина закружится, прихрамывая, в хороводе без теней, в который ее тотчас же поведет преследователь, по-лакейски хромая, с лакейским поклоном, – и не спастись от его соблазняющего насилия.
А между тем чужестранная чета, все еще четвероногая, достигла церковных ступеней, и вот теперь, все еще с раскрытым бедекером в руках, оба даже вознамерились проникнуть во двор. Может быть, это уже и неважно; пусть случится, пусть люди обнаружат тайну и позор, увидят победившего преследователя; конечно, это неважно, потому что нет больше тени, нет даже во дворе, где он стоял и повелевал, этот человек, хоть и низкого происхождения, но высоко, как памятник, вознесшийся посреди двора. И, может быть, чтобы защитить преследователя, чьей жертвой и сожительницей, готовой к колдовским превращениям, она отныне и навеки должна стать, может быть, чтобы бежать вместе с ним, пока не поздно, а может быть, чтобы спрятать его где-нибудь в шкафу, незаметно для обоих чужеземцев, с огромным напряжением она отделилась от стены и побрела во двор: но – о разочарование и облегчение – двор был тенист и пуст, каким она его и оставила, а воробей все еще сидел на плитах. Стены окружали строгий и прохладный четырехугольник как бы отрадно-светлое затмение дня, – и для человека низшего сословия, или коммуниста, или еще кого-нибудь в этом роде здесь не было места. Двор был чертовски пуст.
Тогда барышня осмелилась еще раз оглянуться на площадь – и она была чертовски пуста. Потому что никто не плясал. Вяло повис вверху флаг на древке, и насилие отменялось, может быть, только отодвигалось, но на сегодня, определенно, отменялось. Какая-то смесь сожаления и злорадства поднялась в душе барышни. Правда, холодная красота минувшего мира и его творений опять, возможно в последний раз, победила и оставила в круглых дураках хромых демонов из плебеев и все их безобразие. Прекрасным большим овалом простиралась замковая площадь у подножия зданий, выступающих вперед в своей степенной неспешности, и теперь, когда происшествие завершилось, отражала окружность неба и мирный его покой; теперь тени башен едва достигали малого овала памятника, на трех ногах стояла лошадь курфюрста в прекрасной недвижности, на трех ногах стоял штатив фотографа, и, окаймленные прямыми, как стрела, черными тенями, тянулись по склону холма аллеи парка под сводами светло-голубого купола, по которому медленно скользили перистые облака, – чистота, которая ложится новым слоем на грязь.
Из церкви звучал хорал. И барышня, исполненная преданности, пересекла маленький дворик и вошла в церковь через ту самую дверь, через которую прежде торжественно свершала свой выход в божий храм семья великого герцога и через которую отныне, так велит господь, всегда будет входить она. Ни одной половине барышнина сердца не было больше нужды говорить с другой его половиной – в таком согласии друг с другом они пребывали, – полная сладостной безнадежности, барышня едва ли была в состоянии думать о себе: она открыла псалтырь – и впрямь святая.
СМЕРТЬ ВЕРГИЛИЯ
Роман
…Da iungere dextram,
da, genitor, teque amplexu ne subtrahe nostro.
Sic memorans, largo fletu simul ora rigabat.
Ter conatus ibi collo dare bracchia circum,
ter frustra comprensa manus effugit imago,
per levibus ventis voluCrique simillima somno.
Vergil: Aeneis VI, 697–702[32]32
«…Протяни мне руку,Руку, родитель, мне дай, не беги от сыновних объятий!»Молвил – и слезы ему обильно лицо оросили.Трижды пытался отца удержать он, сжимая в объятьях,—Трижды из сомкнутых рук бесплотная тень ускользала,Словно дыханье, легка, сновиденьям крылатым подобна. Вергилий. Энеида, VI, 697–702
[Закрыть]
Lo duca ed io per quel cammino ascoso
Entrammo a ritornar nel chiaro mondo;
E, senza cura aver d’alcun riposo,
Salimmo su, ei primo ed io secondo,
Tanto ch’io vidi delle cose belle
Che porta il ciel, per un pertugio tondo;
E quindi uscimmo a riveder le stelle.
Dante: Divina Commema, Inferno XXXIV, 133–139[33]33
Мой вождь и я на этот путь незримый Ступили, чтоб вернуться в ясный свет, И двигались все вверх, неутомимы,Он впереди, а я ему вослед, Пока моих очей не озарила Краса небес в зияющий просвет:И здесь мы вышли вновь узреть светила. Данте. Божественная Комедия, Ад, XXXIV, 133–139 Перевод М. Лозинского.
[Закрыть]
TOD DES VERGIL
1945

ВОДА – ПРИБЫТИЕ
© Перевод Ю. Архипов
Голубовато-серые, легкие, тихим, едва внятным встречным ветром гонимые, катились адриатические волны навстречу эскадре императора, когда та, медленно надвигаясь левым бортом на пологие холмы Калабрии, направлялась к порту Брундизию; и теперь, когда залитое солнцем и все же тронутое дыханием смерти одиночество моря постепенно сменялось мирной радостью людской суеты, теперь, когда воды, смиренные и позлащенные близостью людского житья-бытья, покрылись многочисленными судами, тоже плывущими в гавань или вышедшими оттуда, а рыбацкие лодки под коричневыми парусами, покинув для вечерней ловли крохотные молы, прилепившиеся к частоколу селеньиц и деревень, уже отделились от белой прибрежной каймы, – теперь вода стала гладкой, почти как зеркало; перламутровая раскрылась над нею раковина неба, вечерело, и порой чудился над водой дым костров, доносимый, навеваемый с пастбищ вместе со звуками жизни на берегу: то звяк железа о наковальню, то крик.
Из семи кораблей с высокими бортами, шедших друг за другом кильватерной колонной, лишь первый и последний стройные пентеры с тараном на носу – принадлежали военному флоту; остальные же пять, куда более громоздкие и внушительные, в десять и двенадцать рядов весел, были построены с роскошью, приличествующей обыкновениям императорского двора, а на среднем в колонне, великолепнейшем – златосверкающий бронзовый буг, златосверкающие львиные головки с кольцами в пасти, пестрые вымпелы на вантах, – под пурпурными парусами величественно возвышалась парадная палатка Цезаря. А на следующем за Августовым корабле находился творец «Энеиды», и печать смерти лежала на его челе.
Терзаемый морской болезнью, весь в напряженном и опасливом ожидании очередного ее прилива, он целый день не решался и шевельнуться, так и лежал, прикованный к своему ложу, устроенному для него в самой середине корабля, ощущая себя, вернее, свое тело и свою телесную жизнь, которую давно уже воспринимал как чужую, ощущая всего себя как одно осторожное, ощупывающее воспоминание о том расслабленном покое, который и впрямь внезапно объял его, едва корабль вошел в тихие прибрежные воды; раствориться в потоке этой мирволящей и умиротворенной, усталой неги было бы совершенным счастьем, если б не донимал его вновь нажитый вопреки целительному морскому воздуху кашель, если б не трепала его ежевечерняя лихорадка, как и ежевечерние страхи. Так он и лежал теперь здесь, он, творец «Энеиды», он, Публий Вергилий Марон, лежал с приугасшим сознанием, почти стыдясь своей беспомощности, почти гневаясь на судьбу; лежал, вперяясь взором в перламутровый овал небесной чаши: о, зачем только уступил он домоганиям Августа? Зачем покинул Афины? Теперь прощай последняя надежда на то, что священно-ясное небо Гомера споспешествует благополучному завершению «Энеиды», прощай надежда на то новое в его жизни, что могло бы за этим воспоследовать, надежда на далекую от искусства и свободную от поэзии жизнь философа и ученого в граде Платона, надежда на то, что удастся когда-нибудь снова ступить на ионийскую землю, а вместе прощай надежда на чудо и целительность познания. Почему же отказался он от всего этого? Добровольно ли? О нет! То был словно приказ неотвратимых сил жизни, тех неотвратимых сил судьбы, кои никогда не исчезают совсем, пусть и прячутся они временами в подземном, незримом, неслышном, но они неотступны, как неисследимая угроза сил, от которых никуда не уйдешь, которым нельзя не подчиниться на то и судьба. Он предался судьбе, а судьба предала его гибели. Разве то не была его форма жизни? Разве жил он когда-нибудь иначе? Перламутровая чаша неба, и вешнее море, и пение гор, и та песнь, что болью полнила грудь, божественные звуки флейты – разве не было все это лишь оболочкой тех сфер, что скоро примут его и отнесут в вечность? Он был по рождению земледельцем, любил мирный земной удел, ему более всего подошла бы простая и степенная жизнь в сельской общине, ему на роду было написано оставаться в этой неизменности, он мог и должен был остаться, но высшее провидение, не отрывая его от родины вполне, все же и не оставило его в ней, все же вытеснило прочь из общины, вытеснило в самое голое, самое злое, самое страшное одиночество одиночество в людской толпе; судьба погнала его прочь от простоты истока, погнала вдаль, где все больше множилась всякая сложность, и выросло, увеличилось в этой гонке лишь расстояние от жизни в собственном смысле, да, да, выросло лишь оно, это расстояние, ибо жил он на самом краю жизни, на краю своих нив, и всегда оставался непоседлив, беспокоен, бежал смерти и смерти искал, искал трудов и трудов бежал; любящий и все же гонимый, вечный скиталец на страстных путях плоти и духа, гость на пиру своей жизни. И теперь, когда силы почти иссякли, на исходе бегства, на исходе поисков, когда уже завершил он борьбу и приуготовился к прощанию, приуготовился к последнему одиночеству, готов был вернуть одиночеству свою душу, теперь судьба вновь его одолела, вновь отказала и в простоте, и в сокровенности истока, вновь повернула его с пути к себе, подтолкнув к пестроте внешней жизни, вновь навязала ему то зло, что тенью лежало на всей его жизни, и казалось, будто судьба приберегала для него одну лишь единственную простоту – простоту смерти. Он слушал скрип рей в снастях и мягкий шорох парусов, слушал шепот пенящейся за кормою воды и серебряный звон брызг, извлекаемых веслами, которые то тяжко стонали, ворочаясь в уключинах, то снова с плеском шлепались в воду; он чувствовал равномерные, мягкие рывки корабля в такт взмахам сотен весел, он следил за скольжением белой прибрежной каймы и думал о немотствующих, закованных в цепи рабах там, в утробе корабля, где царили духота, и сквозняк, и вонь, и грохот. Те же ритмичные, глухо рокочущие, всплескивающие серебро взмахи весел слышались сзади и спереди, на соседних кораблях, эти звуки словно бы разносились эхом по всем морям, и отовсюду приходил отклик, ибо на всех морях плавали такие же корабли, груженные ли людьми, груженные ли оружием, груженные ли рожью и пшеницей, груженные ли мрамором, маслами, вином, специями, шелком, груженные ли рабами, – повсюду купля-продажа, эта злейшая из корчей и порчей мира сего, пользовалась судоходством. Тут, однако ж, везли не товары, а утробы, то бишь придворных; вся кормовая часть корабля была отдана пропитанию, с раннего утра там не смолкал шум застолья; вот и теперь еще трапезная была густо облеплена вожделеющими угодить своему чреву, улучающими миг, когда освободится местечко за триклинием, готовыми захватить его в борьбе с соперниками, также изнемогающими от желания наконец-то возлечь у стола, чтобы впервые или уже не впервые в этот день отдаться блаженной смене блюд; сбивались с ног легконогие, принаряженные слуги, среди которых было немало смазливых, теперь, правда, все они были как взмыленные, загнанные лошади, а их вечно улыбающийся начальник с настороженным холодком в уголках глаз и ненавязчиво растопыренными навстречу чаевым руками все гонял и гонял их туда-сюда, да и сам сновал как челнок с палубы и на палубу, ибо наряду с теми, кто возлежал, не меньше хлопот, как ни странно, доставляли и те, кто уже насытился и теперь искал развлечений иного рода: иные прогуливались, сложив руки на животе или его противоположности, иные, напротив того, дискутировали, размахивая руками, иные подремывали или похрапывали на своих ложах, прикрыв лицо тогой, иные посиживали, меча кости, и всех их тоже нужно было опекать и обслуживать, то и дело потчевать легкими закусками на серебряных подносах, передававшихся из рук в руки по всей палубе, дабы не пропустить рождение нового глада, дабы вовремя потрафить страсти обжорства, явственно и неистребимо отпечатавшейся на лицах всех – как упитанных, так и тощих, как слоняющихся, так и сидящих, как бодрствующих, так и спящих; эта страсть могла быть выбита резцом или вылеплена, как из глины, могла быть острой или мягкой, хищной или благодушной, волчьей, лисьей, кошачьей, попугайной, лошадиной, акульей, но она неизменно оказывалась как-то связана с другой, не менее плотоядной и омерзительной страстью – ненасытимой жаждой обладания, жаждой вещей, денег, чинов, почестей, жаждой того чувства праздной занятости, которое дает имущество. Всюду, куда ни глянь, кто-нибудь совал себе что-нибудь в рот, всюду пылала алчная жадность, не ведающая ни конца, ни начала, как петля, готовая все, весь мир захлестнуть, ее, этой жадности, чад витал тут над палубой, ее, эту жадность – неотменимую, неизбывную, – тоже везли с собой в ритме весельных взмахов: ею был объят весь корабль. О, стоило бы однажды изобразить их во всей красе! Песнь жадности – вот что надобно им посвятить! Да, но что толку? Ведь поэт ни на что не годен, ни в какой беде он не помощник, и слушают его лишь тогда, когда он мир приукрашивает, отнюдь не тогда, когда он изображает мир таким, каков он есть. Ложь, а не истина дает славу! И возможно ли в таком случае надеяться, чтобы «Энеиде» была уготована иная, лучшая участь? Да, ее будут превозносить, как превозносили все, что он писал до сих пор, но вычитают из нее одно лишь желанное, нельзя ни надеяться, ни опасаться, что остережения его будут услышаны; нет, не дано ему было обмазываться или верить обману, слишком хорошо он знал эту публику, столь же мало удостаивающую вниманием настоящий, тяжкий, ценой страдания обретающий истину труд поэта, как и горький, горьким потом политый труд рабов на галерах; и то и другое было для этой публики лишь положенной, положением вмененной данью тому, кто имел право наслаждаться и кто воспринимал и принимал это именно как дань! А ведь среди жующих и жрущих тут были не одни лишь бездельники, хотя и этот сорт людей Август терпел в своей свите, нет, многие из них имели на счету всяческие заслуги, но с каким наслаждением они отбросили здесь, на корабле, все прочие свои качества, чтобы в часы вынужденного путешествием безделья предстать во всей первозданной наготе своего слепого высокомерия и своей темной жадности или жадностью заполненной темной сути. Внизу, в утробной тьме, рывок нанизывая на рывок, в диком, зверином, нечеловеческом своем великолепии работала закованная в цепи масса гребцов. Те, там внизу, не понимали его, и не было им до него дела, эти, тут наверху, утверждали, что почитают его, да они и сами верили в это, обманывая себя кто ради того, чтобы, выпятив любовь к его произведениям, похвастать своим вкусом, кто потому, что другу Цезаря полагались признательные воздаяния, – хотя что же общего могло быть с ними у него, Публия Вергилия Марона, ведь они, даром что судьба поместила его в их круг, внушали ему омерзение, и его давно бы вновь смял приступ болезни, если б смрад и чад на корабле, где предавались они обжорству, не развеивал прибрежный бриз, предвестник заката. Убедившись в том, что сундук с рукописью «Энеиды» стоял целехонек у его ложа, он, не отрывая глаз от закатывающегося на западе светила, натянул плащ до подбородка; ему стало зябко.
Время от времени его одолевало желание оглянуться, полюбопытствовать, взглянуть на то, чем занимается шумная толпа позади; однако он не делал этого, и хорошо, что не делал, ему даже все больше и больше казалось, что повернуться означало бы нарушить некий запрет.
Так он тихо лежал. Первые сумерки уже затянули нежной завесой небо и весь мир, когда они достигли узкой, похожей больше на речное устье бухты Брундизия; воздух сделался прохладнее, но и мягче, соленый морской дух смешивался теперь с пряным духом земли, обступавшей канал, в который один за другим, сбавляя скорость, входили корабли. Серой, как свинец, темной, как железо, сделалась теперь Посейдонова стихия, лишившись завитушек из волн. На укреплениях по обе стороны канала был выставлен караул в честь Цезаря быть может, первое поздравление с днем рождения, ибо на праздник своей колыбели вернулся домой Октавиан Август: через два дня, да, уже послезавтра, будет по сему случаю в Риме праздник; да, ему уже сорок три, плывущему впереди Октавиану. Хриплые крики воинов взлетали с берегов, знаменосцы на флангах манипулов коротким выверенным движением руки в такт выкрикам выбрасывали вверх древко красных боевых штандартов, чтобы затем косой ровной линией склонить их перед Цезарем, – словом, то, что здесь происходило, было бравой и деловой церемонией приветствия, предписанной военным уставом, церемонией точной и по-солдатски суровой, как сам военный устав, и в то же время было в ней что-то вечереюще-кроткое, едва ли не фантастическое – так быстро, так стремительно таяли эти крики в необъятном куполе света, так быстро и так по-осеннему вянул багрянец знамен под наплывом пепла, который оставило в воздухе догоревшее светило. Свет больше земли, земля больше человека, и не выстоять человеку, если не вдыхает он запахи родной земли, если не вернется к земле, если не вернется благодаря земле к свету, если не примет свет по-земному и на земле, если свет благодаря земле не примет его, человека, если не станет светом земля. И никогда не бывает земля ближе, привязаннее к свету, а свет ближе, расположеннее к земле, чем в надвигающихся сумерках, на грани ночи. Ночь дремала еще в глуби вод, но вот уже стала просачиваться барашками крохотных и бесшумных волн, наморщивших зеркало моря; всюду, смешивая верх и низ, всплывали бархатные волны ночной глуби, волны другой, второй бесконечности, порождающей, плодоносной сверхбесконечности, и всюду они начали гасить дневной блеск. Свет не сеялся больше сверху, он повис между небом и землей и так, на весу, еще светил, но ничего больше не освещал, так что и вся округа, над которой он висел, казалось, излучала собственный свет. Вечереющую землю заполонил, без конца и без края, стрекот цикад, их мириады слились в унисоне – длительном, ровном, всепроникающем, но и – вследствие неразличимости – почти неслышном, не ведающем ни падений, ни нарастаний. Склоны, на которых высились укрепления, поросли выше каменистого берега скудной травой, и сколь ни бедна была эта поросль, она означала мир, и покой, и темное забытье корней, означала темную глубь земли, простертой под скудеющим светом. Потом берега очертились явственнее, в щедром богатстве зелени, густоте красок, появились скопления кустарника, а на верхушках холмов, между каменными прямоугольниками крестьянских дворов показались первые оливковые деревья – как серые жгуты, свернутые из сгустившегося тумана. О, как нестерпимо захотелось ему потрогать этот, увы, столь далекий берег, запустить руку в эти темные заросли, пальцами ощутить вскормленную землей свежесть листвы, слиться с нею навеки – руки, пальцы его подрагивали от томительного желания прикоснуться к зеленым листьям, к их упругой, живой плоти, которую он – закрыв глаза – почти осязал; то было почти чувственное томление, по-чувственному простое и сильное, как его корявые крестьянские кулачищи, по-чувственному изощренное, чуткое, тонкое, как его узкие, почти женственные запястья; о трава, о листья, о гладкость, о шершавость коры, о жизненная сила прорастания, о темная, сложнозапутанная плоть земли! О эти руки, чутко сторожкие, робкие, притягивающие к себе, обволакивающие руки, о пальцы, кончики пальцев, шершавые, нежные, мягкие, о кожа живая – верхняя из самых верхних поверхностей темной глуби души, обнажающей себя в подъятых руках! Он всегда ощущал в своих руках эту странную, почти вулканическую пульсацию, всегда догадывался о какой-то странной, самостоятельной жизни своих рук, догадывался, но не решался проникнуть за порог этой темной догадки, не решался узнать, будто предчувствовал, что в таком знании затаился опасный мрак; и если он и теперь в силу давней привычки вращал кольцо с печаткой на пальце правой руки – почти немужское кольцо вследствие тонкой, изысканной работы, то проделывал он это будто в надежде отвратить мрачную опасность, будто в надежде унять томление рук, унять, укротить, заглушая их страх, томительный страх, какой испытывают крестьянские руки, которым не дано более ни семян, ни плуга, но которые выучились касаться того, чего нет, томительный страх рук, творящей воле которых, лишенной земли, не осталось ничего, кроме собственной жизни, жизни в необъятной вселенной, жизни, полной опасностей для рук и от рук, жизни, так глубоко погруженной в Ничто и нагруженной его опасностями, что и самый страх, стараясь превозмочь самого себя, стал могучим стремлением стремлением удержать единство человеческой жизни, сохранить единство человеческих чаяний, чтобы избежать распада на множество мелких, мелко-томительных и томительно-мелких жизней, ибо недостаточно томление рук, недостаточно томление глаз, недостаточно томление слуха, но достаточно лишь томление сердца и мысли во всей их полноте, о, это томительное единство целокупности двух бесконечностей – внешнего и внутреннего, зрящей, слушающей, постигающей, дышащей в двуедином единстве целокупности, ибо лишь ей одной отпущено избыть безнадежно слепую печаль обремененной страхами отъединенности, в ней одной совершается двойное развертывание познавательных сил, исходящих из самых глубинных корней бытия, и все это он прозревал, всегда прозревал – о, томление того, кто вечно лишь гость, кому суждено быть лишь гостем, о, томление человека: в том-то и сказывалась всегда прозревающая сила его напряженного слуха, прозревающий ритм его дыхания, прозревающее усилие его мысли, что и слух, и дыхание, и мысль его вливались в поток света вселенной, в непостижное знание о ней, в никогда не достижимое приближение к ее бесконечности, даже к самому краю ее, так что и простертая в крайнем томлении рука не смеет и шевельнуться. И все же он к ней приближался, приближался, несмотря ни на что, а мысль его походила на прислушивающееся, дышащее ожидание, прислушивающееся к двойным безднам Посейдоновых и Вулкановых сфер, единым, ибо покрытым одним куполом Юпитерова неба. Свободно струится сумеречный свет, как дыхание, как тот поток, в который корабли погрузили свои днища; текуч поток внутреннего и внешнего, текуч поток души, струящей дыхание из посюстороннего в потустороннее, из потустороннего в посюстороннее; отверсты врата знания, и нет знания как такового, но есть его прозревание, есть прозрение врат, прозрение пути, окутанное сумерками прозрение путешествия в сумерках. Впереди на носу корабля запел раб-музыкант; вероятно, его призвало к себе собравшееся там общество, чей шум исподволь растворился в тишине вечера; даже их, стало быть, охватило предчувствие дома, и вот после короткой паузы, необходимой для настройки лиры, после короткого ожидания, необходимой дани искусству, она, эта безымянная песнь безымянного мальчика, зазвучала, донесенная ветром и до него, песнь благостная и осиянная, неземная и хрупкая, как краски радуги в вечереющем небе, о звуки лиры, благостные и осиянные, нежные, как слоновая кость; дело рук человеческих – эта песня, дело рук человеческих – эта лира, но как же далеки они от человеческого истока, как далеки, как отъединены они от человека, отъединены от страдания – будто поют сами воздушные сферы. Сумерки сгустились, лица стали неразличимее, берега стушевались, размылись и очертания корабля, остался один лишь голос, он стал звонким и властным, словно хотел править судно и такт его весел; источник голоса скрыт, о нем позабыли, а ведь то была властность мальчика-раба; путеводной была его песнь, упокоенной, самодостаточной и потому путеводной, именно потому отверстой вечности, ибо лишь покой указует путь, лишь единственный миг покоя, вырванный из потока вещей, нет, спасенный из него, открывается бесконечности, лишь остановленное – ах, далась ли ему самому хотя бы раз такая, истинный путь указующая остановленность? – лишь воистину остановленное, пусть даже только на единый миг в беспрерывном потоке миллионолетий, становится длительностью, не измеренной временем, становится указующей путь песнью, становится водительством; о один-единственный миг жизни, простертый до целого, простертый до круга познания целого, отверстый вечности; высоко над осиянной песнью, высоко над осиянными сумерками дышали небеса, чья пряная и ясная осенняя сладость повторялась, тысячелетиями оставаясь неизменна, и тысячелетиями будет повторяться, оставаясь неизменна, – неповторимые все-таки небеса в единственном сочетании этого Здесь и Теперь, в том, как тишина наступающей ночи затягивала светлым шелком их купол.








