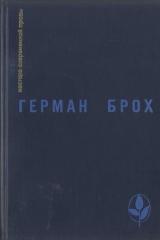
Текст книги "Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия)"
Автор книги: Герман Брох
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 49 страниц)
Как тяжко с ним расставаться, отдавать назад…
– Хороший пергамент, Луций…
«Бело и гладко и нежно тело мое, – тихо-тихо пожаловалась, будто выдохнула, Плотия, – но его не хотел ты коснуться».
Луций взял листы из его рук, тоже бережно погладил один из них, будто проверяя, и тоже поднял на свет.
– Хороший, – подтвердил он со знанием дела, – хороший.
И приготовился записывать.
Не коснулся он Плотии, слишком весомой была ее судьба и все же легче пушинки, слишком легкой, чтоб быть несомой, чтоб дозволено было ей быть несомой, и, непознанная, так и канула она в непознаваемое, туда, где встреч больше нет; кольцо ее осталось, а сама она уже не показывалась.
Плотий заметил:
– Если ты собираешься всего лишь дополнить прежнее завещание, а не менять его, то ты можешь сказать все очень кратко.
Нет, Плотия не показывалась. Зато из роя теней возникали другие образы, вроде бы отдаленно знакомые, но и с трудом распознаваемые, ибо они тотчас же снова расплывались в тумане, – пестрая братия, выпивохи, обжоры, шлюхи в белокурых накладных локонах, трактирные служки и смазливые эфебы. На мгновение возник Алексис, насколько можно было распознать его со спины, он стоял на борту корабля и всматривался в воду, в которой плескались всякие отбросы. А отрок молвил призывно и печально: «Вместе прошли мы все эти пути, по всем ним тебя провел я; вспомни же, вспомни…»
– Многие мне знакомы…
– Это ты уже диктуешь? – спросил Луций.
– Многие мне знакомы… – Нет, никого уже было не узнать, только одного-единственного он еще узнавал, и это его удивило: ведь прощание с Октавианом было таким мучительным и бесповоротным, разве можно его повторить? Ан вот, вопреки всякому уговору, Октавиан снова появился: в стороне от клубящегося роя теней стоял он у канделябра, и, хотя сам был невидим, темные глаза его вперились в раба, дабы тот позволил ему говорить. «Говори, – распорядился раб, – прикажи ему». И Цезарь приказал, и то был, по сути, совсем не приказ. «Дозволяю тебе, Вергилий, – сказал он, – обделить наследников по первому твоему завещанию в пользу твоих рабов», – «Да будет так; я не забуду рабов, но еще я должен распорядиться об „Энеиде“ и ее издании». – «О поэме я позабочусь сам».
– Этого мне недостаточно.
«Вергилий, ты понимаешь, с кем говоришь?»
И отрок сказал:
«Цезаря нынче взошло светило, сына Дионы,
То, под которым посев урожаем обрадован будет,
И на открытых холмах виноград зарумянится дружно».
– Понятно, – сказал Луций. – Ты хочешь распорядиться насчет издания «Энеиды»… А чего тебе недостаточно?
Отрок солгал; никакого светила не видно, и уж тем более той звезды возвещенной, дабы сияла она в предстоящей зрелости века; о, затмилась, растаяла звезда встречи, звезда, под знаком которой стоит познанье и узнаванье, великая откровенная тайна, что останавливает полый поток времени, исполняя его собою, и открывает новый исток, таинственно-неудержимый… Нет, отрок солгал, ничего этого не видно, еще не видно! «Еще нет, но и уже!»
Чья это речь? Отрока или раба? Оба направили взоры к востоку, оба слились в новом единстве этого к востоку обращенного взора; и на восточном краю небосвода должна воссиять звезда.
«Юлиев звезды на западе светят, – рек Цезарь-невидимка, – но ты не узришь их боле, Вергилий… Неужели вовек не угаснет твоя ненависть?» – «С любовью посвятил я „Энеиду“ Августу, но превыше его бытия восстала новая звезда».
Цезарь больше не отвечал; безмолвно потонул он в незримости.
– «Энеида»… – Плотий как-то странно шмыгнул носом и пригладил обеими руками венчик седых волос на своей голове. Да, «Энеида»… Вечно будет сиять в ней звезда Юлиев.
Насколько я понимаю, прежде всего надо включить в новый текст посвящение «Энеиды» Цезарю, – сказал Луций и, обмакнув перо в чернильницу, весь внимание, стал ожидать более точных указаний. Но он ждал напрасно. Ибо чернильница, в которую обмакнул он перо, была не чернильница вовсе, а пруд перед домом в Андах, о, и стол, за которым он сидел, не был обычным столом – откуда ни возьмись, выстроилось на нем все андское подворье, усадьба, отходящая ныне Прокулу, а за нею, будто ее уменьшенный слепок, маячил склеп, узилище, возведенное из серых свинцовых плит, и, отливая золотом, завихряясь, смешивались с волнами пруда волны гавани в Позилипе. О, не в чернильницу, а в пруд окунул Луций перо, и легкие круги неслышно разбегались от этого места к берегам, где плескались утки и гуси; ворковали голуби на голубятне, а помимо того бесчисленные толпы людей обступили стол в ожидании завещанной им доли, но если еще можно было понять, что и Цебет был в этой алчущей наследства толпе, коль скоро ему предстояло отныне жить на подворье, то уж совсем неподобающим было явление Алексиса, развинченной походкой приблизившегося по извилистой въездной аллее и повсюду теперь шнырявшего. Непристойной была эта толкотня у стола, настолько непристойной, что вынужден был вмешаться раб, но лишь с большой неохотой позволили люди оттеснить себя снова в туман незримости; все это продолжалось довольно долго, а когда наконец уладилось и стол перед Луцием снова был пуст и чист, тот уже с некоторым нетерпением в голосе напомнил:
– Я жду, Вергилий.
– Ах, будто это так просто – снова взять себя в руки; Луций мог бы и сам сообразить.
– Сейчас, мой Луций…
– Не торопись… спешить некуда, – вмешался Плотий.
– Прежде послушайте меня, друзья… Вы помните, что сказал Август?
– Разумеется.
– Так вот… Цезарю известно мое первое завещание, и я считаю, что и вы, ближайшие мои друзья и помощники, должны его знать…
– Мы не одни, – прервал его Луций и указал на раба.
– Раб? Да, я его узнал…
Узнать и быть узнанным… Встреча навек, сцепленье навек, сцепленье душой и телом – с тем, кто влачит цепь.
– Разве ты не собирался отослать раба, прежде чем говорить о завещании?
Странно, что Луций решился это высказать, то была почти дерзость, но все обошлось: раб с недрогнувшим лицом мгновенно покинул комнату и в то же время остался в ней – будто удвоился.
Плотий, скрестив руки на животе большими пальцами наружу, заключил:
– Вот и прекрасно, теперь мы одни.
И тут его отчитала Плотия – грубо, презрительно: «Зачем вам быть одним? Одиночество нужно для любви; а вы-то – вы толкуете о деньгах».
– Не о деньгах, совсем не о деньгах…
Как могла Плотия так говорить? Сколь она ни далека от него, должна же она знать, что вовсе не о деньгах и не о богатстве идет речь.
– Ты и прежде распорядился насчет своих денег и сейчас распоряжаешься насчет своих денег, – решительно возразил Плотий. – А все остальное, что ты говоришь, – вздор.
К счастью, на это можно было ответить, не выдавая и не обижая Плотии:
– Деньги мои мне достались милостью и щедротами моих друзей, и будет только справедливым вернуть их им… Потому-то я все еще сомневаюсь, вправе ли я, как распорядился в прежнем завещании, оставить так много моему брату Прокулу, хоть я и очень люблю его за прямоту и незлобивый нрав.
– Вздор все это, вздор.
– Добрый старый обычай, равно как и благо государства, предписывает, чтоб имущество оставалось в семье, чтоб оно охранялось и приумножалось, – ухмыльнулся Луций.
– А уж если говорить серьезно, Вергилий, – заключил Плотий, – ты имеешь полное право и даже должен распорядиться своим имуществом так, как пожелаешь; всем, что тобою нажито, ты обязан только себе самому и своим трудам.
– Плоды трудов моих не идут ни в какое сравнение с теми благами, что достались мне от щедрот моих друзей, и потому я распорядился, чтобы моя римская вилла на Эсквилине, равно как и дом в Неаполе, возвращены были Цезарю, а поместье в Кампании – Меценату… Я прошу далее Августа позволить Алексису, уже давно живущему в доме на Эсквилине, жить там и впредь, и о такой же милости прошу Прокула для Цебета – дабы этот юноша, коему ввиду его хрупкого здоровья, но также и ввиду поэтических его наклонностей деревенская жизнь всегда была полезна, даже необходима, в любое время мог рассчитывать на приют и кров в Андах… А самое лучшее для него, наверное, чтоб он там еще и немного возделывал землю…
– Больше эти двое ничего не получат?
– Нет, получат… То, что мое состояние в наличных деньгах далеко превышает мои потребности, что оно я бы сказал, вопреки моей воле, но по воле моих друзей – исчисляется несколькими миллионами, – это ни для кого не секрет, тем более для вас… Из этих денег я завещаю обоим – и Алексису и Цебету – по сто тысяч сестерциев; я назначаю там и другие, более мелкие суммы, уж не буду их все перечислять… надо только еще добавить к ним суммы, которые я оставляю своим рабам…
– Все в порядке, – подытожил Плотий. – Многие твои распоряжения в ближайшие годы еще не раз переменятся, и, хоть ты презрительно отзываешься о деньгах, ты при всем при том остаешься крестьянином, а всякий крестьянин в глубине души убежден, что свое благословение боги иной раз совсем не прочь дать в денежном выражении; стало быть, твое состояние еще умножится…
– Не будем сейчас об этом спорить, Плотий… В общем, как бы там ни было, за вычетом упомянутых сумм половина моих наличных денег предназначается Прокулу, четверть Августу, а оставшаяся четверть должна быть поделена поровну между тобой, Луцием и Меценатом… Ну вот, такова картина в целом…
Затылок, лысина и лицо Плотия налились багровой, даже фиолетовой краской, а Луций поднял обе руки в протестующем жесте:
– Это еще зачем, Вергилий? Мы твои друзья, а не наследники!
– Вы сами признали за мной право распорядиться своим имуществом так, как я пожелаю.
Хромой калека, яростно размахивая палкой, проковылял к самой кровати. «Кто богат, тому и деньги, а у кого нет ничего, тому ни гроша!» – вопил он озлобленно, и, не обезоружь его раб и не изгони снова в небытие, он бы наверняка пустил палку в ход.
– Да, чуть не забыл: я хотел бы еще выделить двадцать тысяч сестерциев на пропитание бедных здесь, в Брундизии.
– Заодно уж и мою долю туда добавь, – пробормотал Плотий, утирая глаза.
– То, что я вам завещаю, – ничто по сравнению с тем, что я от вас получил.
Живое лицо Луция, лицо актера, заиграло иронией.
– Вергилий! Уж не хочешь ли ты сказать, что когда-либо видел у меня или получал от меня кучу денег?
– А ты не хочешь ли сказать, что не опередил меня в эпической поэзии? Что я не научился у тебя бесконечно многому? Ну что, Луций? Можно ли такое вообще возместить деньгами? По-моему, просто счастье, что у тебя никогда нет денег и они постоянно тебе нужны, – по крайней мере эта сумма не совсем пропадет даром…
С лица Плотия багровость так и не сходила; теперь его толстые щеки налились обидой и гневом.
– Мне ты никакими стихами не обязан, и я достаточно обеспечен, чтобы обойтись без твоих денег…
– О Плотий, неужели я осчастливлю этого вертопраха Луция, а тебя оставлю ни с чем? Вот уж тридцать лет, как вы мои друзья, и ты помогал мне не меньше, чем он со своими стихами; а уж сколько денег я от тебя получил – о том я и не говорю… Вы мои самые давние друзья, всегда вы были заодно, стало быть, и в наследстве вам должно быть заодно, и ты его примешь, должен принять, я тебя прошу…
«Твой самый давний друг – я», – вставил тут отрок.
– А кроме того, ты ведь тоже крестьянин, Плотий, и то, что ты сказал обо мне, в полной мере относится и к тебе… – (Ах, как стало опять тяжело говорить…) – Но я не хочу, чтобы моим друзьям напоминали обо мне только суммы и цифры… Мои жилища в Неаполе и Риме, вся утварь, личные вещи… Все мои друзья – ты, Плотий, и ты, Луций, но и Гораций тоже, и Проперций… Возьмите там все, что понравится из вещей… особенно из книг… все, что понравится и что сможет напоминать вам обо мне… а остальное отдайте Дебету и Алексису… мой перстень…
Плотий с силой ударил себя сжатым кулаком по тугой ляжке.
– Все, прекрати! Чего-чего только не надумал нам насовать!..
Все зримое снова отодвинулось вдаль, и шумный протест Плотия доносился будто из ваты; хорошо бы и в самом деле прекратить, но надо было еще так много, ах, так много сказать:
– От вас… от вас мне ведь тоже нужна ответная услуга…
«А от меня тебе ничего не нужно? Меня ты просто отсылаешь – и все?» – пожаловался Лисаний.
– Лисаний…
– Да скажи ты нам наконец, куда запрятался этот мальчишка?
В самом деле, куда он запрятался? Впрочем, теперь и Плотий был видим и слышим немногим яснее, чем Лисаний; он вдруг точно так же запрятался где-то в недостижимой дали, будто за плотным стеклом, и оно все более мутнело, словно превращаясь в свинцовый заслон.
Потребует ли Плотия назад свое кольцо?
– Уж не должны ли мы отыскать для тебя этого загадочного юнца? – пошутил Луций. – Не это ли услуга, о которой ты просишь?
– Не знаю…
«Я здесь, о Вергилий; я, Лисаний, стою пред тобой, протяни только руку… О, вот моя рука, возьми ее!»
Неимоверных усилий стоило поднять руку; она никак не хотела повиноваться и все хватала воздух, цеплялась за пустоту, за ничто и ничто.
«Всякий глаз, всякий вырванный глаз я вставлю снова. – То был голос врача. – Погляди в мое зеркало, и вмиг станешь зрячим, как встарь».
– Уже не знаю…
То слова ли раздались сейчас? Что это вдруг упало в пустоту? Эти слова или что-то совсем другое? Только что звучала вполне понятная и безусловно его собственная речь, и вдруг ее нет, она соскользнула в ничто, превратилась в невнятный лепет, потерялась в сумятице голосов, объятая льдом и огнем.
А хромоногий калека уже снова был тут как тут, и вместе с ним – необозримая вереница теней, такая длинная вереница, что жизни не хватило бы исчислить их всех; воистину собрался сюда весь город, нет, много городов, – нет, все города и веси земли, и все шаркали и шаркали по каменным плитам шаги, и толстая старая карга вопила: «По домам! Марш домой! А ну, марш домой!»
«Вперед, – приказал калека, – а ну, вперед! Считаешь себя поэтом, чем-то особенным, – а ну, вперед, ты один из нас…»
«Тащите его вперед, он разучился ходить, его надо нести!» добавила толстуха в подкрепление приказа.
Громовой хохот женщин перекрыл эти слова, их вытянутые пальцы как-то непристойно – хоть и ничего собственно непристойного не происходило – указывали на квартал трущоб, куда как раз заворачивала вся процессия. Вниз по ступенькам спускались они, и конца этой процессии не было видно, так далеко вела лестница вниз, но в ораве ребятишек, кувыркавшихся по ступенькам и шнырявших меж коз, львов, лошадей, был и Лисаний, и, вооруженный факелом – погасшей, обугленной стылой головешкой торчал факел в его руках, – он весело кувыркался и боролся с другими, как будто только и осталась на свете одна эта игра.
– Выходит, ты все же привел меня обратно, Лисаний, – а ведь сознаваться в этом ни за что не хотел!
И, гляди-ка, Лисаний на это вообще ничего не возразил; будто по чужаку скользнул он по нему взглядом, чтобы тут же предаться снова своей игре.
Все ниже и ниже, ступень за ступенью…
Плотий же, который тоже сидел в носилках, свесив толстые ноги через край, сказал осторожно:
– Обратно? Что ж, конечно, мы приведем тебя обратно, вернем к жизни.
«Уйдем отсюда, – взмолилась Плотия, – здесь такой мерзкий запах, такая вонь».
Да, здесь смердело: каждая подворотня, пастью зиявшая в обшарпанной стене, дышала тошнотворным духом нечистот, смрадом трущобного чрева, и зловоние источали умирающие голые старцы во мгле подземелий. Август тоже лежал там и скулил.
Все ниже и ниже, ступень за ступенью, хоть и спотыкаясь, но неуклонно…
Толпы, толпы народа, в жажде кумиров, в жажде торжеств. И посреди них, посреди этих толкущихся, теснящихся толп сидел и писал Луций; он сидел, погрузившись в работу прямо-таки с головой, и писал, записывал все, что вершилось внутри и вовне, и, не прекращая писать, поднял голову:
– Что мы должны для тебя сделать, Вергилий? О какой услуге ты просил?
– Записывать, все записывать…
– Завещание?
«Зачем тебе завещание? – Тонко и колюче прозвучал голос Плотии, как настырный комар, чтоб тут же взмыть трепетной стрекозою. – О, ни к чему тебе оно, ибо вечно ты будешь жить, в вечной жизни со мной».
Тщедушный смуглый сириец с оборванной цепью на шейной колодке – а куда же делся его одноглазый собрат? – взбегал вверх по лестнице, перепрыгивал через ступеньки, проталкиваясь сквозь толпу, и взахлеб вопил: «Настал золотой век!.. Сатурн правит миром!.. Кто был наверху, тот теперь внизу; кто был внизу, тот теперь наверху… Кто помнил, пускай забудет; кто забыл, пускай вспомнит… А ну, спускайся, иди сюда, старый поросенок!.. Что было, что будет – все едино, вовек, вовек, вовек!»
А толкотня тем временем стала воистину несусветной. Когда плывшие над толпою носилки из-за всего этого совершенно остановились, он удивился от неожиданности, и то было как неожиданный проблеск надежды, тем более что эту надежду недвусмысленно подкрепляло поведение врача: при всей своей упитанности он легко и проворно перемещался в толще людских тел, ловкие руки мелькали туда-сюда, как в зеркале, принимая деньги, которые протягивали ему увечные со всех сторон, а улыбающиеся губы бесперебойно расточали туда-сюда, тоже в зеркале, ответные дары: «Ты выздоровел… и ты тоже выздоровел… да, и ты здоров… здоров и ты, вон там… все, все вы здоровы… со смертью шутки плохи, но вы все выздоровели…»
«С жизнью шутки плохи», – сказал раб; он хоть и сохранил свой прежний образ, но зато, судя по всему, успел забраться очень высоко, ибо он смотрел на носилки сверху.
Тут Август поднялся со своего убогого ложа; неверным шагом, шатаясь, подошел он к носилкам, на шейной колодке его – будто он-то и был пропавшим собратом тщедушного сирийца – болтался обрывок цепи, правда из серебра, и ломким, дрожащим был его голос: «Пошли, Вергилий, пошли со мной, ложись со мной вместе на мое ложе, ибо нам надо возвращаться, все дальше и дальше; нам надо вернуться в массу, из которой мы вышли, вернуться на самое дно, в перегной…»
«Прочь!» – приказал раб.
И всех как ветром сдуло, и даже от Цезаря, на глазах превратившегося в карлика, через секунду осталось пустое место; людские фигуры рушились, как тени марионеток, у которых вдруг обрезали нити, и вообще будто обрезаны были все нити мира, все рушилось внутри и вовне, и то ли в самом начале, то ли в конце этого развала – уже некогда было сообразить – рухнуло тело на подушки ложа, в лоно ладьи, и в ту же секунду ладья мягко и тихо тронулась в путь: воистину, его будто отпустило, разжалась державшая его рука, внутри и вовне, рука, что была когда-то железной дланью, а сейчас, утоляя печали, ласково благословляла его на покой.
«Ты пришел наконец? – спросила Плотия, спросила почти с нетерпением и, однако, сама же, на том же дыхании, дала себе разочарованный, разочаровывающий ответ: – Нет, ты не хочешь…»
«Прочь! – повторил свой приказ раб. – Ты ему тоже не поможешь».
И в тот же миг – на единый этот миг явственно зрима – отлетела Плотия, будто была она бесовкой, с матовым телом цвета слоновой кости, в венке развевающихся огненных косм.
Кто же поможет? Никому не дозволено было остаться, даже Плотии; всех распугали, и все ж в одиночестве был покой. О, так спокойно стало в этом покое, что был как обетование, в этом ширящемся покое, перераставшем себя самого, сулившем блаженные прогулки в цветущих рощах, под сенью лавров, в обетованной земле нерожденных, и в обетовании этом покой будто превращался в творящую волю, в цветущую нерожденность, коей жаждет всякий идущий, недостижимой приютности коей он взыскует в глубинах сердца, но скоро уже не будет должен искать, ибо спокойно вольется в него она и станет его судьбой, и избавится он от муки исканий, избавится от бытия, избавится от имени, и дыханья, и боли, и крови – он, идущий в беспамятности и в чистоте забвенья!
«Забвенье тоже тебе не поможет», – сказал тут раб.
О, кто же поможет, если не поможет даже забвенье? Кто утешит, вознаградит за то, что свершенное не исправлено, несвершенное непоправимо?! Все упущено, утрачено навек свершенное и несвершенное, – и какие же еще надобны муки, дабы заслужить отпущение и избавление? Однажды внимал он гласу, но то было лишь провозвестье, а не деянье, а теперь вот и глас умолк, канул в забвенье, навек утрачен в невозвратимом, как его собственный голос.
А раб сказал: «Лишь зовущий помощь по имени будет ее достоин».
Взывать к помощи? Опять звать? Опять хватать ртом воздух, опять давиться кровью, опять хрипеть от натуги и, исходя хрипом, звать назад себя самого и собственный голос?! Да какое же имя, коль имя забыто?! На миг, на краткий миг возник незабвенный человеческий лик, сурово-застылый слепок из бурой глины, неколебимо-добрый в последней улыбке, навеки неизгладимый отеческий лик в последнем покое, – и снова канул в незабвенность.
«Зови», – сказал раб.
Как густа, как душит кровь во рту, и онемелость неисчислимыми слоями – мутными, непроницаемыми для взора, неодолимыми для звука – отделяет ото всего, что снаружи – что, наверное, существует снаружи, но что распознать невозможно; о, непостижна цель зова, непостижно имя.
«Зови!»
Все душит, все немеет – о, ценою каких мучений надо выдавливать зов! О голос, взывающий к голосу!
«Зови!»
– Отец…
Он все-таки позвал?
«Ты позвал», – сказал раб.
Он все-таки позвал? Раб ведь подтвердил, он был как будто посредником между ним и тем, кто должен был внять зову и, может быть, даже и внял ему, только не хотел пока отвечать.
«Попроси его – он поможет», – сказал раб.
И во вновь обретенном дыхании просьба высказалась сама собой, без всяких мук, даже без предваряющей мысли:
– Приди ко мне…
Был ли то миг приговора? Кто произнесет приговор? Или он уже произнесен? Где его произнесли? Прозвучит ли он громко, будет ли слышим? Предстанет ли он деянием? Когда, о когда? Приговор, отделяющий добро от зла, вину от невинности, приговор, называющий имя, дающий невинному имя, подлинная истина закона, последняя и единственная истина – о, произнесен, произнесен приговор, и теперь надо только ждать, когда его донесут.
Ничего не воспоследовало ни деяния, ни гласа, – и все же что-то последовало, только вот его почти невозможно было осознать, ибо явились посланцы оттуда, куда донесся зов, они приближались по воздуху на конях, и безмолвны были кони, бесшумны копыта, словно эхо плыли они или словно вестники эха, приближались медленно-медленно, все медленней, о, так они, пожалуй, никогда не доедут. Но даже их неприбытие было прибытием.
Тут над кроватью – правда, все еще размытое, лишь смутно различимое сквозь мозаику туманных стекол – наклонилось доброе круглое лицо и донесся отдаленный, приглушенный голос:
– Чем тебе помочь? Дать еще попить?
– Плотий, кто прислал тебя?
– Прислал?.. Ну, если тебе угодно так это называть, – наша дружба…
Ах, Плотий не был посланцем; может быть, он был посланцем посланца, а то и еще более поздним звеном в цепи. И не в том дело, что он сейчас даст ему попить или еще что – хотя было бы таким облегчением сейчас попить; этот неотвязный вкус крови во рту! Но все же в начале цепи стоит тот, кто послал Плотия, тот, кто шлет глоток воды жаждущему; даже неприбытие было прибытием.
«Пей, коли мучит жажда, – сказал раб, – из земли бьет вода, и земною будет твоя последняя служба».
Что-то судорожно затрепыхалось, забилось в груди, и, несмотря на пугающую частоту этого биения, он будто обрадовался, ибо то было сердце, то все еще билось сердце, и его даже можно было попытаться еще раз обуздать, дабы перешло оно к более размеренным, более спокойным ударам; и он почти предвкусил с веселым облегчением предстоящую последнюю победу:
– Обуздать ради долга… ради последнего земного долга…
– Ты прежде всего обуздай себя ради своего выздоровления – никакого другого долга у тебя сейчас нет.
– «Энеида»…
– Вот она и станет снова твоим долгом, когда выздоровеешь… А пока она у Августа в надежных руках, и ты найдешь ее целой и невредимой.
Трудно было поверить, что Август так уж надежно обережет поэму на своем убогом ложе, где суждено ему было лежать теперь дряхлым, нагим и бессильным, да и речь Плотия, при всей ее внятности, звучала все еще странно незнакомо, все еще скованно и глухо, хотя стекло и начало просветляться и таять. Повсюду несогласие. Во всех делах человеческих – несогласие. Несогласие в «Энеиде».
– Не меняйте ни слова…
Теперь вмешался Луций – он его понял мгновенно:
– Никто не дерзнет прикоснуться к манускрипту Вергилия, а уж тем более вносить в него какие-то поправки. Я уж не говорю о том, что Август никогда этого не допустит!
– Цезарь будет бессилен, он ничего не сумеет отстоять.
– Что ему надо отстаивать? Ничего не надо отстаивать; не забивай себе голову.
То была все еще странно незнакомая речь, язык чужого народа, у которого ты случайный гость, кое-как его еще можно понять, но свой язык уже забыт или еще не выучен, и, уж конечно, слова Августа, при всей его нищете и оборванности, были намного понятней и родней.
Плотий принес кружку.
– Попей, Вергилий…
Сейчас… подложите еще одну подушку…
Сердце колотится, надо перевести его в другое положение, надо его обуздать.
Во мгновение ока раб подскочил с подушкой в руках и, заботливо подложив ее под спину, тихо напомнил: «Время торопит».
Плеск фонтанной струи. Откуда-то дохнуло сумрачным запахом влажной глины, с едва уловимой примесью более светлого аромата земных гончарных рядов, запах этот легко вдыхался в измученные легкие – ах, как хорошо. Где-то жужжал гончарный круг, звук был свистящ, а потом стал затухать, канул в зыбкое безмолвие, сошел на нет.
– Время… да, время торопит…
– Никуда оно не торопит, – рассердился Плотий.
«Реальность ожидает тебя», – сказал раб.
Реальности ожидали его, воздвигаясь одна за другой: вот реальность друзей и их языка, за нею реальность неизгладимо отрадных воспоминаний и мальчишеских забав, за нею реальность убогих лачуг – нынешних пристанищ Августа, далее реальность угрожающе скудного хаоса линий, сеткой наброшенного на сущее, на мириады миров, за нею реальность цветущих рощ, о, а за нею, неразличима, неразличима – подлинная реальность, реальность никогда не слышащим о, но все равно давно забытого, но все равно изначально благовестующего слова, реальность возрождающегося творения, осиянная звездою незримого ока, реальность родины, – и в руках у Плотия была не кружка, а кубок слоновой кости.
Робко – то ли смущенная присутствием раба, то ли запуганная его властной волей, – но и с полной уверенностью знающего Плотия заговорила снова, и голос ее донесся из неслышимости бесконечно далекой дали: «Ты пренебрег моей родиной; спи же теперь мне навстречу».
Где она? Стены опять вдруг выросли и сомкнулись вокруг него, зеленеюще-непроницаемые стены растений, как будто свинцовое узилище снова превратилось в тенистый грот, однажды приютивший было его и Плотию, – бесконечно далеко простирались непроходимые заросли, простирались до самой бесконечной дали окоема, но посреди зеленой гущи сияла златолиственная купина, близко, почти рукой подать, хоть и надо было протянуть руку через широкий поток, что недвижно, с еле слышным плеском струился мимо, как неудержимо скользящая тайна. И это оттуда, из листвы золотой купины, прозвучал голос Плотии, зов Сивиллы, прощальный и легкий.
О улетающая! О ступающая уже за потоком, о недоступная желаниям, недосягаемая!
– Безжеланно…
– Вот и хорошо, сказал Плотий, – хорошо, что у тебя нет желаний.
– А понадобится что, – добавил Луций, на то мы и тут… Ты вроде бы еще о чем-то хотел нас попросить?
За потоком, над потоком! Безбрежный полый поток без истока и устья; не различить, где мы всплыли, где снова канем в этом уносящем время, приносящем забвенье потоке тварности, в этом бесконечном и безначальном водовороте, – и есть ли в таком потоке брод? Правда, есть ли там брод или нет, все равно еще рано начинать переправу, и поток уплыл, исчез, когда раб, уже в нетерпенье, напомнил ему о главном: «Исполняй свой долг».
Если приподняться на подушках, то дышать легче, кашель отпускает и речь опять не составляет труда; только вот все еще перемешано, все плывет.
– Путь мне еще не указан…
«Ты оставил труд свой во времени, дабы вершил он путь сквозь времена, в том твое было знанье, ибо дано тебе было провидеть свет».
Как верный услужливый раб, недвижно стоял у кровати тот, кто это сказал – сказал? Поскольку все вокруг сразу переменилось, похоже было, что сказал, и, даже если слова произнесены были безмолвно, причиной перемены могли быть только они: в целости и сохранности восстановился ближайший слой реального бытия, знакомы были вещи вокруг, знакомы друзья; он не был уже гостем в чужой стране с чужим языком, и, хотя неколебимо стоял перед взором образ обетованной подлинной родины – неколебимый, хоть и неразличимый, – все же и тут, в земной юдоли, был ему на какое-то время, скорее всего на очень короткое время, отпущен снова покой.
И Луций это подтвердил:
– Путь указует твоя поэма, путеводной она и пребудет.
– «Энеида»…
– Да, Вергилий, «Энеида»…
Поток исчез, зеленый грот исчез, только все еще слышен был легкий плеск, но то наверняка был плеск стенного фонтана.
– Мне нельзя уничтожать «Энеиду»…
– Ты все еще думаешь об этом? – Затаенное недовольство угрожающе отчетливо прозвучало в голосе Плотия – того и гляди, он опять расшумится.
Поток исчез, но поля все еще расстилались перед его взором, и звенела над ними полуденная тишина, звенела от гомона кузнечиков. Или это гончарный круг снова завел свою нежно звенящую песню? Нет, то не круг – то всего лишь плеск воды.
– Уничтожить… Нет, я уже не хочу уничтожать «Энеиду»…
– Вот теперь ты и впрямь выздоровел, Вергилий…
– Наверное, мой Плотий… только…
– Ну, что «только»?
Что-то в нем все еще сопротивлялось, что-то такое, что сидело неискоренимо глубоко, жадное до жертвы, жаждущее жертвы, и раб, будто зная об этом сопротивлении, – раб сказал: «Отрешись от своей ненависти…»
– Я ни к кому не питаю ненависти…
– По крайней мере мы надеемся, что ты больше не питаешь ненависти к своей поэзии, – заметил Луций.
«Ты ненавидишь земную скудельность», – сказал раб.
Возразить было нечего: раб сказал правду, и оставалось только покориться.
– Должно быть, я слишком сильно ее любил…
– Твоя поэзия… – Луций произнес это, в задумчивости опершись локтями о стол и приложив перо к губам. – Твоя поэзия… люби ее, как любим ее мы.
– Я попробую, мой Луций… Но прежде нам надо, наверное, подумать об издании…
– Как только ты закончишь поэму, мы примемся за издание… Не станешь же ты заниматься этим сейчас…
– Вы оба должны будете издать «Энеиду».
– Это и есть твоя просьба к нам?
– Да.
– Вздор! – Досада Плотия прорвалась наконец. – Заботиться о своих делах ты будешь сам – хоть мы и охотно тебе поможем.
– Ты совсем исключаешь такую возможность, что обязанность эта ляжет на вас одних?








