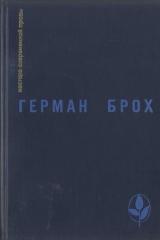
Текст книги "Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия)"
Автор книги: Герман Брох
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 49 страниц)
– Да, вот оно. Так ты писал писал для меня… Или ты передумал, мой Вергилий?
– Я не передумал, Октавиан. Бери поэму – она твоя…
Тут Август дважды хлопнул в ладоши, и покои сразу начали наполняться людьми, их было очень много – видимо, все они стояли за дверями, только и ожидая этого знака. Среди них были Плотий Тукка и Луций Варий, врач со своими помощниками тоже был, конечно, тут как тут; и снова зримым во плоти явился раб, он стоял в ряду других рабов.
Лишь Плотии не было видно, хотя она ведь наверняка не ушла. Возможно, однако, она была просто запугана этой толпою и затаилась где-нибудь в уголке.
Цезарь же сказал:
– Говори я сейчас перед стечением народа, я бы взял более высокий, торжественный тон; но так как я стою в кругу друзей и единомышленников, коих люблю, я всего лишь приглашу их разделить мою радость по поводу того, что наш дорогой поэт выразил решимость сразу по своем выздоровлении, а стало быть, очень скоро возобновить работу над «Энеидой»…
Так ли уж любил Август этих друзей? Он мнил, что обращается к ним иначе, нежели к народу, которым руководил, отнюдь его не любя, но обращение это ничем не отличалось от зачина публичной речи, и он еще весьма искусно выдержал паузу, дабы значимость его слов была вполне прочувствована окружающими и ими же самими выражена.
Что и не замедлил сделать Луций Варий:
– Мы знали, что тебе это удастся, Август, все благо – от тебя.
– Я всего лишь рупор римского народа, коего все мы сыны; по его велению и по воле богов я заявил о его правах на «Энеиду», и Вергилий, в знак своей любви к народу, признал за ним это право собственности – его неотъемлемое и вечное право.
Но раб, с недвижимо-строгой миной прислужника стоявший в отдалении среди других рабов, хоть и неприметный и наверняка никем не услышанный, добавил: «Открылся путь к подлинной истине, и народ вступит на него; вечен лишь этот путь».
– Я у народа – только поверенный в делах, – продолжал Август с той наигранной и, однако, не лишенной сердечности простотой, против которой так нелегко было устоять, – всего лишь поверенный, что здесь, что повсюду, и это тоже признал Вергилий; я горжусь таким признанием, и я в высшей степени счастлив, ибо тем самым поэма передается мне для вящей сохранности…
– Она твоя, Октавиан.
– Просто поскольку я поверенный римского народа; у других есть личная собственность, у меня ее нет, и ты это знаешь.
Теребя в суетливо-беспокойных пальцах отщипнутую от венка ветку лавра, Август стоял у канделябра – стоял овеянный, осененный, обрамленный лавром, красивый, элегантный, царственный, но все, что он говорил, хоть он сам в это и верил, было чистой ложью, ибо кто же не знал, что он весьма энергично и небезуспешно приумножал до гигантских размеров семейные владения и богатства Юлиев? Все знали. И верно заметил раб, к счастью никем не услышанный: «Ты лжешь, Цезарь». Или Август все-таки это расслышал, поскольку он, устремив взгляд на сундук с манускриптом, будто чуть улыбнулся в ответ?
– В каком бы качестве ты ни соблаговолил ее принять, я отдал поэму тебе, Октавиан; но взамен я хочу просить у тебя одной милости.
– Условия, Вергилий?.. А я-то полагал, что это замыслено как подарок ко дню рождения…
– Это подарок, и без всяких условий: тебе решать, окажешь ли ты мне просимую милость или нет.
– Что ж, выкладывай свои условия; я заведомо им подчиняюсь. Но помни о своих собственных словах, мой Вергилий! – И лукавая дружеская хитринка снова мелькнула в глазах Цезаря. – Щади побежденного и потому умеряй свою надменность.
«Будущее», – молвил раб из глубины толпы.
Да, о нем-то он все время и помышлял: будущее, неизмеримо глубокое будущее человека и его добродетели, будущее смирения, – но в какое поверхностное настоящее все это снова превратил Цезарь, как хитро все повернул… Ну что ж – пускай «Энеида» достанется ему.
– Ты ограничил право отпуска рабов на волю, Август; но позволь уйти моим.
– Что? Прямо сейчас?
– Какой странный вопрос! Сейчас или не сейчас – не все ли равно?
– Не сейчас, Август, но сразу после моей кончины. Таково будет мое завещание, а тебя я прошу подтвердить его.
– Да конечно, я это сделаю… Но ты подумал о своем сводном брате, Вергилий? Он ведь, насколько я помню, ведет твое хозяйство в Андах. Согласится ли он с таким распоряжением? Ему придется туго, если ты разом лишишь его всех рабов…
– Мой сводный брат Прокул уж как-нибудь управится. К тому же он человек добрый, и они, даже получив вольную, наверняка у него останутся.
– Ну что ж, это уже не мое дело, мне ведь надо только подписать… Право же, Вергилий, если это единственное условие, которое ты намеревался поставить, мы могли бы и не затевать столь затяжной спор.
– Может, в нем все-таки и был прок, Октавиан.
– Да, прок был. – Август кивнул с серьезным и добрым выражением лица. – Прок был, хоть ты и отнял у меня немало времени.
– Но еще остается завещание, Октавиан…
– Если я не ошибаюсь, ты уже давно оставил его у моего архивариуса.
– Да, но теперь его надо дополнить…
– Из-за рабов? Тут спешить некуда: тише едешь – дальше будешь; с таким же успехом ты можешь все это оформить в Риме.
– Да и еще кое-что надо изменить; я не хочу откладывать.
– Вот для себя ты спешишь, а для меня нет… Однако же насколько срочен твой документ – это решать только тебе, и я не вправе, да и не хочу препятствовать тебе оформить его именно сейчас; только у меня на это уже нет времени, и потому я попрошу тебя передать или переслать его мне позже, дабы я засвидетельствовал и скрепил его своей печатью…
– Плотий или Луций – или оба вместе – принесут тебе завещание, Август; благодарю.
– Время торопит, мой Вергилий; представляю, с каким нетерпением меня там ждут… Тем более что и Випсаний Агриппа наверняка уже прибыл… Мне пора…
– Да, тебе пора…
Таинственным образом комната вдруг опустела; они были одни.
– К сожалению… Пора идти…
– Мысли мои будут в пути с тобою, Октавиан.
– Твои мысли и твоя поэма.
Взмах руки Цезаря – и, будто возникнув из пустоты, два раба стали перед сундуком и ухватились за его скобы.
– Это они ее унесут?
Легкими быстрыми шагами Август приблизился к постели, и в тот момент, когда он чуть заметно склонился над ней, он снова был Октавианом.
– Ее сберегут, Вергилий, а не унесут. Пусть вот это будет тебе залогом.
И он положил на одеяло веточку лавра – ту, что все время держал в руках.
– Октавиан…
– Да, Вергилий…
– За многое тебя благодарю.
– Это я благодарю тебя, Вергилий.
Рабы подхватили сундук, и, как только они сделали с ним первый шаг, кто-то зарыдал, не в полный голос, но все же истово, с той безутешностью отчаяния, что прорывается чаще всего тогда, когда внезапно вторгается вечность в человеческую жизнь – когда, к примеру, погребальные слуги вздымают гроб на плечи, чтобы вынести его из комнаты, и родные вдруг разом осознают неотвратимость, вершащуюся на их глазах. То было рыдание пред ликом вечности, извечный вопль, посылаемый вослед гробу, и исторгся он из широкой, могучей груди Плотия Тукки, из его доброй и могучей человеческой души, из его растроганного и могучего сердца, – вопль, посланный вослед сундуку с манускриптом, что сейчас выносили из комнаты и что в самом деле был гробом, младенческим гробом, жизненным гробом.
И сразу снова потемнело солнце.
В дверях Август оглянулся еще раз; еще раз глаза друга отыскали глаза друга, еще раз встретились их взоры.
– Да покоится вечно твой взгляд на мне, мой Вергилий, – молвил, стоя в широко распахнутых дверях, Октавиан, на этот миг еще Октавиан, – чтобы вслед за тем, стремительный, грациозный, гордый и властный, удалиться как Цезарь; за ним по пятам, мягко ступая тяжелыми лапами, шествовал блекло-золотистый лев, за львом проследовал гроб, и многие из присутствующих потянулись за процессией.
Истовые влажные рыдания Плотия длились еще некоторое время, пока не перешли в затихающие всхлипы и вздохи, перемежаемые тяжкими выдохами – «уф-ф-ф!». Окончательно успокоился добрый Плотий лишь тогда, когда снова просветлел солнечный свет и голуби снова заворковали на подоконнике.
Да покоится вечно твой взгляд на мне… Таковы были слова Октавиана, так или примерно так они звучали, так они все еще продолжали звучать, оставшись здесь, все еще витая в комнате, все еще витая в воздухе, немеркнущие в своей неразрывной связанности с тем, кто теперь ушел навек, немеркнущие в полноте своего смысла. Неразрывной была связь, но Октавиан ушел – куда? Почему он ушел? Почему ушла Плотия? Ах, они ушли, как и столько других до них, канули в свои судьбы, канули в свои заботы, в свою надвигающуюся старость, в свою растущую с годами усталость, в свои седины и недуги, канули в белесый туман, из которого не доносится ни единого зова, – и все же, и все же остались незримые мосты, что когда-то и будто навеки вели к ним, остались незримые цепи, что когда-то и будто навеки к ним тянулись, незримые мосты, как венки из лавра, незримые узы, как нити из серебра; осталась нерушимость связи, созданной и скованной навек, связующей и устремленной – куда? В незримое Ничто? О нет, то незримое, что ждало на другом берегу, не было небытием, нет, при всей его незримости то было подлинное бытие, то был, как и прежде, Октавиан, была, как и прежде, Плотия, разве что оба они – и то было странно – полностью отринули от себя свои земные имена и земное обличье. О, как глубоко в нас, как неизбывно глубоко, недосягаемо нашему телесному распаду, вопреки отмиранию наших чувств, вопреки любой перемене, невредимо в бездонных глубинах нашей самости, нашего сердца, нашей души пребывает познание, себе самому незримо, неслышимо, ненаходимо, непостижимо, и оно ищет ответного познания в чужой душе, в чужом сердце, в чужих незримых глубинах, ищет свое отражение в чужом ответном познании, взывает к нему, дабы стало оно ему зримо, дабы пребывало оно вовек, – дабы вечно стояли мосты, вечно была натянута цепь, вечно ждала встреча, вопреки любым переменам, ибо только во встрече исполняется смыслом слово, исполняется смыслом мир, эхом откликается познание познанию. Зримая даже сквозь сомкнутые веки, зримая и полная смысла простиралась за окном необъятность мира, отрешенная, подернутая золотистой дымкой, лучистая, как вино, простиралась в недвижно-трепетном мареве яркого полдня над городскими кровлями, новыми и ветхими, темно-красными и в черную полосу, сверкающими и прокопченными, простиралась зримая и незримая, зеркало, жаждущее отражения, жаждущее парящего слова, жаждущее познания, которое хоть и было еще сокрыто, но уже реяло в воздухе, возвещая грядущее, возвещая неклятвопреступную легкость, возвещая причастность, содержащуюся в подлинном знании, возвещая красоту, вновь обретшую жизнь в законе, в законе неведомого бога, стоящего на страже клятвы; а потом, о, потом поднялись несколько голубей с подоконника, взлетели торжественно и шумно, сверкнули крылами в солнечной лазури и утонули в бездонной выси раскаленного полдня; так канули они в вышине и уплыли, исчезли из кругозора. О, да покоится вечно твой взгляд на мне…
Плотий вытирал слезы с мясистых щек.
– Вот дурак, – бормотал он, – и чего разнюнился? Из-за того только, что Вергилий наконец-то отказался от своей безумной затеи…
– Тебя, наверное, растрогали прощальные слова Октавиана…
– Ну уж нет…
– А мне пора приниматься за завещание.
– Это тоже не повод распускать нюни. Все люди делают завещания.
– А ты тут и ни при чем. Мне надо его составить, вот и все.
На этот раз возразил Луций Варий:
– Август совершенно прав, и я с ним согласен: ты спокойно можешь повременить до своего выздоровления, тем более что, как мы слыхали, завещание уже существует, составленное по всем правилам.
Плотий и Луций были здесь, в досягаемой зримости, и Лисаний ведь тоже, конечно, был здесь, просто затаился, наверное, где-то в глубине залы, да еще, чего доброго, и разобиделся, что его не позвали раньше и раб всецело завладел инициативой, – а кстати, где он? Раб-то где? Едва ли он присоединился к свите Августа, это на него не похоже, напротив, если уж где ему и быть, так в этой комнате, здесь его, что называется, законное место, а он вот исчез, и поди его найди; впрочем, это было не совсем так: стоило вглядеться внимательней, стоило чуточку сильнее напрячь глаза, как рядом с полновесной зримостью обоих друзей сразу начинало обрисовываться немало чего лишь наполовину зримого, вообще незримого либо еще не узренного, не созревшего для бытия, не созревшего для взора, и возможно даже, что все это – столь явственно, увы, он уже не мог различить – было одно с другим перемешано, особенно там, где плавали пылинки в косых лучах солнца, пронзавших эркер, там маячило и копошилось множество человекоподобных неприметностей, и почти можно было подумать, что устремившаяся из комнаты вослед Августу толпа или по меньшей мере часть ее теперь отхлынула назад и вернулась; стало быть, не стоило удивляться, что и тот, кого он искал, находился меж этих неясных обличий, только вот был он недоступен зову, ибо не хотел выдавать свое имя.
– Лисаний!.. – Если раб был недоступен зову, то к отроку-то можно было воззвать; пускай придет, пускай рассудит.
– Ты все время говоришь об этом Лисании, – заметил Плотий, – а он так ни разу и не появился живьем… Или он тоже имеет какое-то отношение к завещанию, на котором ты так настаиваешь?
Ни мальчик, ни раб прямого отношения к завещанию не имели, этого нельзя было отрицать; но и объяснить суть дела Плотию не представлялось возможным, проще было придумать отговорку:
– Я хочу отказать ему кое-что из утвари.
– Тем более он обязан наконец-то появиться; иначе я, право же, перестану верить в его существование.
Укор был несправедлив, поскольку отрок тут же и появился; всякий мог его увидеть, было бы только желание, и, если Плотий не видел, тем хуже для Плотия. Но все же, пожалуй, лучше было бы не звать Лисания, ибо сейчас он хоть и появился, но в двойном образе, и как отрок, и как раб, будто оба они носили одно и то же имя и оба – отрок и раб – на него откликались. В этом, собственно говоря, не было ничего удивительного, удивляться следовало скорее тому, что это их двойное явление лишено было всякого согласия отрок хоть и пытался приблизиться к кровати, но опередить своего более рослого и сильного напарника ему никак не удавалось: тот все время преграждал ему путь, и, спрашивается, куда же девалась вся смышленость и ловкость Лисания?
Плотий со вздохом направился к креслу, в котором сидел прежде.
– Вместо того чтобы полежать спокойно, как все тебе советуют, ты занимаешься крючкотворством – что добавить к завещанию, кому что отказать… Цезарь пробыл у тебя много дольше часа, и по твоему голосу чувствуется, как он тебя утомил… Что до меня, я бы поостерегся переубеждать такого упрямца…
– Да… – В задумчивом голосе Луция звучало нескрываемое любопытство. – Много дольше часа… И все это время вы только и толковали что об «Энеиде»?.. Нет-нет, можешь не отвечать, если ты устал…
Прочно воздвигнувшись подле кровати, раб будто нежданно вырос, стал выше и крупнее; безмолвный холод исходил от него, как от человека, вошедшего с мороза в теплую горницу, и кряжистая его фигура так собою все заслонила, что отрок хоть и взобрался на стол, чтобы заглянуть через плечо исполина, но это ему никак не удавалось.
– Пускай раб уйдет…
– Ах, это ты насчет завещания? – Плотий, уже усевшийся в кресло, огляделся по сторонам. – Да они все и так уж давно разошлись, так что спокойно можешь начинать.
Луций, привычными движениями расправив складки тоги, осторожно сел на табурет рядом с кроватью и, светски закинув длинные стройные ноги одна на другую, простер узкую длиннопалую кисть ладонью вверх в пояснительном жесте.
– Да, уж если Божественный разговорится, то это, как правило, надолго. А ведь, сказать по чести, он не ахти какой оратор – во всяком случае, не блестящий, если исходить из мерок, которые мы, живые свидетели классической поры римского красноречия, можем применить… Помните, какие в свое время гремели речи в сенате? Заслушаешься! Правда, по нынешним временам, когда никто вообще рта не раскрывает, хватает и Августова красноречия – как не хватать?.. Впрочем, Вергилий, я отнюдь не хочу впадать в ту же ошибку, что и он, да благословенно будет его имя; не хочу утомлять тебя…
Почему раб не двигался с места? Застыл как вкопанный, воздвигся, как ледяная глыба, как айсберг, разраставшийся все мощнее, он совсем уж заслонил хрупкого Лисания, и все грозней становился неотвратимый пронзительный холод, исходивший от него, и вместе с холодом тяжкими волнами накатывала усталость.
– Тебе явно нужен покой. – Рука Луция будто провела черту под этим приговором. – Тебе нужен покой, и, спроси ты врача, он бы наверняка это подтвердил; нам сейчас, пожалуй, лучше уйти.
Нужда в покое была несомненна, и такой сладко-заманчивой была эта нужда, принесенная хладными волнами усталости, грозная своей неотвратимостью… О, ее надо побороть! Ее надо во что бы то ни стало побороть! Луций более чем кстати завел речь о враче, и очень хорошо, что тот, следуя зову, во всей своей солидности и осанистости материализовался из туманного роя образов, чтобы столь же солидно и осанисто, с лощеной улыбкой на устах, приблизиться к ложу: «Ты выздоровел, Вергилий, и я рад и горд тебе это сообщить, ибо – скажу при всей приличествующей мне скромности – в столь благополучный исход немалый вклад внесло и мое искусство».
То была отрадная, хоть и не совсем ошеломительная весть.
– Я выздоровел…
– Это, пожалуй, слишком сильно сказано, хотя в общем и целом, благодарение богам, похоже, что так, – послышался из эркера голос Плотия.
– Я выздоровел…
«Скоро выздоровеешь», – поправил раб. «Отошли его, – голос мальчика прозвучал тихо и жалобно, – отошли его прочь, если хочешь выздороветь; он и тебя убьет».
Нахлынувшая хладная усталость стала почти осязаемой; исходящая от ледяного исполина, она сама стала глыбой льда, стала застывшей, сгустившейся волной, она обволакивала, окутывала, сдавливала и, огненно-жаркая в своем нутре, навязывала теплую дрему покоя этим обволакивающим оцепенением.
– Я выздоровел, врач не обманул.
– Вполне возможно насколько врач способен сказать полную правду; но правда, без сомнения, и то, что тебе надо вести себя как выздоравливающему, который не желает снова заболеть. – Луций встал. – А мы… мы теперь пойдем.
– Не уходите!
Голос ему отказал: призыва его они уже не услыхали.
«О, не держи их, пускай они уходят, пускай все уходят, – взмолилась Плотия, просительно, вкрадчиво, но и не в силах скрыть своего страха. – И этого прогони – смотри, он совсем завладел тобой; мои объятья нежней, чем его, а он омерзителен».
Только теперь он понял, что это руки исполина стиснули его в жарком леденящем объятье, это он поднял его с постели, поднял с самой земли, и это на необъятной груди исполина, в безмерности которой не билось никакого сердца и не теплилось никакого дыхания, предстояло ему обрести страшный и грозный, сладко-заманчивый покой неотвратимости.
Глиной была земля, с которой его подняли, но столь же землистой и могучей, как сама скудель земная, была грудь исполина, на которой он лежал.
«Он раздавит меня», – безнадежно вздохнув, прошептал отрок угасающим голосом. «Его время истекло, – сказал исполин, с неким даже подобием улыбки, – я его не коснусь, это сделает время».
Могуч, как Атлант, был исполин, все нес он – и землю, и покой, и смерть; почему же не время?
«Время не властно надо мной, – отвечала Плотия, я не старею; не допусти, чтоб он и меня убил».
Кого же спасать – Плотию или мальчика? Или себя самого? Завещание, «Энеиду»? Все огромней, мощней и тягостней сжималось кольцо, все льдистей, все пламенней, уже слились пламенность и льдистость в одно бытие, унося бытие к небытию, к их соединению, уже так сгустился покой, что почти ни единого звука не доносилось из него: ни единого звука, способного прорвать его, нерушим и плотен был покой, и уже не ради Плотии и не ради отрока, нет, ради собственной жизни надо было предпринять последнее усилие:
– Я хочу жить… о мать, я хочу жить!
Кричал ли он? И если то был крик – удалось ли этому крику прорваться сквозь границы покоя? Ни биения сердца, ни дыхания не было в груди исполина, не было их и в мире. И прошло немало времени, прежде чем рек исполин: «Не в ответ на мольбу женщины, не в ответ на мольбу отрока я отпущу тебя – и не собственного твоего страха ради: я отпущу тебя, ибо ты замыслил довершить земную свою службу». То было как напоминание, как заповедь; но, как бы то ни было, он почувствовал, что кольцо ослабло и исполин будто вознамерился положить его обратно на глинистую землю.
– Я хочу жить… хочу жить!
Да, теперь это уж точно был крик, крик в полном сознании голоса, в полном сознании слуха, крик хоть и хриплый, но достаточно громкий, чтобы напугать всполошившихся друзей; Плотий сорвался с места и, оттолкнув в сторону растерянного Луция, подбежал к ложу с укоризненным:
– Ну вот, доигрались!
Но кольцо разомкнулось, исполин исчез, пугающий соблазн рассеялся, и осталась всего лишь лихорадка, привычная лихорадка – она хоть и тоже налегала раскаленной ледяной глыбой на грудь и расплющивала дыхание в надсадный хрип, но все же была такая давняя его спутница, была так хорошо ему знакома, что даже терпкий вкус крови во рту уже не вселял в него паники; кругом были стены обычной комнаты, и в ней лежал обычный больной. На столе, съежившись, сидел Лисаний; он тоже был измучен и не спускал с него внимательных глаз.
– Доигрались… вот и доигрались…
Непонятно было, кому адресовалось укоризненное ворчание Плотия – самой ли болезни, больному или Луцию, – а тот сказал только:
– Врача…
Обычная комната, обычный больной; Лисаний тут, как ему и положено, но этим двум старикам, Луцию и Плотию, здесь нечего делать, и вот еще матери нет. Почему Плотий сидит на месте деда у окна? Должно быть, потому, что он такой же осанистый и грузный. Под его весом ножки кресла продавили рыхлые пыльные борозды в глинистой земле, а за окном убегали вдаль поля мантуанской равнины в полдневном сиянии солнца. Надо кликнуть мать из кухни:
– Пить…
Луций и оглянуться не успел, как Плотий, хоть и неуклюжий, но проворный, уже обнаружил кубок, наполнил его водой из фонтана, подбежал к кровати и поднес живительную влагу к ждущим губам больного, поддерживая другой рукой его голову.
– Ну что, полегчало, мой Вергилий? – осведомился он потом, еще не отдышавшись и весь вспотев от возбуждения.
Речь, похоже, не спешила возвращаться; пришлось поблагодарить Плотия кивком головы. Тут к тому же из кухни послышался голос матери. «Сейчас, сейчас, – весело кричала она, – сейчас мой малыш получит свое молочко». Ну вот, значит, мать еще жива; она не стареет, время не властно над нею, и это так отрадно душе. «Я все еще болен, мама?» – «Самую малость. Скоро мой малыш встанет с постельки и опять будет играть». Да, он опять будет играть, в кухне на полу, у ног матери, и в саду будет играть, в песке. Но как же, однако, мать дозволяет такую игру – ведь в игре этой лепится земная глина и, стало быть, повторяется и продолжается то, что делал отец, что делает бог? Не кощунство ли это над землею, желающей остаться бесформенной, не кощунство ли над земною скуделью, не предлог ли для грозного гнева всеведущей матери-богини? Сейчас, правда, не время было раздумывать над этим, ибо Плотий не разрешал: он все еще стоял у его ложа, и протягивал он ему не молоко, а воду, чистую, из земли поднявшуюся воду.
Еще один долгий глоток, потом погрузиться в подушки – вот и речь пришла:
– Спасибо, мой Плотий, теперь мне много лучше; ты взбодрил меня…
Из бурого рога была кружка, с вырезанными на ней контурами петуха. Добротная, надежная крестьянская кружка.
– Я позову врача, – настойчиво повторил Луций и направился к двери.
– Зачем его звать? – Странно было звать врача: он ведь стоял здесь, в комнате, и его несколько еще неверные, расплывчатые, туманные очертания как раз начали обретать прочность и плоть.
– Надо с ним посоветоваться, – размышлял Плотий, – не пустить ли тебе кровь. Меня, бывало, как прихватит – иной раз, пожалуй, крепче, чем тебя, – так сразу выпустишь несколько унций крови – и, глядь, уже очухался; тут-то и понимаешь, что эта разбойная процедура весьма полезна для здоровья.
Врач Харонд, расчесывая свою бороду, возразил: «Римская школа, римские методы лечения – это не для нас; в твоем случае надо не выводить жидкость из тела, а, напротив, вводить ее… Будь добр и изволь пить как можно больше».
– Дайте мне еще пить…
«Хочешь опять вина?» – спросил Лисаний и поднял чашу из слоновой кости. «Вздор! – прикрикнул на него врач. – Никакого вина; не суй свой нос куда не положено».
И впрямь, прохладная булькающая вода была лекарством.
– Я выздоровел; сам врач так сказал.
– Вот мы и послушаем его самого, – заметил Луций, берясь за ручку двери.
«Слабые повторные приступы вполне возможны, – сказал врач с лощеной улыбкой на устах, – то и был всего лишь слабый повторный приступ».
– Останься, Луций… Зачем поднимать суматоху из-за слабого повторного приступа? Я должен теперь продиктовать завещание.
Луций вернулся к столу.
– Ну хоть отложи до вечера. Обещаю тебе, что мы не уедем, не покончив с этим.
Нет, надо покончить сразу, сейчас, а то исполин подумает, что завещание было просто предлогом, чтобы ускользнуть от него. Не было ли все это вообще слишком жалкой и недостойной попыткой возврата к земному? Стыд затопил его существо, цепенящий и бичующий стыд, такой же цепенящий и бичующий, как ледяной жар лихорадки, по-прежнему не спадавшей, хотя и вызванной всего лишь слабым повторным приступом.
Писаний, так и сидевший, съежившись, на столе, попробовал спугнуть ее: «Лишь случайность постыдна, о Вергилий; в твоем же пути не было случайностей, все было необходимым».
– Кто проходит обратно свой путь, тот стыдится.
С тяжелым вздохом Плотий опустился на край кровати.
– А это еще как понимать?
– Завещание надо сделать безотлагательно. Я не отступлюсь.
– То, что ты отсрочку На несколько часов воспринимаешь как позор, просто уму непостижимо, и ты говоришь это не всерьез.
– В угоду Августу я отказался от своих намерений касательно «Энеиды»… Теперь вы хотите, чтобы в угоду вам я отказался от завещания?
– Мы заботимся только о твоем здоровье.
– Оно позволяет мне, даже понуждает меня идти вперед по своему пути. Я не хочу идти назад.
«Никогда я не вел тебя назад, – запротестовал отрок, – мы всегда шли вперед». – «А теперь куда?» Лисаний Молчал; он не знал ответа. Но тут вмешалась Плотия: «Он свершил свое дело, он привел тебя ко мне; теперь нам предстоит совместный путь, путь нашей любви».
– Но куда идти? Я должен один искать дорогу…
– Ты несправедлив, Вергилий, – сказал, насупившись, Плотий; он грузно сидел на краю ложа, и матрац под ним прогибался. – Ты несправедлив: ничто не дает тебе права так грубо отталкивать нашу помощь, нашу любовь.
Обычно такой шумный и властный, не допускавший никаких пререканий, Плотий сидел сейчас на краю ложа в полной растерянности, и столь же заметно поколеблена была обычная светская самонадеянность Луция. Они явно приготовились к покорности, к покорности воле больного, которым они прежде, при его податливости, почти всегда помыкали. Что вызвало столь разительную перемену? Просто ли повиновались они беспрекословной власти болезни, на которую они прежде, надо признать, не очень-то обращали внимание? Или они тоже ощутили наконец мощь некоего более властного голоса, стоящего за болезнью? Провозвестнического гласа любви, соединяющего в себе и жизнь и смерть? О, конечно же, ощутили – иначе не противились бы так последней воле, уже воле к смерти!
А Луций сказал:
– Не хочу с тобой спорить, но…
– Оставим все «но», мой Луций… Вон там, в углу, мои дорожные вещи, поищи в сумке письменные принадлежности и все, что надо…
Плотий несколько раз покачал головой.
– Хорошо, будь по-твоему, раз уж никакого сладу с тобой нет.
При такой их сговорчивости не очень-то было уместно или приятно сознаваться в телесной немощи; но, судя по всему, подступал озноб.
– Принесите мне еще только второе покрывало…
И без того насупленному лицу Плотия вновь набежавшая озабоченность придала еще более насупленное выражение.
– Ну вот, ты переоцениваешь свои силы.
– Второе покрывало… Только и всего…
– Я велю принести, – сказал Луций.
Но не успел Луций кликнуть слуг и отдать им приказание, как раб с покрывалом в руках был уже тут как тут, непроницаемо суров лицом, не исполин, а обыкновенный прислужник, бережно и в то же время проворно разостлавший второе покрывало, причем не забывший положить поверх него листик лавра, освященный прикосновением Августа, и все это произошло так молниеносно, более того, было так явно заранее отработано, что само собой напрашивалось сомнение, была ли и впрямь такая уж настоятельная нужда в покрывале – может быть, это был просто удобный повод вернуть раба? Или, напротив, удобный повод для раба снова проникнуть в комнату? Надо непременно выяснить.
– Разве ты только что не был здесь?
– Мне приказано больше не оставлять тебя.
Отрок Лисаний соскользнул со стола и подошел совсем близко – видать, не хотел, чтобы раб снова его оттер. «Без всякого приказа я оставался с тобой, без всякого приказа и останусь».
То, что говорил отрок, не заслуживало внимания, было почти как некий забытый, лишь с трудом вспоминаемый язык, в то время как слова другого, несмотря на неприступную суровость тона, странным образом внушали доверие. «Почему ты не пришел раньше?» – «То было время твоего служения; теперь настал мой черед служить тебе».
Встревоженный Плотий потрогал его ноги под покрывалом.
– Мой Вергилий! Они как лед!
– Мне теперь очень хорошо, Плотий…
– Хоть бы это было так, – сказал Луций, тем временем разложивший на столе письменные принадлежности. – Вот тут все, о чем ты просил.
– Дай мне лист.
Луций изумился:
– Что? Уж не хочешь ли ты писать сам?
– Я хочу увидеть пергамент… дай мне его…
– Не волнуйся, Вергилий. Вот тебе лист. – И Луций, открыв кожаную папку, взял из ровно и аккуратно сложенной стопы верхние листы и протянул ему.
О, то был хороший пергамент, в нем была та прохладная, чуть шершавая гладкость, какую любит перо, и так отрадно было провести по нему вялым кончиком пальца, будто собираясь приняться за письмо. А поднять его на свет – в матовом, цвета слоновой кости свечении проступает причудливый сетчатый узор. О, первое прикосновение пера к чистому белому листу, первая черта на пути к творению, первое слово у порога к бессмертию!








