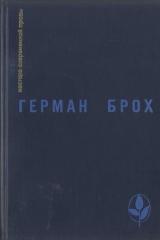
Текст книги "Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия)"
Автор книги: Герман Брох
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 49 страниц)
– Когда человек отрекается от познания, когда он утрачивает истину, он утрачивает и свою сопричастность творению; конечно, забота о творении – не дело государства, но урон, наносимый творению, колеблет и государство.
– Решение этого вопроса мы уж предоставим богам. А что до остального, то ты не можешь не признать, что я все-таки не сидел сложа руки; я заботился об успехах человеческого знания, насколько это было в моей власти, и впредь буду о том заботиться. Увеличилось число публичных школ – не только в Италии, но и в провинциях, и я уделяю особое внимание тем видам более основательного обучения, которые обеспечивают нам постоянный приток толковых врачей, зодчих, строителей водопроводов; я основал далее, как тебе хорошо известно, Аполлонову и Октавианову библиотеки, а уже существующие библиотеки постоянно обеспечивал новыми пополнениями. Но до этих начинаний народу заботы мало: народные массы хотят не накопленных знаний, а впечатляющих однозначных образов, смысл которых им понятен.
– Выше всех знаний стоит просто познание, и народ ожидает его в образе великого деяния, на познании зиждущегося.
Какое-то невеселое озорство промелькнуло в чертах Августа.
– В мире полно деяний, а вот с познанием не густо.
– Деяние, вдохновленное познанием, – это деяние клятвы.
– Но, Вергилий, трон мой и сан освящены клятвой, и все, в чем я поклялся, я сдержал… Это ли не деяние, зиждущееся на познании?.. Чего ты еще хочешь?
Ну почему бы не польстить тщеславию Цезаря желаемым ответом? Ведь так просто – и так уместно. Но что-то принуждало его к возражениям и разъяснениям.
– Конечно, труд твой – деяние, деяние во исполнение клятвы, и потому за ним неизбежно последует деяние, зиждущееся на познании, преобразующее деяние познания, деяние истины, – но речь-то у нас сейчас идет о человеческой душе, Август, а вот с ней надобно терпение… – О, несмотря на усталую раздраженность, даже враждебность в мине Цезаря, он должен, должен был это высказать, раз уж в самом деле речь шла о человеческой душе и о ее пробуждении к бессмертию. – Да, своими деяниями ты распространил мир, принесенный Риму, на всю землю, ты создал единое государство, этот великий символ, и, когда к нему добавится еще деяние во имя истины, которое одарит человека благом всечеловеческого божественного познания и соберет отдельных граждан в единую людскую общность, тогда, о Август, твое государство преобразится в вечную реальность творения… тогда лишь, тогда оно придет… чудо…
– Ты, стало быть, настаиваешь на том, что государство в его нынешнем виде – это всего лишь непрочный, легковесный символ…
– Нет, подлинный символ.
– Ну хорошо, подлинный… Но ты настаиваешь, что свой реальный образ он обретет лишь в будущем…
– Истинно так, Цезарь.
– И когда наступит это твое чудо? Когда произойдет это превращение в реальную действительность? Когда?
– Требовательно и сердито, прямо-таки воинственно глядело теперь на него красивое лицо.
– Когда, о боги? О когда, когда? Когда оно возможно, всеохватное творение, не скованное формой, не подверженное случаю? То все во власти неведомого бога, оплота незыблемых клятв. Но тем временем вдруг перестала колебаться земля, мерно скользила ладья, и хоть снова затруднилось дыхание в легких, в глотке, в носу, но дышало сердце, и сердце знало, что в нем неугасимо трепещет еле слышное дыхание души, не дыхание даже, а дуновение, всего лишь дуновение, но такое сильное, что казалось, оно вот-вот вихрем пронесется над миром и сметет скалы с лица земли. Когда, о когда? Где-то дышал тот, что это свершит, где-то жил уже и, еще не рожденный, уже дышал; однажды было творение, однажды будет оно, будет чудо, неподвластное случаю. И посреди тающего тусклого света, далеко-далеко, в неоглядной дали на востоке, снова встала звезда.
– Однажды придет тот, кто будет владеть познанием; в его бытии будет избавлен мир – для познания.
– Неплохо было бы тебе все-таки ограничиться более земными целями; ты все ставишь задачи, превышающие пределы земного, а для них моей жизни уже не хватит.
– Это задачи избавителя.
– Но ты приберег их для меня… – так ведь?
– Избавитель побеждает смерть, и побеждающим смерть ты явился миру, ибо принес ему мир.
– Это не ответ. Ведь я принес всего лишь земной мир, земную придал ему оправу, земной он по сути своей… Ты хочешь сказать, что я способен на осуществление всего лишь земных задач?
– В сыне того, кто обожествлен, люди уже сейчас видят спасителя, который призван избавить их от несчастий.
– Так говорят люди, так говорит народ… но что скажешь ты, Вергилий?
– Двадцать лет тому назад, когда я начал «Георгики», а ты был еще юношей, – еще тогда я видел твой образ в кругу светил зодиака. Ибо ты означаешь смену времен.
– Как ты писал тогда?
– «Новой примкнешь ли звездой к медлительным месяцам лета
Меж Эригоной и к ней простертыми сзади Клешнями?
Их Скорпион пламенеющий сам добровольно отводит,
Освобождая тебе в небесах пространства избыток».
– Хорошо, это ты написал двадцать лет назад… А сейчас?
– Ты был зачат под знаком Козерога; его, с неприступных круч устремляющегося к высочайшим земным вершинам, – его ты избрал своим знаком.
– Земные вершины… А неземное, сверхземное мне, стало быть, заказано.
– Вспомни, Август, стихи, что написал в твою честь Гораций.
– Какие?
– «Мы верим: в небе – гром посылающий царит Юпитер; здесь же – причислится к богам наш Август»[35]35
Перевод Н. И. Шатерникова.
[Закрыть].
– Ты уходишь от ответа, Вергилий; цитируешь стихи бог весть какой давности, и цитируешь других, а свое собственное мнение утаиваешь.
– Мое собственное мнение?
Как далеко был Август! Слова скользили туда-сюда, странно было их парение, но моста они уже не образовывали.
И раб сказал: «Не заботься о том, уже не стоит».
– Мое собственное мнение?
– Да, его-то я и хочу услышать, и без всяких уверток.
– Ты смертный человек, Август, хоть и первый среди живущих.
Гневной молнией сверкнул взгляд – Цезарь ожидал услышать совсем другое.
– Я знаю, что я не бог и не новая звезда, и нечего мне об этом напоминать; я гражданин Рима и никогда не считал себя никем другим; на мой вопрос ты все еще не ответил.
– Спасение всегда приносится земным созданиям, Август, и спаситель только и может быть земным и смертным, лишь голос его нисходит с горних высей, лишь голосу этому обязан он тем, что может взывать к бессмертному началу в человеке, жаждущему спасения. Ты же своим деянием подготовил почву для такого божественного обновления мира, и мир, внемлющий голосу, – это и будет твой мир.
– Так почему же ты отрицаешь мое призвание к последнему нам предстоящему шагу? Почему ты отрицаешь, что дело мое, за которым ты все-таки признаёшь заслугу подготовления, призвано еще и принести окончательное спасение миру? Почему ты отрицаешь, что символ, который ты все-таки видишь в создании рук моих, уже сам заключает в себе реальность? Почему ты отрицаешь, что я, деяниями своими как-никак заложивший первый камень, не могу быть равным образом способен и к деянию, зиждущемуся на познании?
– Я не отрицаю этого, Октавиан; ты символ бога, ты символ римского народа. Никогда ты не оказался бы к тому призванным, если бы символ, олицетворяемый тобой, не нес бы на себе еще и черты своего праобраза. Не в ком другом, а в тебе созреет однажды деяние, зиждущееся на познании. Пока еще просто не пришло время.
– Уж слишком ты вольно, скажу я тебе, обращаешься со временем правда, только когда речь заходит обо мне; себе самому, своим намерениям ты назначаешь куда более близкие сроки… Скажи уж лучше напрямик, что нечего мне соваться в дело избавления.
Это должно было прозвучать шутливо, но неулегшееся возмущение явственно слышалось в голосе Цезаря.
– Даже сам спаситель и его истина, даже он вплетен в мировую ткань, в сеть времени и познания, и он придет, когда созреет время.
Цезарь взвился со стула.
– Ты оставляешь его миссию за собой!
Ах, не прав ли был Цезарь? Не был ли он в такой степени прав, что едва ли и сам подозревал? Не дремлет ли жажда стать спасителем, великая эта мечта в каждом поэте – сильней и могущественней, чем в любом другом человеке? Не возмечтал ли однажды о том же Орфей, скликая к себе и чаруя даже бессловесных тварей, дабы их спасти – дабы их очеловечить? О нет, нет, тысячу раз нет! Негодным средством было и остается искусство, и даже Орфей познал это на себе. Гласу Сивиллы внемлет поэт – то глас Эвридики, глас Плотии, – но никогда не находит он золотую ветвь избавления. Так судил бог, так судил рок.
– О Август, поэт всего лишь писарь, разве он живет? А вот избавитель живет – сильнее, чем кто-либо другой, ибо жизнь его и есть действенное познание, – его жизнь и его смерть.
Возмущение Августа разрядилось улыбкой, и даже благожелательной.
– Ты будешь жить, Вергилий, ты снова обретешь силы и закончишь свой труд.
– Даже если б мне суждено было выздороветь… чем совершеннее стала бы поэма, тем дальше она была бы от спасительного деяния, тем непригодней к нему.
– Ну что ж, значит, мы оба не свершим спасительного деяния – ни ты, ни я, – и придется нам предоставить это самому спасителю, тому, о котором ты мечтаешь и в которого мне лично трудно поверить. А пока, до его пришествия, мы должны будем и дальше выполнять наш долг – ты свой, я свой…
– Нам надо готовиться к его пришествию.
– Хорошо. Труд моей жизни и так ведь означает подготовительную работу для него. Но и твой труд тоже, так что уж придется тебе завершить «Энеиду» для своего народа…
– Я не могу ее завершить – и не вправе ее завершать… тем более не вправе, что это была бы самая ошибочная подготовительная работа.
– А какая же была бы правильной?
– Жертва.
– Жертва?
– Да.
– Во имя чего же ты хочешь жертвовать? И кому?
– Богам.
– Боги установили порядок угодных им жертвоприношений, вверили их попечению государства, и я забочусь о том, чтобы на всей его территории жертвы совершались неукоснительно и в соответствии с установленным порядком. Право жертвоприношения – прерогатива государства.
Август был непреклонен, он и знать не хотел о клятве, приносимой неведомому богу; бесполезно было его убеждать.
– Да не дерзнет никто, о Цезарь, посягнуть на охраняемые тобой священные обычаи веры, но неприкосновенность еще не означает невозможность дополнения.
– Каким же образом их дополнять?
– Каждый может быть призван богами к жертве, каждый должен быть готов к тому, что они, буде станет им угодно, изберут его жертвой.
– Если я правильно тебя понимаю, ты хотел бы, чтобы народная общность впредь совершенно исключалась из решения вопросов о жертвенных ритуалах, чтобы ее заменил единичный человек, по роду занятий своих сведущий в потусторонних материях; право же, Вергилий, это недопустимо, это более чем недопустимо. Вот ты все ссылаешься на волю богов, дабы придать своим рассуждениям видимость правоты и ответственности. Но все это куда как безответственно, и уж боги-то менее всего снимут с тебя ответственность за подобные намерения, богам, как и народу, вполне довольно добрых старых обрядов и правил жертвоприношения. Их нельзя преступать ни на шаг.
– Но их преступают самым чудовищным образом, Август! Смутным инстинктом предчувствует народ, что зреет новая истина, что уже готовы расторгнутые старые формы, смутно ощущает он изжитость старых жертвенных ритуалов и, гонимый слепой жаждой новизны, гонимый слепой жаждой жертвы, рвется то на площадь, где совершаются казни, то в цирк, где для него устраиваются игрища, он алчет нечестивых, ложных жертв, приносимых на кровавый алтарь жестокости, дабы только опьяниться хмельным угаром крови и смерти…
– Варварскую дикость я сковал цепями порядка, в русло игры отвел необузданную жестокость. Да, у римского народа крутой нрав, но так оно и должно быть, и жертвенные предчувствия тут ни при чем.
– О, у народа есть предчувствия, и их у него больше, чем у отдельного человека. Темней и грозней чувство народа, чем разум единичной души, темней и грозней, яростней и бессвязней его вопль об избавлении, о спасителе мира. С содроганием вперяется он в кровавые жертвы, творимые на плахе и на арене, ибо предчувствует, что из этой крови восстанет подлинная жертва, родится истинное жертвенное деяние, которое станет последней и решающей формой познания на этой земле.
– Загадочны глубины твоей поэмы, Вергилий, но сейчас ты и сам говоришь загадками.
– Во имя любви к людям, во имя любви к человечеству принесет себя в жертву спаситель, сама смерть его станет деянием истины, и деяние это швырнет он в лицо вселенной, дабы из высочайшего и реальнейшего этого образа действенной помощи родилось и выросло новое творение.
Цезарь запахнулся в тогу.
– Я поставил свою жизнь на службу своему делу, на службу общему благу, на службу государству. Моя потребность в жертве тем удовлетворена. Советую и тебе последовать моему примеру.
Чем это они все еще перебрасываются? Это уже ничто, пустые слова или вообще не слова, мечущиеся в пустом пространстве да и оно уже даже не пространство. Как пусто, как невероятно пусто и ничтожно все… Бездна без моста.
– Твоя жизнь была деянием, Цезарь, деянием в общности и ради общности; ему ты отдал себя без остатка. Боги избрали и призвали тебя для такого жертвенного служения, они тебя тем отметили, и потому ты, как свидетельствует все твое бытие, стал к ним ближе, чем любой другой смертный.
– Так каких же ты еще хочешь жертв? Всякое истинное дело требует всего человека, всей его жизни; не иначе было и с тобой, насколько я могу судить, и ты также можешь спокойно рассматривать свою жизнь как жертву.
Полнота и многоликость бытия поблекли, клубились зыбким туманом в беспредельной пустоте; ни единой линии не было видно, ни даже смутной тени линии – где же тут место для встречи?
– Мое дело – плод себялюбия; оно едва ли дело вообще и уж никак не жертва.
– Так последуй же моему примеру: исполни свой долг, отдай народу то, что принадлежит ему по праву, – отдай ему свои творения.
– Как всякое творение искусства, моя поэма порождена слепотой… ложной слепотой… Все, что мы создаем… лишь плод слепоты… а для подлинной слепоты нам не хватает смирения…
– Стало быть, и мне? И созданному мной тоже?
– Нет больше полноты бытия…
– Что?
– Не стоило дальше говорить; можно было только повторяться.
– Твое дело вершилось в народе и в народе стало деянием; я же свое дело приношу народу извне – и не во имя служения делу, а во имя признания и успеха.
– Довольно, Вергилий! – Цезарь уже не скрывал своего крайнего нетерпения. – Если публикация «Энеиды» представляется тебе таким уж корыстным поступком, то распорядись опубликовать ее лишь после твоей кончины.
– Тщеславие поэта переживает смерть.
– Что ты хочешь сказать?
– Моя поэма не должна пережить меня.
– О боги! Да почему, почему? Назови, наконец, истинную причину!
– Поскольку я не сумел принести в жертву свою жизнь, как это сделал ты, я должен принести в жертву свою поэму… Она должна кануть в забвение, и я вместе с ней…
– Это не объяснение, это просто бред!
– Растленность памяти… я хочу забыть… все забыть… и чтобы меня забыли… Так надо, Август.
– То-то порадуешь ты своих друзей! Право же, Вергилий, на твоей памяти было бы меньше греха, если б ты вспоминал о них чуть сердечней, а не измышлял всякие пустые и злонамеренные пожелания. Да это даже и не пожелания – пустые и злонамеренные увертки!
– Деяние еще предстоит нам, спасительное деяние, зиждущееся на познании; ради него, ради клятвы ему я должен это свершить… Спасение только в клятве… для всех и для меня.
– Ах, опять ты за свое – спасение, спасение… А оттого, что ты это свершишь, твой спаситель не явится ни на день раньше; зато ты ограбишь всех нас, ограбишь свой народ, и вот это ты считаешь своим спасением! Это бред, чистый бред!
– Нет, истина, лишенная познания, – вот она бред; а я говорю об истине, зиждущейся на познании… В ней нет бреда, она – реальность.
– Ага, стало быть, есть два рода истины? Несущая познание для тебя, лишенная познания – для меня… По-твоему, это я брежу? Ты это имеешь в виду? Тогда так и скажи!
– Я должен уничтожить то, что лишено познания… В нем все зло… узилище… несвобода… Жертвой мы приближаем освобождение… Это наш высший долг… Лишенное познания должно уступить место познанию… Лишь так я могу послужить всем нам – и спасению народа… Закон истины… пробуждение из дремоты…
Быстрые резкие шаги – и Цезарь встал над самым ложем.
– Вергилий…
– Да, Август?
– Ты ненавидишь меня.
– Октавиан!
– Не называй меня Октавианом, раз ты ненавидишь меня!
– Я… я – ненавижу тебя?
– И еще как ненавидишь! – Голос Цезаря сорвался в крик.
– О, Октавиан…
– Молчи!.. Ты ненавидишь меня, как никакой другой человек на земле, ненавидишь так, как никакого другого человека на земле, потому что ты мне завидуешь больше, чем кому-либо другому.
– Это неправда… неправда…
– Не лги. Правда.
– Нет, нет… Неправда это…
– Правда! – Цезарь был в гневе, и рука его яростно обрывала лавровые листы с венков канделябра. – Правда! О, ты ненавидишь меня, потому что сам только и думаешь что о славе царя, да вот оказался слабоват, не сделал к тому ни малейшего шага; ты ненавидишь меня, потому что тебе пришлось скрепя сердце загнать свои державные мечты в поэму, чтобы хоть там предстать могущественней своих царей, ты ненавидишь меня, потому что мне удалось неустанным трудом добиться всего того, о чем ты мечтал для себя, – и при этом я настолько глубоко это все презираю, что даже позволил себе отказаться от императорского венца, ты ненавидишь меня, потому что хочешь возложить на меня ответственность за собственную немощь… Вот в чем твоя ненависть, вот в чем твоя зависть!
– Октавиан, послушай меня…
– Не хочу слушать!.. – Цезарь кричал, и – как странно! – чем громче он кричал, тем снова богаче становился мир вокруг: зримый мир по всей своей полноте и многоликости, снова всплывший из небытия; тусклая омертвелость ожила снова, и это было как надежда.
– Послушай, Октавиан…
– Зачем, скажи на милость? Зачем?.. Сначала ты с ханжеской скромностью разбранил свои творения, чтобы тем легче было унизить и труд моей жизни, потом ты этот труд объявил вообще легковесным символом, да чего уж там – пустым фантомом; более того – ты оклеветал римский народ и веру его отцов, она тебе не мила, ибо в ней воплощен мой труд, и потому тебе надобно непременно ее реформировать; и, прекрасно зная, что ничем тебе это все равно не поможет, прекрасно зная, что я сильнее тебя и всегда буду сильней, прекрасно зная, что тебе со мной не совладать, ты теперь напускаешь туману, воспаряешь в потусторонние миры, куда не угнаться за тобой ни мне, ни другим, и хочешь посадить мне на шею какого-то спасителя, которого нет и не будет вовек, но руками которого ты хотел бы меня скрутить… Знаю я тебя, Вергилий, ты прикидываешься тихоней, для народа ты сама чистота, сама добродетель, но на самом-то деле твоя чистейшая душа так и кипит ненавистью и злобой, – да, я повторяю, кипит самой низкой, самой гнусной злобой…
Божественный, вне всякого сомнения, перешел на брань, на тон самой площадной перебранки. Но странно – это принесло такое облегчение, от этого было так хорошо – о, как хорошо, что это еще возможно! словно в незримой пустоте вдруг всплыла снова незримо-твердая земля, та незримо-твердая почва, с которой сейчас взметнутся и протянутся незримые мосты, человеческие мосты человечности, соединяя слово с ответным словом, скрещивая взгляд с ответным взглядом, так что и слово и взгляд снова наполнятся смыслом, – мосты человеческих встреч! О, только бы он говорил, говорил!
И Август говорил – нег, кричал, продолжал кричать и уже не знал совсем никакого удержу в своей разнузданной, захлебывающейся брани:
– Повадки у тебя куда как хороши – ты и чист, и добродетелен, и скромен, – да только вот уж больно чист, больно добродетелен, больно скромен, так что впору и усомниться… Твоя скромность никогда не позволила бы тебе занять какой-нибудь пост, вздумай я его тебе предложить, да я бы и не осмелился, куда там, ведь на самом-то деле такого и поста не измыслишь, чтоб на тебя угодить, какой тебе ни предложи – сенатора, проконсула, хоть и того выше, – ты нашел бы, к чему придраться, да и вообще, взять пост из моих рук для этого ты слишком сильно, слишком глубоко меня ненавидишь! Да, из ненависти ко мне тебе пришлось взяться за сочинительство, соорудить себе пьедестал поэтической свободы, ведь того, чего ты на самом деле требовал от меня, а именно чтобы я отступился, уступил тебе свое место, этого ты бы от меня не дождался и не дождешься! Я уж не говорю о том, что ты бы и от этого поста отказался, ибо ты до него еще не дорос и в сознании этой своей неспособности вынужден презирать и его… Все ты делаешь из ненависти, а поскольку ты это делаешь, твоя ненависть распаляется снова и снова…
– Никогда я не ставил звание поэта выше какого бы то ни было другого, каким ты желал бы меня облечь.
– Молчи и не отнимай у меня больше время бесконечными лицемерными словесами… Ты всегда спал и видел, чтобы я сложил свои полномочия – может быть, затем, чтоб тебе удобнее было их презирать, – и отсюда все твои разглагольствования о познании, эти бредовые мудрствования насчет жертвы, эта угроза уничтожить «Энеиду» – уничтожить затем только, чтобы дать мне урок, урок того, как надо отрекаться от собственного дела… О да, тебе легче развеять в прах «Энеиду», чем лицезреть и далее плоды моих трудов!
Под ливнем этой брани снова восстанавливалась слой за слоем полнота бытия, и комната, которую мерил сильными быстрыми шагами разъяренный Август, превратилась снова в обыкновенную земную комнату, по-земному размещенную в пространстве дома, поземному обставленную утварью обихода, – земную комнату в свете позднего полудня. Теперь можно было даже и дерзнуть вступить на незримый мост.
– Октавиан, ты обижаешь меня, глубоко обижаешь…
– Ах, я обижаю тебя? Я обижаю? А «Энеиду» ты все-таки хочешь уничтожить, только чтобы мне ее не посвящать! Меценату ты посвятил «Георгики», Азинию Поллиону «Буколики», и все глазом не моргнув! А от меня, которого ты ненавидишь, ты хотел отделаться «Комаром», для меня и «Комар» сойдет, он для меня, по-твоему, как двадцать пять лет назад был хорош, так и сейчас в самый раз – ты хочешь доказать, что лучшего я никогда не был достоин, ни тогда, ни теперь… А то, что я за эти двадцать пять лет свершил свое дело и это дает мне право на «Энеиду» – мое дело, плоды моих трудов, реальность Рима и его духа, все, без чего и «Энеида» никогда бы не смогла возникнуть, – это все тебе поперек горла, это выше твоих сил, и ты готов скорее уничтожить «Энеиду», чем посвятить ее мне…
– Октавиан!..
– Тебе наплевать, что чье-то дело – твое ли, мое ли превозмогает и жизнь и смерть, тебе наплевать, ибо тебя душит ненависть…
– Октавиан, возьми поэму!
– Не хочу, не возьму, не нужна она мне; держи ее при себе…
– Октавиан, возьми поэму!
Из света, разлитого за окном, вдруг исчезла вся его бумажно-белесая тусклость, исчез этот оттенок бумажной трухи, и почти слоновой костью отливало теперь его мерцание над далью ландшафта.
– Я и знать не хочу об этой поделке… Распоряжайся ею, как хочешь; не нужна она мне.
– Она не поделка.
Цезарь остановился и метнул взгляд на сундук.
– Для меня она теперь поделка: ты сам ее так унизил.
– Ты знаешь, что она с самого начала предназначалась тебе, что, когда я писал ее, мыслью я был постоянно с тобой, что ты навсегда вошел в нее – и навсегда останешься в поэме, обращенной к тебе…
– Это ты лицемерил перед самим собой – и передо мной. Может быть, ты и прав, считая меня слепым, да, я слеп, как котенок, преступно слепой была моя вера в тебя, преступлением было так долго доверять тебе и твоему лицемерию!
– Я не лицемерил.
– А если не лицемерил, значит, именно поэтому ты ненавидишь сейчас свою поэму – ведь в ней запечатлены мои черты.
– Я завершу ее для тебя.
– И ты думаешь, я тебе поверю? – Снова Цезарь покосился на сундук, и это неприятно кольнуло душу; но ничего уже было не изменить.
– Можешь поверить, Октавиан.
О, даже если наикратчайшая гаснущая секунда вылетит искрой из человеческой души, чтоб тут же кануть в бездну времен, она все равно будет необъятней любого дела рук человеческих, и такая вот секунда отделилась от души Цезаря, секунда дружбы, секунда приязни, секунда любви, явственно ощутимая, хоть он и молвил всего лишь:
– Ну, мы это обдумаем.
И тогда настало самое трудное:
– Забери манускрипт с собою в Рим, Октавиан… А я, коли будет на то воля богов, потом найду его там – когда вернусь…
Цезарь кивнул, и на краткий миг этого кивка воцарился глубочайший покой, покой согласия, того согласия, что, подобно дуновению, излетает из человеческого сердца и сквозь все незримости всякий раз достигает другого человеческого сердца, – всеобъемлющее могущество тишины, и бурый накатный потолок стал снова лесом, из которого принесены были бревна для его балок, лавровый аромат венков стал снова ароматом самых укромных, самых потаенных сеней, ароматом, осевшим под лавиной солнечного света в бездонности листвы, – о, неуловимый аромат, обвеянный журчаньем ручьев, тиховейный, как звук болотной свирели, – и все же невозмутимо твердый, и все же, как дуб, весомый и прочный, и дуновение невыразимости сердца было в то же время дуновением вечной проникновенности. Не это ли дуновение шелохнуло лампу в последний раз, и цепь покачнулась с серебряным звоном? Все замерло вокруг, невозмутимо покоились воды, будто затаив дыхание; остановилась ладья. И Август, стоя под лавролиственным вязом, ухватившись рукою за одну из ветвей, – Август сказал: «Помнишь, Вергилий…» – «Да, многое помню, а все равно мне мало…» – «Помнишь тех коней и псов, что мы вместе с тобой отбирали?» – «Как же, помню: ты покупал, а я все прикидывал, насколько они быстроноги и надежны», – «То были кротонские жеребцы и кобылы и иберийские псы». – «Одного жеребца я не советовал тебе покупать, а ты все-таки купил, Октавиан». – «Да, в лошадях ты разбирался: жеребец и впрямь оказался никуда не годным». – «Ты купил его втридорога, а мог бы сэкономить деньги, я ведь правильно тебе советовал». – «Но иногда полезно не следовать твоим советам, Вергилий», – «Почему же? Впрочем, все это давние дела». – «Очень давние. А жеребец уж больно мне тогда приглянулся – вороной, голова маленькая. Жалко». – «Да, жалко. Вороной, с белыми бабками. Но на задние ноги был слабоват, хоть это и не бросалось в глаза». «Верно, на задние ноги слабоват, но ни единого белого пятнышка, с чего ты взял?» – «Ну что ты, Август, бабки были белые». – «Если уж я раз увидал животное, оно так и врезается мне в память, уверяю тебя, конь был без единого пятнышка». – «В Андах мы вырастили немало лошадей, всех не упомнишь; но тут я совершенно уверен, тут меня никто не переубедит, даже ты, Октавиан». – «Ты как был, так и остался упрямым крестьянином». – «Да, я крестьянин и сын барышника; еще мальчишкой я перемахивал через ивы, вцепившись в гриву коня». – «Если клячи, на которых ты скакал, были такие же резвые, как твоя память, то тут нечем хвастаться». – «Никакие они не клячи». – «И память у тебя никакая не память; моя куда лучше», – «Мне наплевать на то, что ты Август, будь ты хоть сто раз Август, а бабки были белые – белые как снег». – «Можешь злиться, сколько тебе угодно, это все равно без толку – не были они белыми». – «А я говорю: были, и все тут». – «А я говорю: не были». «Право же, Октавиан, не спорь, перестань; помереть мне на этом месте, если бабки не были белые». И тогда Август, до сих пор стоявший с опущенной головой, задумчиво, будто желая удержать не только воспоминание, но и эту тишину, поднял голову: «Нет, на это мы спорить не будем, это я запрещаю, ставка слишком велика; тогда уж пускай лучше бабки будут белые». И тут они оба рассмеялись, беззвучный смех обуял их, беззвучно мерцающий переливчатый смех, и он чуть щемил грудь, видимо, и Августу тоже, потому что по его вдруг омрачившемуся печалью лицу – уж не слезы ли сверкнули в его далеких глазах? – видно было, что смех тот и у него болезненным комком засел в груди и горле, сдавил их, как смех во сне, щемил и душил, ах, ведь никто не смеется во сне, да и отрадная тишина, их обступившая, вдруг стала до боли неуловимой, улетучилась в тот самый момент, как Август, будто пробуждаясь от нее, поднял голову. Тишина ушла.
Не надвигалось ли снова солнечное затмение? Не приближалось ли вновь колебание земли и морей, сотрясаемых конями Посейдона? Не они ли спугнули тишину? Нет, опасения были напрасны: по-земному мягко и мирно разгуливали воркующие голуби по подоконнику; мягко лилась песня, мягко лился свет, отливая слоновой костью, и, хоть ладья снова тронулась в путь, нечего было опасаться, пока она и дальше так уверенно и мягко скользила по глади вод. Но все-таки явственно слышен был стук конских копыт, и не прошло и мгновенья, как он уже был тут как тут, прискакавший по воздуху конь, и мальчишка на крупе, задорно вцепившийся в веющую гриву, задорно понукающий коня. То был не вороной – то был белый как кипень конь, но с черными бабками, и, когда отрок на полном скаку спрыгнул с него пред Цезарем, конь продолжал свой галоп и исчез за окном. А отрок приблизился к Цезарю, приблизился как вестник былого, с увенчанной головой, как дароносец, и таковым его принял Цезарь. «Приветствую тебя, – сказал Август, все еще стоя у канделябра и держась рукою за лавровую ветвь. – Ты принес мне в дар поэму, и я приму ее из твоих рук, ибо ты – Лисаний; я узнал тебя, хоть я никогда не был в Андах, и ты тоже узнал меня». – «Ты Цезарь Август, Божественный Октавиан». – «Как ты нашел дорогу ко мне?» И отрок прочел:
– «…Вот Цезарь и Юла потомки:
Им суждено вознестись к средоточью великого неба.
Вот он, тот муж, о котором тебе возвещали так часто:
Август Цезарь, отцом божественным вскормленный, снова
Век вернет золотой на Латинские пашни, где древле
Сам Сатурн был царем, и пределы державы продвинет,
Индов край покорив и страну гарамантов, в те земли,
Где не увидишь светил, меж которыми движется солнце,
Где небодержец Атлант вращает свод многозвездный.
Ныне уже прорицанья богов о нем возвещают,
Край Меотийских болот и Каспийские царства пугая,
Трепетным страхом смутив семиструйные нильские устья».
Так читал отрок, и возникавший в этих стихах образ, тревожный, почти перехватывавший дыхание, всплывал не из памяти – памяти ли отрока или его собственной, – а из неведомости вечносущего, – тусклый, немой, едва намеченный штрихами, но и полный трепетного ожидания, грозовой образ.
Однако времени на раздумье уже не оставалось, ибо Август, с одобрительной миной внимавший стихам, подытожил:








