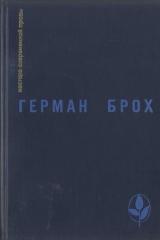
Текст книги "Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия)"
Автор книги: Герман Брох
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 49 страниц)
…искал, о, как искал, – был низринут титан, и поколенья героев и смертных в череде бесконечной, служа богам, поколенье за поколеньем взрастали в послушании долгу, в готовности к смерти, и забыли они, что кровь титанов струится в их жилах; но приходит однажды великий и страшный миг, когда вновь закипает она, и запоздалый потомок, в час роковой рожденный для доли титана, снова, подобно предку, сотрясает просторы творенья, и вопиет к небесам ожившая память о давнем злодействе, и, навек уязвленный ею, замышляет он страшную месть за убийство праотца, коего ощущает в себе; и упорно ползет он к вершине, цепляясь за скалы, дабы ослепить светоносного бога, дабы низвергнуть отца-громовержца, и близка уж удача, ибо вот он исхитил из ока отца искрометное пламя, – но вновь побеждает Зевес и, прочь отшвырнув титана, пригвождает его к каменистой почве подножья; и опять торжествует долг, и, подвластна руке Солнцебога, катится в высях огненная колесница, и вершит в ней свой путь по небесному своду стрелок светозарный, сияющий лучник, бессменно венчая зенит…
…– и, окруженный разлившимся светом, раб продолжал свою речь: «Меня ты не звал никогда, даже если и мнил, что зовешь; я был навязан тебе; служа, я был тебе долгом…»
…искал, о, как искал, – бежал побежденный титан; но за спиною его, зажигаясь от искр уносимого пламени, вспыхнули светом бессчетных созвездий небесные сферы, и, хоть не смог он похитить еще и божественный лук, чтоб, нацелив его на отца, самому прародителем стать и, время остановив, избавить от ига его тех, что впредь должны народиться, – о, хоть не смог он, не смог обессмертить имя свое избавленьем от бремени долга, – все равно милосерднее стало отныне сияние пажитей неба, и в милосердном звездном уставе смягчились и долг, и цепи, и смерть…
…– теперь заговорил отрок: «Я Лисаний, Вергилий; когда началась твоя жизнь, младенчески-беспечальна, с улыбкой взяла тебя на руки мать, и нет той улыбке названья…»
…– и снова голос раба: «Имени нет у меня, как меня ни зови ты, Вергилий; безымянность та необъятна и вечно твою наготу осеняла, чтобы укрыть тебя наконец…»
…искал, о, как искал, – о, возвращенье! Соединились концы и начала, и властвуют боги, все еще властвуют стройный порядок и долг. Так повелел светоносный бог: в жизни да будет тобою постигнута смерть, чтоб она тебе жизнь озарила; лишь тому, кто дойдет до истока, – о истина, память богов! – кто узрит предначальные корни в бездонности воспоминанья, лишь тому засияет в конце бесконечность начала, и глубины минувшего станут надежным залогом памяти о грядущем; все уплывает, течет, но будь властелином потока, и тебе покорится смерть. Неизбывна бездна былого и безымянна. Смерти служат музы; весталкам подобно, хранят они огнь золотой Аполлона, извечный священный костер.
Вот они оба пред ним, отрок и раб, – и открылась тайна того, что, казалось, навек потерял он, и во всем ее великолепье жизнь предстала пред ним, осененная таинством смерти, вещее истины знанье, вещее знанье любви, не замутненный безумием разум истины, чуждой безумья, – все восстало из небытия, все вернулось – преображенным и вечным. О великое чудо, безмерное, как реальность! О возвращенье!
Отрок ли, раб ли маячил пред ним? Вот раба послышался голос:
– Если приближусь к тебе я теперь, мой вечный хранитель, то не как принужденье, а лишь как помощь тебе.
Снова отрока голос, чище и звонче:
– То, что незримо вело тебя, ныне тебя отпускает, ибо служенье раба стало служеньем твоим. В вечных исканьях обрел ты теперь того, кто искал тебя вечно.
Строго ответ прозвучал – и все же утешно:
– Все земное да будет чуждо тому, чей жребий очерчен служеньем; нет у него ничего своего – ни имени и ни воли; и судьбы своей нет, коли он во младенчество ввергнут. Но чем более наг он, тем зримей ему откровенье; лишь кто цепи влачит в наготе, тот, не мудрствуя, душу откроет упованью смиренному на милосердие свыше; и он снова сумеет заплакать, и сохранить надежду на чудо, и, униженный малый ребенок, самым первым узрит он свет.
Переплелись голоса – каждый эхо единого гласа, – и в узорном созвучье возвысился отрока голос:
– Выход и вход – им едины врата; ты дитя и в конце и в начале, ты, укрытый под сенью любви.
Но, будто слезное эхо, будто стон всеохватного горя, тут слова раба прозвучали:
– Тяжким ярмом согбенны, отцовского зова не зная, крыл материнских не зная, дней прошедших не числя, дней грядущих не видя, скованы сирота с сиротою, мы всего лишь смерды и быдло, в бесконечную цепь нас спаяла судьба, нас, нагих пред судьбою, но и даровала милости благо – видеть брата во брате.
– Наго все человеческое в каждом своем явленье, наги приход его и уход, и беззащитно-нагую плоть кровавят долга оковы; но столь же наг и титан, нагота геройство его, и, когда поднимается он на отца, нет на нем охранных покровов, и пылают нагие ладони его, в коих он несет на землю похищенный светоч.
С отроком странно согласный, как будто друг другу они отвечали, речь ту дополнил раб:
– Мощью оружия праотец был сокрушен, и с тех пор, повторяя убийство снова и снова, в громе оружия люди себя истребляют; превращая собратьев в рабов, сами стали рабами оружья и готовы взорвать мирозданье, чтобы, вспыхнув вселенским пожаром, в ледяную пустыню затем превратилось оно. Тот лишь по праву герой, кто умеет сносить безоружность.
– Правда, и ты воспевал оружье, Вергилий; но не сердитый Ахилл, а смиренный Эней твоему был любезнее сердцу.
– Вечная доля раба – безоружность и беззащитность; но, в беззащитности страждущим, нам растворяются склепы, и оживает застывший в безмолвии камень и трепетно дышит, прикосновенью покорствуя нашей руки.
– Безоружны конец наш и жизни новой начало, и из камня ночного к зениту возносится бог милосердный, и младенчеству новому радо творенье.
– Ибо ты нас узрел, Вергилий, ты зрел наши цепи, и, поскольку твой взор омрачился и плакал, прозрел ты начало, что несут наши слезы с собой.
Так промолвил другой – и умолк, превратившись снова в непроницаемого служителя, покорно застывшего у дверей.
– Ты прозрел начало, Вергилий, но сам ты еще не начало; ты услышал голос, Вергилий, но сам ты еще не голос; ты почуял биение сердца вселенной, но сам ты еще не сердце; вечный вождь ты, Вергилий, но цель тебе недостижима; и бессмертье свое обретешь ты как вождь, что еще не привел, но ведет нас, – вот твой жребий на всяком изломе времен.
– Вместе с нами влачишь ты ярмо, о Вергилий, но цепь твоя ныне ослабла.
Наступила тишина, и они прислушивались к ней – прислушивались втроем к разливающемуся вокруг свету. И был тот свет как шелест, как шелест спелых колосьев, золотой шелестящий солнечный дождь, ласка и ливень, невыразимый благовест, возвещающий неутраченное благо провозвестнического гласа. Рассветный гимн, сиянием реющий над тьмой.
И тогда отрок сказал, поднявши руку:
– Видишь звезду? То восходит знак путеводный..
И восстала ночная звезда на пурпурно-солнечном небе, и, лия ласкающий свет, плыло созвездье к востоку.
Рухнув ниц для молитвы, прижавшись лицом к полу, сначала замерев в недвижности, затем с воздетыми руками поднявшись на колена, раб молился, чуть покачиваясь взад и вперед.
– О неведомый из неведомых, незримый из незримых, неизреченный из неизреченных, в бесконечности высится престол Твой. Ты возвещаешь о себе чрез око Твое, слепящее нас с высот, оно светлее дня и все же лишь тень сокровенного бытия Твоего, отсвет темноты Твоей, отсвет отсвета. Оку моему, взору моему, сугубой тени сей, озаренной отсветом отсвета Твоего, сугубому отсвету сему дозволено вознестись к Тебе не дабы упокоиться в Тебе, а дабы в муке и прозрении возвернуться назад. Лев и телец улеглись в ногах Твоих, орел взмывает к Тебе. Око Твое – речь Твоя, и грозен гром гневной брови Твоей. Никто не осилит Тебя – ни тот, что дерзает похитить огонь с небес, ни тот, что укрощает тельца, ни тот, что самочинно нарекает себя праотцем, – никто не осилит Тебя. Ты же посылаешь в спасители того, кто не возмущается. И в отсвете вестника Твоего, из сияния Твоего рождается, младенцу подобно, звезда, и, покорствуя воле Твоей, плывет она в небесах, держа путь свой туда, где пребывал Ты однажды и снова пребудешь с наступлением дня. Для смерти Ты создал меня, и я образ ее. Но вместе с созданием Твоим, о незримый в незримом, Ты создал и благо возврата, возврата в лоно отчизны, и когда низойдет в дол наш звезда, когда Ты, о безымянный в безымянном, возгласишь имя, что принял Ты, дабы шествовать по земным путям и умереть на земных путях, и, зримая земным очесам как другая твоя ипостась, в коей Ты снова вознесешься к себе самому, преображенная в прежний свой свет, снова солнцем, снова единым всеохватным оком станет звезда, – тогда дозволь мне, из рабов рабу и последней тени безымянности Твоей, причаститься имени Твоему, лику Твоему, сиянию Твоему, о неведомый из неведомых, незримый из незримых, неизреченный из неизреченных, о мой владыка, коего я славлю и днесь и вовек.
Поднялся полуденный ветер, невесомое и порывистое лобзание жизни, еле слышным дуновением повеял он с юга, нахлынул нескончаемым тихим потоком – дыхание мира, бескрайнее море, ежедневно выступающее из берегов, дыхание исполняющихся и вечно не исполненных времен, над коими странствует звезда: легкий дух плодоносной земли, дух маслины, лозы и пшеницы, дух раденья и простоты, дух хлевов и давилен, дух общины и мирного дня, дух беспредельно раскинувшихся земель, беспредельно распластавшихся пашен, дух любовно вершимых трудов, дух полудня; о великая святыня полудня, покоящаяся над миром и мирами, как золотая колесница, что, достигнув зенита, для священного отдыха остановила свой бег! Тихо покачивалась в дуновении лампа, серебристо позванивала цепь.
Как коротка человеческая жизнь! Ни на что ее не хватает. О лоно памяти, о лоно отчизны, о возвращенье домой!
И там, в глубинах неведомого, незримого, неизреченного, божественно-отрешенного, – там владычествует он, тот, чья тень есть свет, тот, о ком вещает предчувствие, а не знание, тот, кого наречь мы не в силах, сокровенный из сокровенных. Не ему ли в священном трепете поклонялись жители селений, полагая, что живет он в капитолийском бору? Не воздвигнуто ему статуй и воздвигнуто быть не может, ибо сам он себе символ, – но в символе гласа он возвещает о себе. О, отверзни зеницы, дабы узреть любовь!
И высоко-высоко над реющим дуновеньем, над полдневным этим хоралом, над ровным теплым потоком, полным трепетной любви человека к земле, полным жестокой любви земли к человеку, – высоко над ним плыла ночная звезда, тоже символ, символ невыразимой любви, жаждущей снизойти в земную юдоль, дабы возвысить земное до горних солнечных далей. Так покоился полдень в дыханье земли и неба, и отдыхала огневая упряжка, отдыхали колеса, отдых вкушал Солнцебог.
Было ли то, что он испытывал, счастьем? Он не знал, да и едва ли хотел знать; но то, несомненно, была надежда, такая могучая, что, подобно слишком яркому свету или слишком мощному звуку, она была уже и непереносима, и он даже почувствовал облегчение, когда ослепительное недвижное действо вдруг оборвалось Не мог бы он и сказать, как долго оно длилось. Но когда оно оборвалось, когда полдень снова пришел в движение, когда тронулась вновь колесница и бесследно растаяла в небе странствующая звезда, тогда растворилась дверь, растворилась как услужливая лазейка, дабы сквозь нее, востроногий, мог проворно ускользнуть отрок, а на самом деле растворил ее упитанный бородач, каковой и воздвигся в дверном проеме с торжествующе-благосклонной улыбкой, словно преподнося свою персону в дар; не обращая внимания на прошмыгнувшего мимо мальчика, он поднял руку в знак приветствия, и нетрудно было признать в этом человеке обещанного ему врача: бесспорным свидетельством тому были и осанка, и замашки, и весь его вид, более же всего короткая окладистая русая борода, ухоженная борода ученого мужа, в которую будто нарочно вотканы были серебряные нити – добротное и надежное серебро лет; а если бы все-таки возникли сомнения, их окончательно развеяла бы оснащенная инструментами свита, выступавшая, пожалуй, еще и важнее своего предводителя, и уж тем более профессионально отшлифованное, светски-непринужденное приветствие, без запинки слетевшее с его улыбчивых уст:
– Я шел к выздоравливающему, а пришел к выздоровевшему.
– В самом деле. – Ответ вырвался мгновенно и прозвучал с большей убежденностью, чем он от себя ожидал.
– Для врача нет ничего отраднее, как получить подтверждение своего диагноза, а уж от такого великого поэта и подавно… Однако если ты заявляешь, что здоров, только чтобы отвязаться от врача… как там говорил твой Меналк? «Нынче тебе не сбежать»…
Прыть этого придворного врача его раздражала, хотя едва ли какому больному под силу не поддаться таинственным чарам целительства; но прислали бы к нему лучше простого сельского костоправа – с тем было бы о чем потолковать. А теперь, хочешь не хочешь, придется довольствоваться этим.
– Никуда я от тебя не сбегу… а стихи забудь.
– Забыть стихи? Если б не твой бодрый вид, я бы подумал, что в тебе говорит лихорадка, Вергилий! Нет уж, ни ты от меня не сбежишь, ни я не забуду твоих стихов, тем более что родство наших с тобою предков, Феокрита и Гиппократа, – они ведь оба уроженцы Коса – позволяет мне льстить себя притязанием на родство с тобой.
– Приветствую родича.
– Я Харонд Косский. – Это было сказано со всей весомостью, приличествующей прославленному имени.
– О, ты Харонд… стало быть, ты уже не учишь на Косе; многие о том наверняка сожалеют…
В его словах не было упрека – скорее удивление человека, для которого возможность учить всегда была высокой и, в сущности, недостижимой целью. Но он ненароком затронул больное место придворного врача, и тот стал защищаться.
– Я последовал зову Августа отнюдь не из корысти! Пекись я только о наживе, я бы просто пользовал и дальше своих состоятельных пациентов, в коих, право же, не было недостатка. Но кто станет думать о наживе, когда представляется возможность служения священной персоне самого Цезаря Августа! К тому же я надеюсь, что вблизи кормила государственного правления, к коему и я ныне имею скромную причастность, я смогу осуществить не одно благое начинание для науки и пользы народной может быть, даже и больше, нежели своим учительством… Мы собираемся возводить новые города в Азии и Африке, без советов клинициста тут не обойтись, – это я лишь к примеру… О, конечно, я не без душевной боли расставался с учительством, ведь в иные годы я обучал по четыре сотни учеников зараз, а то и более… Раскрывая свою душу в этой полуоткровенной, полукичливой болтовне – великодушный друг, предлагающий дружбу, – он уселся на кровать, дабы с помощью песочных часов, по его мановению переданных ему одним из сопровождающих санитаров, проверить пульс. – Так, теперь полежим спокойно, сейчас все будет готово…
Песок в склянке сочился тонкой струйкой, неслышно, зловеще, с какой-то стремительной медленностью.
– Пульс не имеет значения…
– Помолчим секундочку… – И сразу часы остановились. – Ну, чтобы он так уж не имел значения, я бы не сказал…
– Ах да, Герофил настаивал на важности пульса!
– О, великий александриец! А насколько больше он мог бы свершить, присоединись он к Косской школе! Ну, это все давние дела… А что до твоего пульса, то я хоть и не назвал бы его плохим, но в общем-то он мог бы быть и значительно лучше…
– Это ни о чем не говорит… Меня немного потрепала лихорадка, оттого и пульс… Тут я спокоен; что-то я еще помню из своих занятий медициной – не совсем забыл…
– Собратья по ремеслу – самые плохие пациенты, тут уж я, право, предпочитаю поэтов – впрочем, не только больных… А как у нас с кашлем? С мокротой?
– Слизь с кровью… но так, верно, и надо: соки стремятся обрести равновесие.
– Гиппократу честь и хвала… Но все-таки не забыть ли нам на время о перекличках между медициной и поэзией?
– Да, о поэзии надо забыть… большего она не стоит. Стать бы мне в свое время врачом…
– Я готов поменяться с тобой местами, как только ты выздоровеешь.
– Я здоров. Я сейчас встану.
Опять ему представилось, что это сказал его устами кто-то другой, действительно здоровый.
В мгновение ока врач сбросил с себя светски-непринужденную личину, то равнодушное проворство, которое так раздражало; глаза на гладком улыбчивом лице – темные глаза с золотыми искорками в глубине – стали вдруг цепкими и пристальными, истинно озабоченными, и с этим взглядом плохо согласовывалась бодрая, почти веселая речь:
– Я, право, искренне рад тому, что ты считаешь себя совершенно здоровым, но, как говорит Август в таких случаях, тише едешь – дальше будешь… Выздоровление тоже идет со ступеньки на ступеньку, и, как далеко ты продвинулся по этой лестнице, позволь уж судить твоему врачу…
Испытующий взгляд, веселая речь все это настораживало.
– Ты полагаешь, что мое выздоровление слишком далеко продвинулось… что я чувствую себя уж слишком здоровым… Ты полагаешь, это эйфория?
– Ах, Вергилий, кабы так, мне оставалось бы только пожелать тебе долгой и счастливой эйфории.
– Это никакая не эйфория. Я здоров. Мне надо на берег моря.
– Ну, на море я тебя не пошлю, этого не жди, а вот в горы скоро отправлю… Если б я был вместе с Августом в Афинах, я бы в два счета отправил тебя в Эпидавр на лечение; уж я бы настоял, будь уверен… А теперь придется обходиться здешними средствами, насколько возможно… Но ничего невозможного нет, если врач и пациент проявляют обоюдную волю к выздоровлению… Как насчет завтрака? Чувствуешь аппетит?
– Мне нужна ясная голова.
– А это уж куда бы лучше… Где тут прислужник? Начнем с горячего молока… Пускай раб сбегает на кухню.
Раб, с неподвижным лицом стоявший позади свиты, повернулся к двери.
– Нет, его не надо… Он пускай будет тут… пускай готовит мне купанье…
– С купаньем сегодня повременим… а потом, что ж, попробуем и купанье; то, что Клеофант еще двести лет назад говорил о действии купаний, не устарело и сейчас… Природа человеческая не меняется, и однажды найденная истина остается истиной, несмотря на все новые лекарства, какими нас сегодня пичкают…
– Если не ошибаюсь, старик Асклепиад тут тоже на стороне Клеофанта.
Замечание это вызвало всплеск возмущения, на который он рассчитывал и, можно сказать, даже надеялся, хотя ответ прозвучал вполне сдержанно.
– О-о, этот старый вифинский лис… послушать его, так он навечно взял себе в аренду у богов воду, воздух и солнце… Между тем я совсем еще молоденьким лекарем – когда об Асклепиаде мало кто и слыхал – уже добивался замечательных результатов в лечении купаньями… О, я чту его, разумеется, хоть и не исключаю, что он тогда пронюхал об этих моих успехах. Мое убеждение таково: мы, врачи, существуем для спасения людей, и всякие тяжбы насчет того, кто что придумал первым, все эти недостойные цеховые склоки решительно надлежало бы запретить… Врач должен набираться опыта, постепенно давать ему созревать, а не трубить громогласно о своем первенстве… Я еще тридцать лет назад мог бы написать трактат о пользе купаний, но я этого не сделал… Сколько вреда нанес тот же старик Асклепиад своими писаниями о пользе вина! Как тут не сказать, право, что он принужден лечить купаньями только потому, что перед этим слишком многих залечил возлияньями…
Он залился звонким, гладким смехом – будто одна стеклянная пластинка плашмя ударялась о другую и еще чуть проскальзывала по ней.
– А ты, стало быть, вина ни под каким видом не пропишешь?
– В разумных пределах? Отчего же? Я просто не намерен спаивать пациента. Тут уж Асклепиад глубоко заблуждается… Ну, это все к слову. А ты пока не получишь ни вина, ни бани – всего лишь горячее молоко…
– Молоко? Это тоже лекарство?
– Хочешь называй это завтраком, хочешь – лекарством, все едино. Или у тебя аппетит на что-нибудь другое?
– Как в ребенка, в него сейчас вольют молоко; врач тоже пытается превратить его в ребенка. Надо возмутиться, нельзя этого так оставлять.
– Ночь была скверная… такая душная… – Иссушенные лихорадкой пальцы зашевелились сами собой, будто желая показать воочию, как им нужна влага. – Мне надо помыться.
Но возмущение не помогло. Раб выскользнул из комнаты, невзирая на его протест. Неужто он все-таки предатель? О, и кубок исчез со стола, и мальчика наверняка они спугнули. Что здесь происходит? Пальцы продолжали свою самочинную неудержимую пляску, и до боли жало кольцо, будто стало ему вдруг мало. Зачем все это? Почему его не оставят в покое, наедине с отроком и рабом? Почему его снова и снова ввергают в это многолюдное одиночество? Не дают даже сесть на стульчак!
– Мне надо оправиться… И помыться…
– Разумеется, тебя сейчас помоют, да и не только тебя – помещение тоже надо почистить, ибо Август, как мне велено было передать, пожелал приветствовать тебя здесь собственной персоной… Сейчас мой помощник обмоет тебя теплым раствором уксуса…
Тут уж приходилось сдаваться без боя.
– Августу я рад… Все приготовьте.
– Уже готовим, готовим; но сначала примем вот это лекарство, мой Вергилий. – И врач протянул ему бокал с прозрачной жидкостью.
Жидкость вызвала в нем безотчетный страх.
– Что это?
– Отвар из зерен граната.
– Это безвредно…
– Решительно безвредно. Он всего лишь повышает восприимчивость желудка. После неспокойной ночи – ты ведь неспокойно провел ночь – это крайне необходимо.
Напиток был чистая горечь.
– Гость подчиняется уставу дома, и я тоже подчиняюсь: кто сплоховал и провинился, должен повиноваться.
– Кто болен, должен слушаться; это первое требование врача.
– Оно и верно… всякая болезнь – это провинность… оплошность…
– Оплошность природы.
– Больного… Природа не может сплоховать.
– Хорошо хоть, что ты не говоришь – врача.
– Но, оказывая помощь, и он берет на себя долю вины; он лжеисцелитель.
– Смиренно принимаю эту участь, о Вергилий, тем более что ты и сам еще подумываешь стать врачом.
– Я так сказал?
– Сказал.
– Я был болен всю свою жизнь; лжеисцелитель сидел во мне… оплошность за оплошностью…
– Ты, видно, слишком тщательно штудировал труды нашего досточтимого друга Асклепиада, мой Вергилий.
– Почему?
– Ну, его учение о том, что правильный образ жизни помогает избегнуть любого недуга, весьма сходно с твоей теорией – об оплошностях, выражением коих является любой недуг… При всем моем уважении к вам я рискнул бы назвать это несообразностью и даже полнейшей бессмыслицей, граничащей уже со знахарством, с верой в волшебные исцеления… Да это и неудивительно, если вспомнить о блуждающих атомах, которые, по убеждению Асклепиада, бродят туда-сюда по нашим членам…
– Ты такой противник волшебства, Харонд? А возможно ли вообще исцеление без волшебства? Я-то скорее сказал бы, что мы просто разучились волхвовать.
– Что до меня, то я верю только в любовные заклинания твоей волшебницы, вернувшие ей Дафниса, о Вергилий.
Давно позабытое странно и сладко всколыхнулось в душе. Дафнис! Эклога волшебницы! Разве он не ощущал уже тогда, что любовь превыше всякого волшебства? Что любая горесть, любая оплошность – удел лишь того, кто плохо хранил любовь? Кто не любит, того поражает недуг, и лишь тот, кто снова пробуждается к любви, обретает силы для выздоровления.
– О Харонд, всякий врач, владеющий истинным целительным волшебством, избавляет больных от их провинностей и оплошностей; так, верно, делаешь и ты, часто сам того не ведая.
– И не хочу ведать – ибо не могу видеть в болезни провинность. Заболевают даже звери и дети – а уж они-то провинностей не совершают. Тут Асклепиад, при всех его заслугах, заблуждался самым решительным образом.
Поставлен вровень с ребенком, даже ниже – со зверем… Унижен недугом… Тогда уж лучше воспользоваться им и забиться еще глубже, затаиться у тех пределов, что лежат глубже младенчества, глубже животности…
– О Харонд, как раз звери стыдятся болезни и забиваются в самые глухие углы.
– Я, конечно, не ветеринар, Вергилий; но по своим пациентам знаю, что большинство из них были весьма даже горды своей болезнью.
Это было брошено уже несколько небрежно, ибо расчесывание бороды – дело серьезное и никаких от влечений не терпит, а именно этим и занялся теперь Харонд ведь придворный врач обязан навести на себя лоск перед визитом Цезаря; вот он и извлек ручное зеркальце вкупе с гребенкой из складок тоги, скособочился, дабы уловить наиболее благоприятное освещение, и самозабвенно погрузился в совершенствование своей представительной русой бороды. Не прерывая этого занятия, он добавил в пояснение к сказанному – точнее, пробормотал, потому что нижняя губа у него была оттопырена и поднята вверх, чтобы лучше напряглась кожа:
– Сильнее тщеславия больного разве что тщеславие врачевателя.
– Да, что верно, то верно: как бы сильно мы ни стыдились болезни, всегда останется место для тщеславия ею, для высокомерного тщеславия жертвы, гордящейся своим подвижничеством, благо болезнь избавляет от суетливых забот пола, благо всякое желание и все достойное желания тускнеет, меркнет в глазах больного… Тщеславие саморазрушения… Но именно поэтому – или вопреки этому:
– Дай мне зеркало.
– Позже, сначала мы тебя принарядим; сейчас у тебя вид… несколько запущенный.
– Уступи тщеславию больного… Дай зеркало.
И когда ему дали зеркало и оттуда глянуло на него такое знакомое и такое чужое отражение собственного лица, строгоотчужденное и все же заискивающее, – столько слоев под оливково-смуглой небритой кожей, столько вопросов в темных, с черными полукружиями глазах, столько отречений в сухих и тонких, отвыкших от поцелуев губах, – когда он глянул в это глядящее на него испитое лицо, безропотно хранившее в себе все лица прожитой жизни, целую бездну, наполненную лицами прошлого, пропасть, в которую проваливалось одно лицо за другим, чтобы тем не менее навечно в ней сохраниться, как сохранилось, зеркально напечатлевшись, лицо матери в лице ребенка, хоть и не достались ему ее светлые глаза, – о, когда он глянул в эту анфиладу лиц, он узрел и последний лик, уже обрисовавшийся, уже готовый влиться в их череду, лик его надежды, лик, в который он хотел преобразиться силой болезни, и то был предсмертный лик отца, лик умирающего гончара, возложившего ваяющую длань на голову отрока и возгласившего прозвание его; странное умиротворение исходило от этого лика, другие лица потускнели, растаяли за ним, и достигнуто ль это было тем или иным путем, и была ли тем верным путем болезнь – здесь, у этой черты, все было почти безразлично…
– Ты врач, исцели же меня, дабы я мог умереть.
– Никто из нас не всесилен – ты сам ведь так пел, о Вергилий; в моих силах только исцелить тебя к жизни, что с Эскулаповой помощью я и сделаю.
– Велю держать для него петуха наготове.
– Чтобы он пробудил тебя для бессмертия? О Вергилий, для своего бессмертия ты уже не нуждаешься в смерти, и давай мы лучше примемся за другое дело помоем тебя, побреем, – чтобы Цезарь не застал нас врасплох; время подгоняет.
– Надо и волосы подстричь…
– А ну-ка, дай сюда зеркало, Вергилий; твое тщеславие не знает границ! Кудри у тебя, конечно, не по-придворному уложены, но укорачивать их сейчас, на мой вкус, излишне.
– Жертве обрезают волосы на лбу – таков обычай.
– У тебя поднимается жар? Или это дань твоей вере в волшебные исцеления? По мне, так изволь, лишь бы толк был. Чем мои методы лечения не грешат, так это закоснелостью; льщу себя надеждой, что в том одно из моих преимуществ… Мы можем подстричь тебе волосы в знак так называемой жертвы, но тогда тем более надо спешить.
Таким тоном говорят с ребенком, делая вид, что уступают его капризу, чтобы тем вернее добиться от него послушания. Однако была ли его мысль о жертве абсурдной или нет все равно ему оставалось только покориться. И безвольно он покорился тому, что вершилось над ним в согласии с распоряжениями врача. Расторопные руки подхватили его, отнесли к стульчаку, и врач с заботливостью няньки наблюдал за ним, пока он не управился, а потом подытожил:
– Ну вот, теперь мы еще немножко посидим на солнышке и не спеша выпьем молоко.
Укутанного в одеяло, его усадили на солнце у окна, и он медленно отхлебывал горячее молоко, тонкими теплыми струйками просачивавшееся в темноту тела. Раб стоял перед ним наготове, чтобы принять чашу. Но взгляд раба был устремлен за окно – суровый, неприступный и по-прежнему покорный взгляд.
– Видишь хромоногого?
– Нет, господин. Какого хромоногого?
В доме стояла беготня и суета: убирали цветы, вяло свисавшие с канделябра и источавшие приторный дух увядания, обновляли свечи, мыли пол, выносили простыни. Врач, снова вооружившись зеркалом и гребенкой, приблизился к нему.
– О каком хромоногом ты говоришь?
– О том, хромоногом в ночи…
В новом вопросе прозвучала озабоченность, но и видно было, что врач честно силился понять:
– A-а, ты имеешь в виду Вулкана? О котором писал в своей «Этне»?
Озабоченность была почти трогательной, попытка уразуметь почти забавной.
– О, поэму забудь, мой Харонд. Не захламляй свою память моими стихами, тем более этим ранним и неуклюжим опусом, который мне по закону-то следовало бы переписать.
– «Этну» ты хочешь переписать, а «Энеиду» сжечь?
Неподдельная растерянность, с какой это было сказано, еще усугубила комичность ситуации. А между тем, наверное, и в самом деле стоило бы вернуться к замыслу об Этне – и теперь с большим мастерством, с большей серьезностью, с большей прозорливостью, чем когда-то, подслушать и запечатлеть хромоногого кузнеца в беснующихся пламенах его подземных копей – ослепленного навек ржаво-багровым светом Орка, но и узревшего в этой своей слепоте – о, слепота поэта! – свет горних высот: Прометей, воплощенный в Вулкане, обетование счастья в злосчастье.
– Нет, мой Харонд; я просто хочу сказать – забудь и ту и другую.
И опять было чрезвычайно трогательно видеть, как просияло лицо врача, когда все-таки обрисовалась возможность общего языка:
– О Вергилий, требовать невозможного – это, конечно, привилегия поэтов, но память нельзя усыпить по приказу… Ах, Вергилий! «Все, что в оные дни замыслил Феб и блаженный слышал когда-то Эврот, что выучить лаврам велел он, все он поет…»
– …«и к звездам несут его голос долины…» – тихо прозвучало продолжение из далей, наполненных эхом, и само оно было зеркальным эхом, отражением растаявшего голоса отрока.
К гулким просторам небес взмыли звуки, увлекая ввысь за собой разноголосицу дня, повседневный гомон трудов и забот, гомон кузниц, лавок и очагов, тысячегласую перемешанную и переплавленную массу шумов, смесь и сплав городских запахов и голосов, – невесомый хаос дня взмывал к небесам и уже не внушал тревоги, как и примешавшиеся к нему воркование голубей и гам воробьев. Над черепичными крышами, в черных полосах или черными сплошь, трепетала легкая кромка дыма, там и сям под лучами дневного светила, затуманенного тусклого солнца, вспыхивали то медь, то жесть, то свинец, и в полуденном мареве небо тоже стало тусклым и блеклым; безоблачно-чистое, но и лишенное лазурной своей резкости, вздымалось оно над полдневным трепетаньем земли.








