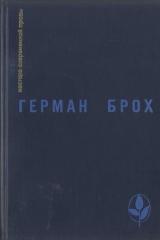
Текст книги "Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия)"
Автор книги: Герман Брох
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 49 страниц)
Внезапно Церлина вынырнула из прошлого и заметила, где была. И с большим тщанием стала разглаживать салфетку под вазой, словно выискивая невидимую складку, чтобы придать смысл бессмысленному занятию. Но власть прошлого все еще не отпускала ее.
– Несет и несет меня по годам, и годы проходят, но это остается, хоть тысячный раз расскажу, а все же не могу отделаться… И когда А. хотел что-то сказать, она весело сама себе возразила: – Да и хочу ли отделаться-то? И снова принялась за свой рассказ: Не поверишь, жалко мне было госпожу баронессу. Давно уж это началось, когда я еще простаивала, прислушиваясь, у дверей ее спальни – и хоть бы малейший скрип или шорох, и пусть я рада была, что господину барону с его-то строгостью ничего и не нужно, но все же в чем-то она была виновата перед ним и перед собой, это ясно, и чудилось мне во всем этом что-то жалкое и неприличное и не давало покоя. А уж когда попалась мне на глаза вся эта лживая писанина, то, хоть и было мне больно, что он должен писать ей и пишет эдаким манером, жалость к ней все заглушила, потому что и она-то не умела ничего другого, как только писать ему такие же ответные письма, я хоть и не видела еще ее ответов, но была уверена, что они так же отвратительно лживы. Да разве не была я богачкой рядом с ней?..
Она торжествующе посмотрела на А. И он понял, что она рассказывала о величайшей победе своей жизни. Но понял он и то, что письма господина фон Юны были совсем не так лживы, как это выходило у старой Церлины. Потому что демония страсти, которой этот господин был охвачен, состояла с одной, с лучшей своей стороны из тяжелой серьезности, вне которой нет страсти, из честнейшей честности; но, с другой стороны, к ней примешивалось присущее всякой демонии сознание вины от унижения собственного «я», и, хотя одержимый страстью человек пребывает в своем праве ужасаться притворству холодной женщины, ему не может не мерещиться и что-то совсем светлое в ее незадетости страстью, особенно когда эта ущербность обернулась уже материнством, тут что-то таинственное, и магическое, и эльфическое. Каждый мужчина, не только похотливей, способен так чувствовать, и А. чувствовал это в господине фон Юне – и сочувствовал ему. Не то чтобы он сомневался в чем-нибудь из рассказанного Церлиной, но в фигуре баронессы и ему чудилось сияние королевы эльфов. Победная реляция Церлины тем временем продолжалась:
– Он сдержал свое слово, и я ощутила себя богачкой, хоть и был у меня в руках всего-навсего чемоданчик служанки, когда я собралась в дорогу; я бы могла выехать еще утром, но хотела дождаться темноты, чтобы прибыть к ночи. На конечной остановке трамвая он опять был на своем вороном. Мы оба посерьезнели. Когда ты богат, не до шуток. Я чувствовала себя богатой и хотела, чтобы и с ним было так же. Хотя кто знает, отчего люди бывают серьезны. И на всякий случай я сказала ему, как только залезла в коляску, что отпуск у меня только на десять суток. Понравится, подумала я себе, успею прибавить еще десять, а будет милостив ко мне бог, и целую вечность. Но пока он был так скуп на слова и серьезен, что я быстренько проглотила разочарование, когда он и не пожалел, что дней будет так мало всего десяток. «Езжай по околице», – говорю я ему. Так мы шагом въехали в лес и на холм, то была дорога дровосеков, кругом черно, холодно, но ни он не прикоснулся ко мне, ни я к нему. На самой вершине таял белесый свет; чуть виднелись колокольчики на поляне, а потом уж только небо светлело, и на нем первые звезды. Штабеля дров на краю поляны тоже исчезли в черноте, оставив лишь запах, будто пойманный стрекотаньем кузнечиков. Потому что все, что осталось, – стрекот, колокольчики, звезды несло друг друга, друг друга не касаясь. А посреди всего этого стояли мы со своей упряжкой, и все это я сохранила, сохранила в памяти на всю вечную жизнь, потому что это несло меня и не перестает нести. И все это прислушивалось к нашей страсти, все его обвилось вокруг моего, мое вокруг его, а рука его не касалась моей, как и моя его. И тут я сказала: «Езжай домой». Еще темнее стало, когда мы съезжали с холма. Конь осторожно опускал копыта, и, когда они попадали на камень, высекались искры. Тормоза работали до отказа, шины шуршали, иногда скрипели камешки, иногда мокрые листья ударяли в лицо; ничего из этого мне не забыть. И вдруг он отпускает тормоза, мы на равнине, стоим перед домом, в котором ни огонька, собственной чернотой он втиснулся в черноту ночи. Во мне же полыхал тяжелый свет моего богатства. Он помог мне сойти, выпряг и отвел лошадь в конюшню – если б я не слышала стука подков в конюшне, я бы решила, что он никогда не вернется, такая была везде темень. Он вернулся, но света в доме мы не зажигали. И не произнесли ни слова, так были серьезны.
Ее голос охрип от волнения, и опять послышалось в нем напоминающее псалом песнопенье.
– Как любовник он был лучше всех, никто бы не мог с ним сравниться. Как тот, кто осторожно ищет свой путь, искал он моего ответа. Он изнемогал от нетерпенья; нетерпенье трясло его, как озноб. И все-таки не овладело им, а он не овладевал мной, ждал, пока вынесет меня в пропасть, за которой человек всегда чует последнее падение. Если то был поток, что нес меня по жизни, то он почуял его и прислушался к нему. Я и так была без одежды, и он словно раздел меня еще больше, как будто голого человека можно раздеть еще больше. Потому что стыд – все равно что еще одна одежда. И он так осторожно победил последние остатки моего стыда, что мое одиночество в самой глубине нашего слияния превратилось в союз двоих. Он был чуток со мной, как врач, но страсти моей он предстал как учитель, повелевающий моим телом, сообщающий ему желания, отдающий приказы, грубо и нежно, потому что у страсти много оттенков и каждый из них оправдан по-своему. Он был врач и учитель и в то же время слуга моей страсти. Сам он, казалось, не испытывал иного вожделения, кроме моего; и если я от страсти кричала, он воспринимал это как похвалу себе, как похвалу своему желанию, которое нуждалось в такой похвале, чтобы умножать свои силы. Он и был сама сила и мощь, и все это – от слабости. И эта сила вздымала и дробила нас все больше, пока мы не слились в единое целое. На краю той пропасти мы и стояли как единое целое в те ночи и дни. И все же я знала, что это дурно. Потому что это женская роль – служить мужскому вожделению, а не наоборот, и куда правильней были те парни, что не спрашивали меня о моей страсти, а швыряли по-простому наземь, заставляя служить своей. Да, даже в их словах о любви было больше правды, чем в его; его же слова требовали для своей истинности всю мою стыдливую и обнаженную страсть; чем стыдливей были мои слова, тем истиннее его любовь. Тут-то мне стало понятно, почему так висли на нем женщины и не хотели его отпускать, но мне стало понятно и то, что я не из их числа и что мне нужно бежать от него, как ни приковано к нему мое вожделение. Глупой-то меня не назовешь, – подмигнула она себе самой, и слушателю, правда не дожидаясь от него подтверждения своих слов; рассказ увлек ее дальше. – Лесничиху мне не показали. Но когда надо, сон у меня легкий: в пять утра появилась она в доме для уборки и выложила мне провизию на день на кухонный стол. Гораздо больше не понравилось мне, что она тут же явилась в дом, как только мы ушли на прогулку, я ведь сама убирала в спальне, поэтому сразу заметила, что она тоже приложила руку. Как же он дал ей знать? Уж очень здорово это отработано, отлажено, видно, на многих женщинах, а в таком деле любая женщина должна быть шпионкой. Мне это было нетрудно. Дом был старый, и мебель в нем старая; что шкаф, что письменный стол – замки везде легко открывались. К тому же у всякого мужчины, что так себя тратит, глубокий сон. Я ведь его не щадила. Жаль только было покидать его – он был красив, когда спал, лицо не искажено страстью, без изъяна, я часто подолгу сидела на краю кровати и все смотрела на это лицо, прежде чем заняться своей шпионской деятельностью. Печальное то было и нервное занятие. Бабенка его, в знак того, что здесь ее постоянное жилище, оставила все свои платья в шкафах, и я была уверена, что вся его ненависть к ней не помешает ему, скорее подстегнет вновь откликнуться на ее призыв. И насколько раньше меня раздирало любопытство к письмам госпожи баронессы, настолько теперь я испытывала лишь отвращение. Письма эти валялись вперемешку с письмами от других женщин в ящиках письменного стола, и я взяла себе несколько подвернувшихся под руку – ему-то они все равно не нужны. Постой-ка, сейчас прочту тебе одно.
Вынув из кармана халата очки и несколько помятых писем, она направилась с ними к окну.
– Вот, заметь себе, какими пустейшими пустяками, каким дерганьем заполняют людишки пустоту своей жизни, суетную свою скуку; обрати внимание, как она бедна, госпожа баронесса. Заметь, сколько здесь нищей, пустой злобы, хорошенько заметь!
«Драгоценный возлюбленный мой, связь наша обогащается день ото дня, даже когда ты вдали от меня. В дитяти нашем ты неотступно со мной, и это залог нашего грядущего вечного союза, который, как ты пишешь, рано или поздно настанет. Не сомневайся. Небо покровительствует любящим, и оно поможет тебе вырваться из пагубных объятий этой фурии, вонзившей в тебя свои когти. О, да ниспошлет оно мне такое же освобождение от моего брака! Хотя супруг мой, в сущности, весьма благородный человек, но он всегда был глух к терзаниям моего сердца.
Объяснение с ним будет мучительно, но я соберусь с силами; твоя любовь ко мне, а моя к тебе, не оставляющая меня ни на миг, дают мне надежду на будущее. С этими горячими упованиями я целую твои любимые прекрасные глаза.
Твоя Эльф – Эльвира».
Ну, видел? Она лила и лила такое дерьмо – цистернами, пустопорожняя гусыня, а он все терпел со скрежетом зубовным, а терпел. Я готова была прямо возненавидеть его за это. Почему он терпел? Да потому, что он был из тех, кто и слишком высоко ценит женщин, и слишком низко, из тех, кто служит им своим телом, не удостаивая интересом их души. Он не способен любить, но лишь служить, и в каждой женщине, которую встретит, он служит той единственной, которой не существует и которую он мог бы любить, если б она существовала, а так ничего нет, один злой дух, и он в его власти. И, поняв, что я не в силах спасти его, вытащить из этого ада, с ненавистью в душе, с ненавистью, разбуженной им, я вернулась к нему в постель, чтобы стиснуть его своими руками и ногами, с беспощадной ненавистью, с беспощадной нежностью, чтобы изнеможение облегчило нам предстоящую разлуку. Все-таки через десять дней я спросила его, надо ли мне еще оставаться, я-де могла бы это устроить. И опять, как только дошел до него вопрос, в глазах его вспыхнул ужас, как тогда, в саду, и он промямлил: «Лучше бы как-нибудь потом, через несколько недель, когда я вернусь из поездки». То была ложь, и я дико закричала на него: «Ты увидишь меня здесь не раньше, чем отсюда исчезнут платья этой паршивки!» И тут он впервые повел себя как мужчина, хоть и из трусости: ударил меня и, не обращая никакого внимания на меня, на мое желание или нежелание, овладел мной – с такой яростью, что я целовала его, как тогда, в саду. Помочь это, конечно, уже не могло: от ненависти некуда было деться. И вечером мы спустились в коляске к остановке трамвая, ни слова не говоря, с моим чемоданчиком на задке.
Что же, кончилась история? Нет, казалось, только теперь она и начиналась. – Голос Церлины стал звонок и чист. – Может, угроза моя не возвращаться крепко засела в нем, потому как он чувствовал, что это не дерганье. Может, он и в самом деле хотел избавиться от этой особы, вернувшейся, наверное, уже на другой день к своим платьям и уплетавшей предназначавшуюся прежде мне снедь. Как бы то ни было, через несколько недель город был взбудоражен известием, что таинственная возлюбленная господина фон Юны скоропостижно скончалась в Охотничьем домике. Ничего вроде бы необыкновенного, но по городу сразу же поползли слухи, что он ее отравил. Разумеется, слухи эти исходили не от меня; я была рада-радешенька, что выпала из игры и что ни разу никому не обмолвилась ни о письмах, ни о тех баночках и скляночках, которые он держал у себя на полке и от которых мне было жутко. Но уж раз пошла болтовня, то и покатилась она, как снежный ком. Я, конечно, не удержалась, чтобы не рассказать о новости госпоже баронессе. Побелела она как мел и только выдавила: «Это невозможно», а я пожала плечами и в ответ: все, мол, возможно. Мысль о том, что в Хильдегард течет кровь убийцы, точно отпаривала меня кипятком. Кругом только и слышно было, что делом господина фон Юны должны заняться присяжные, и действительно, через несколько дней его арестовали. И чем больше я ломала себе голову надо всем этим, тем яснее чувствовала, что верно, он ее отравил, и сегодня, пожалуй, я уверена в этом еще больше, чем тогда. Он ведь сделал это ради меня, и при всей моей ненависти к нему я не могла желать ему плахи и потому обрадовалась, когда пошли слухи, что улик недостаточно для приговора. Выяснилось, что эта особа, оказавшаяся актрисой из Мюнхена, была тяжелой морфинисткой и поддерживала свою жизнь только шприцем и большими дозами снотворного; такой организм легко ломается, и даже если смерть наступила от слишком большой дозы снотворного, то это мог быть несчастный случай или самоубийство, а не убийство, которое трудно доказать. Только письма могли бы послужить доказательством, но ведь они были у меня. Какое счастье для него! Какое счастье для госпожи баронессы!
На какое-то время я показалась себе героиней, как вдруг мне пришло в голову, что тут обошлось и без меня, что он, может, сам сжег перед арестом всю свою корреспонденцию, что, может, терзается теперь из-за этих недостающих писем. И я так отчетливо увидела ужас в его глазах, что он передался и мне. Тут я сделала то, что давно должна была сделать: взяла письма и помчалась с ними к двум его адвокатам, один из которых приехал специально из Берлина, чтобы успокоить его и унять его муки. Они предложили мне за них много денег, но я отказалась, размечталась, что он после освобождения женится на мне из благодарности и какой это будет удар по его честолюбию, не говоря уж про госпожу баронессу, которой придется еще и желать счастья своей камеристке… И потому-то я пару писем, самых разоблачительных, все же оставила у себя. Все равно ведь никто не знал, сколько их всего было по счету, а уж господин фон Юна меньше всех. Того, что я отдала, вполне было достаточно, чтобы унять его страх. Другие же мне были нужны для моих грез о свободе: хорошо иметь какие-то средства для ускорения ее прихода, да и в последующей супружеской жизни они иной раз могут очень пригодиться.
– Вы прекрасно поступили, спасши господина фон Юну, – вставил тут А., – вот только с госпожой баронессой обошлись слишком круто.
Церлина не любила, когда ее перебивали.
– Главное – впереди, – сказала она и была права. Потому что, превращаясь в жалобу, в обвинение, в самообвинение, рассказ все больше набирал силу. – Мечтать о свадьбе уже это одно было скверно, но мечты эти были мне как самообман, чтобы уберечься от еще большей скверны, для которой были потребны письма. Я была пропащей, но еще не знала об этом. А кто сделал меня пропащей? Юна ли, засевший у меня в крови, хотя я его не любила? Госпожа ли баронесса со своим незаконным ребенком, прижитым с Юной, или вовсе сам господин председатель суда, потому что мне нестерпимо было видеть, в каких остался он дураках со всей своей святостью? Я одна могла бы открыть ему глаза, а уж как стало известно, что именно господин председатель суда будет вести дело Юны, тут я и вовсе потерялась.
Ему ли оправдывать того, кто тайком проник в его дом, чтобы наградить его незаконным ребенком? Я не вынесла этого, не вынесла моего знания об этом, которое было как совиновность, а за совиновностью было что-то еще более ужасное, была скверна. И не знание свое, не совиновность, а скверну свою хотелось мне выкричать, чтобы не чувствовать себя больше такой пропащей. Еще глубже должна я была погрязнуть в скверне, чтобы вновь стать собой при свете дня, со всей моей скверной. Все-таки понять это нельзя. Будто кто мне приказал связать вдруг оставшиеся письма, и его, и госпожи баронессы, в которых оба они грозят убить ту женщину, и отослать председателю суда – господину барону. Я должна была это сделать, хотя ясно отдавала себе отчет, как все будет дальше; письма, в сущности, предназначались для прокурора, чтобы господин председатель суда, вследствие хотя бы позора госпожи баронессы, сложил с себя свои полномочия, а Юну все же казнили. А может быть, мне хотелось, чтобы господин председатель суда от отчаяния убил себя, и госпожу баронессу, и незаконную дочку. И так как я собиралась признаться во всем, в своей совиновности и в том, что воровала письма в Охотничьем домике и в спальне госпожи баронессы, было бы справедливо, если бы он заодно убил и меня. То была бы высшая справедливость, потому что из-за меня, не из-за госпожи баронессы была убита та тварь в Охотничьем домике, и мне хотелось бы восхищаться господином председателем суда как носителем этой высшей справедливости. Страшным был тот экзамен, которому я подвергла барона и который он должен был выдержать во имя справедливости, чтобы я еще больше уверилась в его величии и святости. Я и жизнью Своей готова была заплатить за это, и тем не менее то была скверна, которую я так и не могу объяснить.
Она тяжело вздохнула. Поистине, вот что, оказывается, было главное – покаяние в самой большой вине за всю жизнь; и покаяния ради, а не ради того, чтобы похвастать своей победой над баронессой – хотя отблеск этой победы был тут тоже примешан и неустрашим, – она и рассказывала, очевидно, всю эту историю. И в самом деле, Церлине, казалось, стало легче. Прочитав письмо, она осталась у окна, и теперь выяснилось, что у нее были на то причины. Она снова аккуратно водрузила на нос очки, снова достала клочок бумаги из кармана и после еще одного глубокого вдоха голос ее снова стал звонким и чистым.
– Пакет был отправлен господину барону, и я ждала, боялась, надеялась, что теперь произойдут ужасные вещи. Но дни шли, а ничего не происходило. Даже меня он не потребовал к ответу, хотя было ясно, что никто другой не мог быть анонимным отправителем писем. Тут постигло меня сильнейшее разочарование: стало быть, и господин барон оказался трусом, для которого справедливость Значила меньше, чем его место и положение; он что же, готов был Кради них даже терпеть в своем доме незаконного ребенка, прижитого от убийцы?
Однако господин барон преподал мне урок и основательный. Ибо однажды за столом, когда я прислуживала и должна была все слышать, он, обычно такой молчаливый, вдруг грозно заговорил о преступлении и наказании. Я запомнила каждое слово и потом точь-в-точь записала. Сейчас прочту, чтобы и ты запомнил. Запомни же хорошенько!
«Наш суд присяжных – учреждение важное и все же опасное, опасное, поелику доморощенный судья легко может поддаться собственным чувствам. А как раз в таких сложных случаях, для которых и собирают присяжных – случаях убийства в первую голову, – легко может возникнуть и возобладать чувство мести, которому любое наказание покажется слишком малым. И когда так бывает, никому даже не приходит в голову, что и юридическая ошибка является в таком случае убийством, весь ужас смертного наказания отодвигается на второй план, уступая место безрассудной решительности, которая нередко подсовывает доказательства в угоду мщению. Вдвойне и втройне судья тут должен следить за тем, чтобы подобный ход доказательств не возобладал. Даже собственноручно написанное и подписанное обвиняемым легко может стать предметом ложных толкований. Если, положим, некто пишет, что желал бы „устранить“ кого-либо или „избавиться“ от кого-то, то это далеко еще не свидетельствует о замышлении убийства. Одна лишь голая жажда мести не вычитает здесь ничего иного, кроме намерения убить, жажда мести, которая взывает к топору и алчет крови жертвы».
Так он сказал, и я все поняла, поняла настолько, что у меня задрожали руки и я чуть не уронила блюдо с жарким. Он был еще более велик и свят, чем могла себе вообразить я, глупая баба. Он-то угадал, что я хотела побудить его к мести, и отказался быть палачом. Он знал все. Но поняла ли госпожа баронесса? Или и для этого она была слишком пуста? Если она хоть немного помнила письма, которые получала, то не могла не обратить внимания на такие слова, как «устранить» и «избавиться». И господин барон смотрел на нее, смотрел намеренно добродушно, и, если б она сейчас рухнула перед ним на колени, я бы не удивилась. Но она сидит как изваяние и не шевелится, разве что побелели немного губы. «О, топор, – говорит она, – смертная казнь, как это все ужасно». Вот и все, и господин барон перевел взгляд на тарелку, а я подаю как раз сладкое. Такой уж она была, пустышка. Все последующее меня уже вовсе не удивило. Перед самым рождеством состоялся суд, что оказался легкой игрой для адвокатов, потому что им подыграл председатель суда, господин барон, оставивший в неведении прокурора: ни одно письмо на процессе так и не всплыло. Обвиняемый был почти единодушно оправдан присяжными, одиннадцать к одному, как будто мой голос «против» был услышан. Несмотря на это, я была рада, что его оправдали, господина фон Юну, и еще больше рада, что, не поблагодарив меня и не попрощавшись, он сразу уехал за границу, в Испанию, кажется, чтобы там поселиться.
То был конец рассказа, и Церлина вздохнула.
– Да, вот и вся история, моя и господина фон Юны, и я никогда ее не забуду. Топора он избежал и меня избежал, что было для него еще большим счастьем. Потому что, поступи он благородно и женись на мне, я бы жизнь его превратила в ад, и, будь он еще жив, он все равно по-прежнему имел бы меня, старуху, а ты только взгляни на меня.
Но прежде чем А. успел поднять на нее глаза, последовала концовка.
– Шума после приговора было много. Газеты нападали на господина председателя суда, особенно левые, обвиняли его в классовом подходе к правосудию.
Не удивительно, что он все больше и больше замыкался в своем одиночестве. Из кабинета своего он почти не выходил, а вскоре я стала стелить ему там и постель. Год спустя он подал в отставку, по состоянию здоровья. На самом же деле – из-за ощущаемого им приближения смерти: ему не было и шестидесяти, когда смерть настигла его, и, что бы ни говорили врачи, умер он от разбитого сердца. Ей же дано было жить дальше вместе с дочерью. И потому-то, из-за этой несправедливости судьбы, я воспитала Хильдегард так, как воспитала. Она сделалась истинной дочерью господина барона, чтоб быть достойной его и чтоб его дом не был прибежищем для прижитого от убийцы ублюдка. Будь она католичкой, я бы упекла ее в монастырь, а так я только и могла, что постоянно напоминать ей о целомудренной святости усопшего да побуждать ее к подражанию.
Чем больше мне удавалось сделать ее похожей на него, тем больше искупала она свою вину, тем больше искупала она вину своей матери, хотя эта вина из разряда вечных, неискупимых. Дочь выполнила свою роль: чем сильнее проникалась она духом отца, тем больше укреплялась в ней воля к мести, к той мести, которую сам он не хотел допустить из-за святой строгости по отношению к себе. Она мучается из-за своего подражания, я обрекла ее на эту муку, но так и не смогла привить ей его святость, а без святости она не может не перенести свою муку на других, так что, например, своей лицемерной манерой изображать заботу о матери обрекает ту на настоящую пытку. Одно переходит в другое, и вышло, как я хотела: я воспитала ее для возмездия за вину. Кровь похотливого убийцы в ней восстает, конечно, против этого, не хочет принять кары, ну да это ей не помогает.
– Ради всего святого, – воскликнул тут А., – за что же ей-то принимать кару? В чем же она виновата? Нельзя же валить на нее ответственность за родителей, тем более что нельзя же любовь госпожи баронессы и господина фон Юны целиком признать преступлением!
Карающий взгляд настиг его – не столь, может быть, из-за сказанного, хотя оно и было досадно Церлине, сколько из-за того, что он помешал ей закончить рассказ.
– Уж не собрался ли ты поддаться ее чарам? Ох, не советую. Найди себе лучше стоящую девицу, с которой тебе славно будет спать, а ей – с тобой, и даже если у нее будут слегка красные руки, то это лучше, чем наманикюренное дерганье. Знаешь, почему она не хотела сдавать тебе комнату? Да потому, что не было еще жильца, у двери которого, – и Церлина указала рукой на дверь комнаты, – она бы не простаивала по ночам, и каждый раз мысль об отце, который и не отец ей вовсе, мешала ей, и она доходила лишь до порога. Если не веришь, могу посыпать песочек в коридоре, как я уже не раз делала, сам увидишь ее нерешительные следы. Это ее мука, ее вина, ты не давай ей только себя впутать. Потому что вместе со скверной растет и наша ответственность, становясь все больше – больше, чем мы сами, – и чем глубже погружается человек в свою скверну в поисках себя, тем больше он должен взять на себя ответственность за преступления, которых не совершал; это касается всех: и тебя, и меня, и Хильдегард – и ей приходится расплачиваться за провинности своих кровных родителей. Мать же, госпожа баронесса, пленница нас обеих, хочет избежать терзаний и каждого жильца заклинает, чтобы он ей в этом помог. Вся душа их полна дерганья – что мать взять, что дочь, а чтобы оно им было внятней, я обратила его в адово скрежетанье, и адом стал этот дом, такой с виду ухоженный и тихий! Святой и дьявол, господин барон и господин фон Юна, который теперь, уж верно, тоже помер, – две грозные тени преследуют их и раздирают на части. А может, и меня тоже. Мне ведь тоже не помогло, что после господина фон Юны – чтоб только не хранить ему верность – я заводила себе все новых любовников; и совсем стало худо, когда я заметила, что любовники мои становятся все моложе, под конец пошли вовсе уж мальчики, которых я прижимала к своей груди, чтобы они утратили страх перед женщиной и научились страсти, дающей людям покой. Заметив это, я и совсем все прекратила. Только потому, что стала стара? Нет, мне давно уже надо было прекратить, и, не будь госпожи баронессы, я, возможно, даже и не пустилась бы во все тяжкие с господином фон Юной. Образ господина барона остался с тех пор негасим во мне и светил все больше… Кто же в действительности овдовел, когда он умер? Разве не я? Больше сорока лет прошло с тех пор, как он цапал меня за груди, а я все любила его, всю мою жизнь, всей душой.
Вот каким оказался на деле конечный итог этой истории, и А. несколько удивился, что не предвидел его. Церлина же, утомившись соответственно своему возрасту, смотрела некоторое время в пустоту, а потом, с уже обычной вежливостью служанки и обычным голосом, сказала:
– Ну вот, я вам даже отдохнуть не дала после обеда своей болтовней, господин А., ну да вы еще свое наверстаете, я надеюсь, – и, согнувшись, заковыляла из комнаты, двери которой прикрыла с такой осторожностью, словно в ней находился спящий.
А. снова откинулся на кушетку. Да, она права, надо бы немного поспать. В конце концов еще не поздно: часы на башне только-только пробили четыре. Вот и славно, что вернулись мысли о сне, оборванные приходом Церлины. Но, к его неудовольствию, мысли о деньгах снова вылезли на передний план. И он снова должен был прокручивать собственную историю, как он начал зарабатывать их там, в Капской колонии, и как с тех пор судьба бросала его к деньгам из одной части света в другую, с биржи на биржу, и если считать Южную Америку отдельным континентом, то их было шесть за пятнадцать лет, то есть по два с половиной года на каждый. И все было чистой случайностью. Мальчишкой он мечтал украсить свою коллекцию марок треугольником «Мыса Доброй Надежды», мечтал тщетно, с тех пор мечта о далеких странах, о Южной Африке так и жила в нем. Марки были бы неплохим вложением капитала, но страсть коллекционера в нем иссякла. Чего ему, собственно, хотелось? Иметь дом, жену, детей? По-настоящему детям рады, в сущности, одни только бабушки. Дети – помеха всякой комфортабельной жизни, а еще больше портят жизнь любовные истории – на что они нужны, непонятно.
Все эти проделки баронессы – чистая глупость; если бы он тогда знал ее – но тогда он еще вряд ли родился, – ;он бы вызвал ее к себе в Капштадт и спас бы тем самым от этого подонка и его оскорблений. Правда, женщины не очень охотно едут туда, это приводило уже к нехватке женщин и соответствующим драмам на алмазных копях. Там господин фон Юна не собрал бы свою коллекцию женщин. Жизнь он вел некомфортабельную. А барон, был ли он счастлив? Лучше бы он сам сделал сына своей жене. Хотя сын, пожалуй, все равно сбежал бы от них в Африку, несмотря на безнадежность всякого бегства. Ужасно, что вдова остается в своем доме, как в тюрьме. Хорошо, если б можно было быть своим собственным сыном. Разве он не хотел после смерти отца взять мать к себе в Капштадт, чтобы выстроить ей там дом? Она, пожалуй, была бы жива еще и поныне, имела бы, может быть, внуков. Для детей стоило бы начать собирать коллекцию марок, треугольник «Мыса Доброй Надежды» он тоже раздобудет. Пусть себе истаивает, кончается воскресенье, этот жизненный план, право же, недурен…
Да, да, вот так и нужно планировать свою жизнь. А. знал это сейчас со всей определенностью. Не знал он только о том, что так и заснул за этими мыслями.








