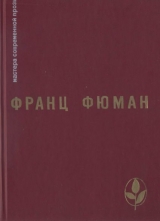
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Франц Фюман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 55 страниц)
П. благодарно посмотрел на друга и сказал с волнением:
– Хорошо это знать и то и дело воскрешать перед мысленным взором! А не то и в самом деле иной раз жуть берет и холодеет сердце. – Но тут лицо молодого ефрейтора просияло счастливой улыбкой. – Послушай, – сказал он, – мне кажется, я все-таки нашел ключ к Эдиповой загадке.
– Что ж, послушаем! – загорелся З.
– Нет, на сей раз я сам продумаю все как следует, – сказал ефрейтор, и З. уже хотел упрекнуть его в том, что подло что-то скрывать от товарища и друга, раздразнив его любопытство, но тут кругом защелкали каблуки армейских сапог, чей-то голос крикнул: «Смирно!» – и оба приятеля стали навытяжку. Из своей палатки вышел капитан, и, когда он увидел обоих друзей, стоящих по стойке «смирно», правая рука у козырька кепи, он пальцем поманил их к себе.
4
– Кого я вижу! – воскликнул капитан. – Иокаста и Эдип! – Он благосклонно разглядывал обоих солдат, вытянувшихся в струнку и щеголяющих молодцеватой выправкой, и разрешил им стоять вольно. – Хорошие у нас задались деньки, верно? – И не дожидаясь ответа: – Ну как, все решаете мировые проблемы? Метафизика трагического! Назначение хора! «Я» и «сверх-я»! Катарсис и жизнеощущение героя!
– Так точно, господин капитан! – воскликнули залпом оба, снова став навытяжку, а П. простодушно добавил:
– Вот только насчет Эдиповой вины что-то никак не сообразим.
Капитан с улыбкой указал им на палатку. Полчаса он может им уделить, сказал он, с условием, что они побеседуют, как в свое время беседовали в ФВШ, не как подчиненные с начальником, а как студенты с учителем, нет, лучше как туристы, совершающие горное восхождение, беседуют на крутой тропе, ведущей к вершине человеческой мудрости. Он произнес это с заметной радостью в голосе и даже с каким-то чувством облегчения и, желая показать, что приветствует их не как подчиненных, а как гостей, собственноручно приподнял полотнище у входа и пропустил слегка оробевших молодых людей вперед с сердечным: «Прошу, прошу, господа!» – после чего, прикрепив полотнище к штоку на крыше, отчего в широкий дверной проем хлынул яркий свет, затопив обычные сумерки внутри палатки, пригласил студентов занять места на обструганных добела стульях, стоящих вокруг стола с картами, а сам уселся на приткнувшуюся за столом походную кровать.
– А теперь рассказывайте, как вы себе это представляете, – предложил он, и З., искусно обобщая, вкратце изложил все их попытки разобраться в вопросе, подробнее остановившись на беседе о расовой душе, о моральных ценностях и их фиксации в соответствующих законах. При этом, надо отдать ему должное, он нисколько не выделял себя, не подчеркивал, что львиная доля достигнутых в этих спорах, но так или иначе отвергнутых результатов принадлежит ему, а также ни словом не обмолвился о многочисленных просчетах друга. Он точно докладывал об ученом совещании, на котором присутствовал в качестве заинтересованного, но нейтрального слушателя, и профессор слушал его с напряженным вниманием, все более кипя душой и внутренне негодуя. Боже мой, думал он, что за чудовищный бред, ведь это же наглая фальшивка все того же невообразимого болвана Розенберга, подобное трудно себе и представить! Ему и в голову не пришло, что не кто иной, как он сам, посеял в умы молодых людей семена этих ядовитых плевел; он слушал разглагольствования студента насчет расовой души, и в нем бушевал гнев; слышал сентенцию: «Дикарь так и останется дикарем», и щеки его дергались от сдерживаемого возмущения. Что за чепуха, думал он, что за мерзопакостная философия! Стыд и позор! Не существует никакой расовой души, и на свете нет ничего неизменного; panta rhei, все течет, движение – основной принцип бытия, стимул истории, всякого духовного развития, с подобной неизменной нордической душой мы бы и сейчас бродили по тундре с челюстью гориллы и каменным топором в кулаке! А вся эта болтовня о крови, что за дикая чушь! Как будто кровь не химическое вещество, незаменимое биологически, но так же мало значащее для характера и души, как консистенция мочи или желчной секреции! Думая об этом, он уже не слушал доклада, но тут опять прислушался, и, так как извержение благоглупостей продолжалось, он уже хотел было досадливым словом оборвать докладчика и слово уже едва не сорвалось с его языка, но вдруг, как это нередко бывает, произошло одно из тех неожиданных изменений, которые уже в ближайшую минуту кажутся вам чем-то само собой разумеющимся, а именно: стоит вам шагнуть за пределы своего «я», и вы будто бы стоите в воображаемом пространстве невесомости, откуда видите себя, и свои поступки, и переживания словно демонстрируемыми на киноэкране, – как некая бестелесная, но ясно ощутимая рука возвращает вас к себе, и вы внезапно осознаете – нет, вам внезапно открывается, что вы, и не кто иной, как вы, смутили эти души, и стыд и отвращение к себе настигают вас прыжком пантеры; охваченный чувством живейшего раскаяния, профессор был уже готов возложить руки на головы обоих студентов и, заглянув им в глаза, сказать: «Послушайте, ребята, то, что я вам наболтал, чистейшая чепуха, ничего общего с наукой не имеющая; мне стыдно перед вами, ибо я это сделал из трусости». И он уже собирался открыть рот, и губы его уже складывались в слова – он был одновременно на пороге этого решения, равно как и на вершине своего духовного растления, – как вдруг до него донесся вопрос его ученика З.: «Не правда ли, господин профессор?» И вот, точно сработал скрытый механизм, другая рука, не та, что принуждала ученого к саморазоблачению, заставила его кивнуть головой, закрепляя этим кивком, словно печатью, ложь и скверну, и тут ужас объял профессора, он ужаснулся себе и все продолжал кивать. Он ощутил противный вкус во рту и надвигающийся приступ рвоты; сделав над собой усилие, он сглотнул слюну и, оттолкнувшись обеими руками от стола, выпрямился на своем сиденье, и тут у него возникло смутное, словно силишься прочитать неразборчивую надпись, намерение – сказать этим юнцам, что его свободное время истекло, и он уже хотел раскрыть рот, чтобы произнести это, и только об этом одном и думал, как вдруг у него потемнело в глазах и в уши ворвалась жужжащая тишина, а между тем З. окончил свой доклад, и ветер порывами задувал из парка, и тогда профессор поднял глаза, и увидел доверчиво обращенные к нему взгляды обоих молодых людей, и подумал, что должен сейчас же, независимо от того, что ему предстоит, сказать правду, всю правду, в то же время зная, что он этого не сделает, и подумал, что так больше продолжаться не может, ему надо на что-то решиться, может быть, в самом деле подняться с места и попрощаться с обоими, – и тогда он услышал, как молодой ефрейтор, его любимый солдат и любимый ученик, о ком он неоднократно думал, что тот мог быть его сыном, спросил:
– Нельзя ли попросить вас, господин профессор, дать нам правильное толкование? Сами мы уже бессильны что-либо придумать!
«Пора!» – подумал профессор и, открыв рот, произнес:
– Тэк-с!
Он, правда, тут же устыдился этого дурацкого чавкающего словечка, но с этой, последней вспышкой стыда осознал, что нипочем не скажет им правды, – однако позвольте! Какая же это правда? Разве это скорее не значило бы заявить о своем чисто субъективном несогласии с некой доктриной, которую всякий волен по свободному выбору предпочесть для себя? И его вдруг осенило, что было бы безответственно ни с того ни с сего ввергнуть этих доверчивых молодых людей в конфликт совести, о каком они до сей поры и не подозревали, и он сказал себе, что, оберегая своих солдат от столь опасных суждений, он, в сущности, остается верен отцовскому – вот именно отцовскому, человеческому, а также воинскому – долгу, и вот уж он сидит, выпрямившись, на своей походной кровати и больше не глотает слюну и чувствует, как ветер овевает его лоб прохладой и грудь снова дышит легко и свободно. Открыто и непринужденно встретил он взгляд обоих слушателей и порадовался тому, как чинно они сидят и благоговейно ждут ответа – эти любители мудрости, искатели истины, ревнители знаний, – и, оторвавшись от стола, начал, прохаживаясь взад и вперед:
– Не забывайте, что греки Софокловых времен были истово благочестивы и что Софокл, в сущности, писатель религиозного склада. Но в чем суть истового благочестия? Безоговорочное подчинение собственной воли, собственных мыслей и верований велениям высшей власти, решению и воле богов, потусторонних, неземных сил, что правят и вершат судьбами по законам, коих жалкому смертному постичь не дано, поп datum, и о сущности коих он в лучшем случае с содроганием догадывается. Эдип же – ипотому-то его добродетели так превозносятся – благочестивейший из благочестивых, он не спрашивает, почему, по какой его субъективной, абсолютно безразличной Аполлону вине боги так на него гневаются, почему они предрекли ему столь страшную участь – стать убийцею отца своего и осквернителем матери. Для него достаточно сознания, что боги к нему немилостивы и что поэтому, в силу божественного гнева, а отнюдь не по собственной вине, он проклят, отвержен и каждый должен его сторониться. И так как он человек большой, благородной души, то ему остается лишь одно – привести себя в полное, нерасторжимое единение с волею богов, а это значит – самому на себя прогневаться, самому себя покарать, довести свои бедствия до полной безысходности. Эдип – это «Песнь Песней» нерушимого благочестия, нерушимого послушания. Понятно?
З. раздумчиво кивнул. Однако П. сказал:
– То, что вы нам пояснили, господин капитан, понять нетрудно, но чувство мое восстает против того, что человек может так поступить. Бог волен ниспослать мне испытания – что ж, я способен их претерпеть, я могу слепо подчиниться произволению его, могу не сломиться под ударами судьбы; но бесчеловечно требовать, чтобы я еще и сам, по собственному разумению, усугубил свои страдания. У меня, скажем, умирает отец, что же мне, в довершение еще и мать прикончить собственной рукой? Это не умещается у меня в голове.
В парке завел свою песню черный дрозд.
– Да не поднимется у меня рука на мать мою, – возразил профессор, – да и ни на кого другого, это значило бы лишь уклониться. Видите ли, существуют две возможности претерпеть, вернее, противостоять страданию. Одна из них – позиция Иова – пассивное терпение, полное подчинение воле божьей, я назвал бы ее женской позицией. Но существует и другая возможность: опередить судьбу, самому завершить, собственноручно выполнить то, что она еще, пожалуй, таит про запас, довести до апогея веление рока и этим отстоять свою свободу действий. Я назвал бы это мужской позицией.
От профессора не укрылась растерянность П.
– Приведу пример, хоть он и не совсем сюда подходит, но он, быть может, пояснит вам мою мысль. Оба вы солдаты, добрые солдаты, солдаты душой и телом, ладно! Обоим вам пришлось пережить то, что не миновало и меня когда-то в юности: тренировочный марш с полной выкладкой, палящее солнце, пыль, никаких мер облегчения, пенье, противогазы, то и дело команды «ложись!» и «бегом!», волдыри на пятках и стопах, сумасшедшая жажда – все это вам знакомо, ладно! И вот последние пять километров: люди ползут, как улитки, пенье больше смахивает на кряхтенье, ноги шаркают и спотыкаются, фельдфебели и унтер-офицеры и те с трудом сохраняют выправку, а ты только и чувствуешь, что вот-вот свалишься с ног, уж и колени подгибаются, и сам ты никнешь, и тогда ты говоришь себе: «Так вот же нет!» Усилием воли ты прогибаешь колени, и словно вырастаешь над собой, и делаешь даже больше, чем требуется: прямее держишь ружье, поднимаешь как следует ноги, поешь громче других, а главное, держишь над собой контроль и вдруг чувствуешь себя совсем свободно. Понятно? Ты больше не терпишь того, что тебе положено терпеть, нет, ты этого хочешь, ты делаешь даже больше, ты снова сам себе хозяин! Ты опередил свою судьбу, ты перепрыгнул через собственную тень, и, таким образом, поход, который другим казался адовой мукой, потерял для тебя свои тяготы. Какие бы еще ни предстояли трудности, ты не пугаешься их, отныне это уже дело твоей воли. Ничто больше не может тебя одолеть. Примерно так же, примерно, обстоит дело и с Эдипом. Он больше не терпит свою судьбу, он приводит в исполнение свой собственный приговор и поднимается над роком. Он возвышается над людьми и становится святым. В сущности, это хоть и обращенная к небу, но чисто прусская позиция! Да, это пруссачество в лучшем своем аспекте.
Заложив руки за спину, профессор Н. неспешно расхаживал взад и вперед и с облегчением думал, что этой импровизацией он не только совершил чудо духовной эквилибристики, но и посрамил мерзопакостную коричневую философию, тем самым восстановив свою репутацию.
– Прусская позиция, вот это что! – повторил он и уже спокойно прислушался к пению дрозда. – Прусский дух, душевное благородство, нравственная чистота! Единство воли и долга, приказа и повиновения! Начертайте это в своем сердце, юные друзья! Да станет это вашим заветом на будущее! Заметьте себе: ты можешь сделать все, чего от тебя требуют, стоит лишь захотеть! Не спрашивай, почему от тебя требуют трудного, неприятного и даже отвратного! Твое дело повиноваться! А что это означает в свой черед? А означает это ни более ни менее как растворение индивида в великом целом, возвращение отторгнутой личности в сообщество, саморазрушение «я» как условие его перехода в «сверх-я», утверждение трагической героики – величайшая квинтэссенция ницшеанского учения! Итак, случай Эдипа разъяснен как отражение дионисийского принципа в мире морали. Господа, умозрительный круг завершен. Это circulus non vitiosus [9]9
Непорочный круг (лат.).
[Закрыть]. Мы снова у цели и одновременно у исходного пункта!
Он умолк, довольно потер руки и только собрался спросить, удалось ли им следовать за цепью его рассуждений, как смолкла песнь дрозда и в трепетную дверь палатки вступила тень, щелкнули каблуки и незнакомый всем троим голос доложил о прибытии отряда саперов.
5
– Эдип-царь в роли примерного рекрута! – язвительно ухмылялся П.; отпущенные капитаном при появлении фельдфебеля, они снова возвращались в свою клетку.
Ветер очищал небо, он перекатывал облака, разрывая их в клочья, и разбрызгивал капли на иглах агав, превращая их в радужную пену.
– Как тебе понравилась галиматья насчет форсированного марша и свободы, которую нам преподал наш старик? – спросил П.
– Нет, почему же? – возразил З., снова вооружаясь сигаретой. – Для человека, который душой и телом солдат, вполне возможная версия.
– А где ты видел рекрута, который душой и телом солдат? Мне еще такого чудо-мальчика встречать не приходилось! В солдаты идут по призыву, или если ни на что лучшее не способен, или ради карьеры. Конечно, немало примеров, когда тот или другой, будь то на военной службе или на гражданской, старается больше, чем ему положено, но для этого всегда имеются основания: он либо хочет быстрее продвинуться по службе, либо лучше навостриться, либо больше заработать, либо перед кем-то выслужиться, либо хорошо стартовать на жизненном поприще, но чтобы кто-то сам себя муштровал из чисто идейных соображений – прошу прощения, это чистейшая галиматья.
– А мне это все же понятно! – отозвался обер-ефрейтор.
– Стало быть, ты извращенный тип, – возразил его белокурый приятель. – К тому же ты забываешь, что капитанам легко разглагольствовать о геройских подвигах и форсированных маршах. Сами-то они скачут верхом. – И, чрезвычайно довольный своей шуткой, ефрейтор рассмеялся, ущипнув товарища за бок. Удача придала ему храбрости. – Пример капитана, конечно, хромает на обе ноги, но одна его мыслишка показалась мне новой и важной. Это – что можно быть виноватым без всякой вины, что участь отверженного может быть присуждена человеку самим рождением. Чем виноват еврей, что родился евреем? Ничем, верно? Он был зачат, и рожден, и лежал в колыбели, и не совершил ничего дурного, а между тем лоб его уже отмечен несмываемым пятном, а именно самим фактом рождения. Он тут совершенно ни при чем. Такое пятно ничем не стереть, разве лишь смертью того, кто его носит, и, если вы не хотите появления новых пятен, надо, чтобы такие обреченные вообще не появлялись на свет. Дружище! – воскликнул он вдруг, хлопая себя по лбу. – Вот решение вопроса! Их надо стерилизовать, а когда они перемрут, мы окончательно от них избавимся, и в мире воцарится спокойствие!
– Тут прежде всего надо заметить, – возразил З., – что такая предопределенная вина, вина как объективная категория, не что иное, как отражение того же существования различных расовых душ, так что с твоим предложением мы далеко не уедем. А во-вторых, как ты предлагаешь это сделать?
– Что именно? – спросил П.
– Стерилизовать их! Ты собираешься оскопить всех мужчин?
– Пусть они сами это сделают! – воскликнул П., у которого в приливе веселости разыгралось воображение. – Им это ничего не стоит сделать! Обрезают же они своих мальчиков, ну что бы им заодно не отрезать всю штуковину, так сказать, обойдясь одним кровопусканием!
– Это опять возвращает нас к царю Эдипу, – сказал З., смеясь. – Один собственноручно выкалывает себе глаза, а другие собственноручно отрезают у своих потомков уды! – И он весело похлопал товарища по плечу. – Увидишь, мы еще добьем этот вопрос! А потом напишем толстенную книгу, и всем студентам во всем мире придется ее зубрить.
Черный дрозд снова издал свой клич.
– Если б они это сделали по доброй воле, их и в самом деле можно было бы приравнять к Эдипу-царю! – сказал П.
– Но они этого не сделают! – сказал обер-ефрейтор.
– И стало быть, в наш век и речи быть не может о каком-то Эдипе-царе, – сказал ефрейтор, и оба они уже собирались войти в свою клетку, как их подозвал унтер-офицер и приказал сходить в вещевой склад за бельевыми веревками.
– Бельевые веревки? – удивился З.
– Ну да, конечно, – подтвердил унтер-офицер. – Обыкновенные веревки, на каких белье вешают.
1
Им дано было задание доставить из штаба новый шифровальный аппарат; хватило бы и двух человек, однако в поход выступила чуть ли не рота. В лагере осталась только небольшая команда, а с нею обер-ефрейтор З., для чего имелось свое основание. Ненавидевший З. фельдфебель А. – он полагал, что именно обер-ефрейтору обязан укрепившейся за ним кличкою Креонт, – задумал лишить его известной льготы, которой надеялся потешить своих солдат по прибытии на место назначения, поэтому, когда З. уже стоял в колонне, он приказал ему выйти из строя и, сверх того, отрядил чистить отхожие места.
Поначалу ефрейтор П. сожалел об отсутствии друга, но вскоре даже порадовался этому. Он любил горы, любил ощущать под ногами твердость скалы и скрежетание осыпи, ему нравилось, радуясь воле и ощущению собственной силы, шагать к небосводу, в привольное царство коршунов и богов, глубоко вдыхая горный воздух, подставляя лоб бушующему ветру. И что бы ждало его в обществе З.? Неустанные жалобы на каменистую дорогу, на крутые подъемы и режущий ветер либо – на защищенных и ровных дистанциях – навязчивая болтовня о категориях, дисциплинах и силлогизмах. Как ни ценил П. эти дискуссии с превосходящим его ученостью другом, сейчас, когда он молча шагал, слыша только завывание ветра и птичьи голоса, его радовало, что он хотя бы на несколько часов избавлен от докучливой болтовни ученого.
Они проходили маршем через дубовые рощи с шуршащими кожистыми листьями, веющими на узловатых сучьях, подобно кавалерийским штандартам войска мертвецов. Ветер гнал трепетные облака, ржаво-красные горы уходили ввысь – исполинские и ржаво-красные, они, словно краем чаши, обступили узкую, в форме ладони долину, и на их ребрах клубилась серая мгла.
Кругом высились кипарисы и нежные фисташковые деревья, между стволами буйно разрослись акантовые кустарники, и привязанные к колышкам ослики объедали их листву. Дорога была вся изрыта, в мульдах скопилась вода, и в ней отражалось небо, облака и подбитые гвоздями солдатские сапоги. В воздухе стоял крик взбудораженных соек.
Рота направлялась к горам; однако перед тропой, ввинчивавшейся в гору, как нарезка ввинчивается в ружейный ствол, фельдфебель (капитан Н., верхом на белом жеребце, следовал за ротой в некотором отдалении) предложил свернуть в сторону и направиться к небольшому поселку.
Поселок состоял из четырех домов, сложенных из камня; над двумя домами торчали дымовые трубы; к последнему примыкала каменная ограда, очевидно окаймлявшая двор. За домами высились пинии; выделяясь на пыльно-сером фоне отвесных скал, они походили на грозовые облака с длинными стеблями; однако два стебля не коренились в земле. П. не сразу разобрал, что это висят тела двух повешенных. Голые ноги, торчащие из обтрепанных, рваных штанин, были фиолетового цвета. Должно быть, бандиты, сообразил П., как сообразили и его товарищи. Они подумали об этом равнодушно – так думают о том, что скоро пойдет дождь или что горы высокие, это стало привычным зрелищем, входившим в их будни. Фельдфебель приказал остановиться. Они остановились. Ветер завывал в древесных кронах. Из домов не доносилось ни звука. В дубовой роще пронзительно кричали сойки.
Фельдфебель, очевидно получивший перед выступлением исчерпывающие инструкции, постучал в дом, к которому примыкал двор, он стучал костяшками кулака и кричал: «Выходи!» Спустя некоторое время он стал дергать за похожую на набалдашник ручку двери и заорал: «Отворите сию минуту!» Наконец дверь отворилась, и из дома вышел крестьянин лет шестидесяти. На нем была такая же рваная одежонка, как и на мужчинах под пиниями. Череп его, точно ствол агавы, зарос короткой серебристой щетиной, глаза затаили страх. Держа шапку в руке, он отвесил глубокий поклон фельдфебелю, который знаками приказал ему открыть ворота. Соек было уже не слышно. Фельдфебель приказал роте расходиться. Капитан пустил лошадь на лужайку пастись. Большинство солдат, составив ружья, воспользовались передышкой, чтобы оправиться.
Сопровождаемый унтер-офицером, крестьянин направился к ограде и распахнул ворота. Поглядев туда, П. увидел обычную для этих мест повозку – невысокую, с тупыми углами, темно-коричневую деревянную тележку, передние колеса значительно меньше задних. Рядом паслись два мула. Унтер-офицер показал на тележку и на мулов, очевидно предлагая их запрячь. Крестьянин пал на колени, простер руки над головой и отчаянно завопил; унтер-офицер хрястнул его по рукам, велел встать и вышел с ним за ворота, показал сперва на солдат, а потом на ввинчивающуюся в горы тропу и назвал город по ту сторону хребта, таким образом пояснив, что туда-то и направляются солдаты, после чего нагнулся, и, ткнув указательным пальцем в две выбоины на дороге, произнес: «Мины!» Взмахнув руками, словно крыльями, и сопроводив это движение громким «бум-бум!», он добавил: «Мины – понятно?» – чтобы затем улыбнуться крестьянину, который, видимо, не понимал его и только робко кивал в ответ; ткнув его пальцем, унтер-офицер округлым движением соединил повозку, мулов и старика в одно целое и, отворотясь от этой уже некоторым образом запряженной и управляемой тележки, вновь указал на уходящую в горы тропу со словами: «Ты ехай – вперед!» – указал на солдат и, изобразив руками и ногами движение марша и скривив улыбку в широкую ухмылку, быстро, с ударением, нанизывая слово за словом, произнес уже целую фразу: «Мина – бум-бум, ты – капут!» – повторив то же движенце рук, но уже скорее намеком.
Лицо крестьянина помертвело, он сглотнул, и этот судорожный глоток так сдавил ему горло, что кадык у него выпучился, руки свело судорогой. Он все понял – понял и то, что унтер-офицер добавил в заключение: «Мины нет, ты – назад!» Он все понял, и глоток застрял у него в горле, рот остался полуоткрыт, в глазах застыло безумное выражение.
– Наконец-то додумались, – произнес голос со стороны. – Теперь эта банда угодит в собственную ловушку, давно бы так!
Крестьянин по-прежнему беззвучно таращился на унтер-офицера, наконец, указав на свою седину и босые ноги, он заговорил, все больше торопясь и задыхаясь, сжимая в руках руку унтер-офицера, но тот лишь проворчал: «Да что уж там!» – отвернулся и приказал отряду выкатить тележку и нагрузить ее камнем, что и было выполнено в грохочущей спешке. Крестьянин подошел к мулам; он положил руку на холку одного из них, и тот, вздрагивая ноздрями, стал об нее тереться, левая рука крестьянина беспомощно повисла, рот был все еще полуоткрыт, он прерывисто дышал, глаза блуждали. Камни с грохотом валились на тележку; фельдфебель похлопал крестьянина по плечу и приказал: «Запрягать!»
Но тут дверь отворилась, и оттуда выбежала совсем седая старуха в сине-белой полосатой юбке и тяжелой кофте. Она не задержалась подле унтер-офицера; разглядев сверкающие звездочки на плечах фельдфебеля, она кинулась к нему, пала перед ним на колени, обхватила его ноги и, запрокинув голову, возопила – истошным голосом возопила к небу, повторяя все те же слова, очевидно испрашивая у него снисхождения и милости. Фельдфебель на мгновение растерялся, но раздавшиеся среди солдат смешки вывели его из замешательства: решительно отступив назад, он вырвался из цепких старухиных рук, подошел к мулу, которого обнимал старик, и, схватив за узду, потащил мула к повозке; старуха, не переставая вопить, все так же на коленях поползла за ним следом, пока несколько солдат, построившись цепью, не преградили ей дорогу, и тогда крестьянин, словно выйдя из столбняка, властно на нее прикрикнул и повел к тележке второго мула. Лицо его окаменело, рот его был стиснут, дрожащими руками он принялся запрягать. Старуха еще некоторое время лежала на камнях, потом поднялась и, нетвердо ступая, чуть ли не шатаясь и что-то непрестанно бормоча, направилась к дому и взялась за щеколду, но тут же ее выпустила и, все так же пошатываясь, побрела к пиниям; здесь она долго и благоговейно целовала грязные фиолетовые ноги убитых, потом не спеша подняла голову, внимательно и злобно обвела глазами круг солдат и все так же молча вернулась в дом и заперла за собой дверь. Крестьянин между тем запряг мулов, тележку нагрузили, и рота с несколькими саперами во главе построилась. Снова отворилась дверь. П., уже стоявший в строю, не решился повернуть голову и только услышал голос девушки, произнесший несколько слов, а в ответ слова фельдфебеля: «Что же, давайте и ее прихватим!» – затем услышал шаги, легкое шуршание на каменной осыпи, и перед ним на мгновение промелькнули плечи, затылок и волосы. Раздалась команда выступать, повозка тронулась, и солдаты, сделав у дома двойной поворот, зашагали в ногу.
2
В ту самую минуту, когда мимо дома проходил П., окно распахнулось и в нем показалась голова крестьянки. Она высунулась далеко вперед: лицо ее покраснело, взгляд остановился и оледенел, губы беззвучно шевелились, она высоко подняла деревянную дощечку, где лежали мелко изрубленные грязные, кровавые потроха какого-то животного – должно быть, собаки, – извергая проклятия и заклинания, она принялась посыпать потрохами шлемы марширующих солдат. Эти заклятия, эти древние колдовские заговоры начинались тягучим напевом, внезапно переходившим в сдавленный визг, который вдруг обрывался, сменяясь каким-то торжественно произнесенным звучным словом, а за ним снова следовал тягучий напев, переходящий в визг. Свершая свой обряд, старуха непрестанно покачивала головой; она окровавленными руками рассыпала желчь, почки и кишки, а между тем ветер превратился в бурю, он раскачивал под пиниями трупы повешенных, словно колокольные била, и вспенивал облака на горных куполах. Но вот старуха швырнула в солдат остатки потрохов. Теперь она только выдыхала свои проклятия, и нижняя челюсть ходила у нее ходуном, и весь огонь ее гнева собрался в глазах, которые были у нее тверже камня. Солдаты смеялись и щелчками сбрасывали с мундиров кровавые волокна; П. был потрясен. Его охватило отвращение, чуть ли не страх; устремленный на него взгляд старухи поразил его, как удар копья, он содрогнулся, точно от страха перед неведомым. Ему померещилось, что старуха вот-вот выпадет из окошка, на котором она возлежала, будто на каменной скале, и раздавит его своим телом и выколет ему глаза крючковатыми пальцами; проходя под окном, он неотступно думал: сейчас, сейчас, сейчас; он думал, вот-вот она сорвется и его уничтожит; глянул вверх и увидел, что она смотрит на него, и эти глаза обжигали; увидел, как, далеко высунувшись из окошка, она взмахнула рукой, и в это мгновение мысли его оборвались, ему показалось, что он перестал существовать, что он всего лишь тень, он уже не ощущал ног своих, и не слышал грохота марша, и не чувствовал, как кусочки потрохов шлепаются ему в лицо, он шагал, не сознавая, что шагает, – но вот он миновал ее, и, когда повозка делала разворот, ефрейтор увидел девушку. Ей было лет восемнадцать, она неподвижно сидела на козлах и смотрела прямо перед собой, стиснув зубы. Он видел ее в профиль: гладко зачесанные назад каштановые волосы, стянутые на затылке узлом, открывали лоб и виски; узкий, правильно очерченный нос отделялся от лба изящной впадинкой; тонкие губы сомкнуты; ямочка на подбородке так же мягко и нежно смоделирована, как основание переносицы; под невыпуклым подбородком узкая длинная шея. На ней была желтая блуза навыпуск, наподобие туники, и синяя юбка; ее обнаженные руки и ноги были покрыты ровным загаром. Она не двигалась, сохраняя свою строгую позу, даже когда повозку сильно встряхивало и подбрасывало на рытвинах; после ужасной физиономии обезумевшей старухи смотреть на нее было счастьем и отрадой. Это наша богиня-покровительница, думал П., пока она с нами, нечего бояться. Его тянуло обнять ее плечи – всего лишь плечи – чистым, нежным прикосновением, ощутить ее дыхание и, сидя с ней рядом, подниматься в горы, где гуляли облака; то было чистое, братское чувство, он хотел одного: сидеть с ней рядом, бежав от войны и ее ужасов в лоно простой, мирной жизни, счастливым, укрытым от опасности, почти свободным.
Повозка объезжала дорожную петлю, и головы в передних рядах заслонили ему видимость, но, по мере того как, виясь среди скалистых утесов и зубцов, тропа все выше ввинчивалась в горы, ласковый и нежный девичий профиль, немного возвышаясь над отрядом, вновь и вновь утешительно возникал перед ним, словно птичий зов в марте, вместе со сгорбленной фигурой старика и пушистыми серыми телами трусящих мулов; П. внезапно пришло в голову, что этот поход в альпийский пояс гор со своими опасностями и очарованием, ужасом и красотой, опустошенностью и нежной прелестью, жестокостью и милосердием, смертью и преображением – несравненно более подходящий символ для этого времени, нежели задуманная ими постановка «Эдипа-даря», и, когда впереди маячили только плечи и затылки товарищей, он, исполненный нетерпения, жаждал вновь увидеть прелестное лицо и, медленно поднимаясь в гору, потому что телега двигалась черепашьим шагом, думал только о предметах мирного времени: о яблонях в отцовском саду, о лесном озере и полете диких уток. Дурманящий запах тимьяна кружил голову, в серо-коричневых расселинах скал сверкали огоньки алтея и вероники, буря рассеялась, жужжали крохотные шмели. Отряд шагал молча, ни песен, ни разговоров, дорога, изрытая трещинами и выбоинами, не давала тележке быстро двигаться: приходилось часто останавливаться, чтобы на нее не наткнуться. Наконец они достигли высокого горного плато, дозволявшего более плавную езду, но тележка почему-то двигалась все с той же черепашьей скоростью, пока не остановилась у развилки.








