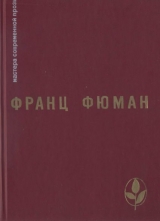
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Франц Фюман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 55 страниц)
Я вздрогнул. Дудки и барабаны молчали; умолк и оратор, зловеще заклинавший смерть; площадь затихла, и на трибуне я увидел барона фон Л. Внешне он мало переменился, только волосы и бакенбарды поседели: на носу у него были очки с узкими стеклами без оправы и с золотой дужкой, он курил сигару и оживленно болтал с группой господ; господа были в летних костюмах и приветливо улыбались. Вероятно, барон сострил, потому что господа смеялись, а один, смеясь, покачал головой и что-то сказал, и все засмеялись, и барон тоже, а пока он смеялся, тучный лысый господин объявил, что сейчас выступит барон фон Лангенау. Грянула овация; барон положил сигару, сказал на ходу еще какую-то остроту и подошел к микрофону. Я не расслышал, что он сказал вначале, в первый момент я был парализован этой кошмарно-гротескной встречей: казалось, время остановилось, оно и в самом деле остановилось, словно вернулся 1938 год – мертвое время, отравленное трупным ядом! Я заставил себя прислушаться к речи оратора. Барон говорил о свободе, а я видел его поместья и леса, которые отныне ему не принадлежали; он говорил о самоопределении, а я видел заложников, которых вели на казнь; он говорил о праве на родину, а я видел, как он поднимает бокал за Богемию у Ледовитого океана. Тихо шумела толпа, в голубом небе колыхались флаги с грифами, крестами и липами, и у трибуны в тяжелых одеждах стояли дети – яркие, но уже увядшие цветы! Я глядел на них и содрогался от ненависти к господам, которые не колеблясь растлевали ядом детские души; я стоял и дрожал от гнева, а оратор заговорил громче; сначала он жалобно сокрушался о судьбе Германии, но вот в голосе его зазвучали угрожающие нотки. «Мы не стремимся к выгоде, этого требует элементарная справедливость!» – крикнул он.
И в то мгновение, когда он произнес слово «выгода», в моей памяти будто перевернулась страничка, и с этой минуты я более не сомневался, что человеком, сломавшим жизнь фрау Траугот, был барон фон Л. Да, он растоптал ее душу, убил в ней все живое, он был ее убийцей, подлинным убийцей. Теперь ключ, который я так долго и безнадежно искал, был в моих руках; я выбрался из толпы и погрузился в воспоминания: море… отлив… пылающая отмель… Это случилось летом, перед войной, мы целый месяц жили на одном из островов на Северном море; на этом же острове ежегодно отдыхал барон фон Л. Иногда вечерами он приглашал нас к себе в гости; однажды в начале августа, в час отлива, когда обнажившееся морское дно пламенело в лучах заката, мы сидели у барона. Супруга его отсутствовала, и он извинился, сказав моему отцу, что у баронессы большие неприятности с горничной: как только что выяснилось, эта деревенская гусыня в положении, хотя она не замужем, и теперь он и его жена опозорены в глазах общества. Мне было неясно, почему это так позорно, однако мой отец сказал, что это «неслыханный афронт». Потом пришла баронесса и заявила, что, разумеется, выгнала эту бесстыдную дрянь, а барон сказал своей супруге, что им следовало бы нанять чешскую горничную, они к тому же выгоднее! Выгоднее! Больше к этой теме не возвращались – подумаешь, какая-то горничная, – однако поздним вечером случилось неприятное происшествие: в коридоре раздались быстрые шаги, по телефону вызвали врача, я выглянул в дверь и увидел, как по лестнице тащили носилки, а на следующий день барон с раздражением сообщил нам, что эта идиотка горничная, ко всему прочему, вздумала топиться. «Ну и что же с ней?» – спросил мой отец, а барон сказал, что ей повезло – приливом выбросило на берег, и ее удалось спасти. Об этом происшествии больше не упоминали, для разговора хватало других тем; пророчество барона, кажется, сбывалось: Судетскую область аннексировали, учредили «Протекторат Богемии и Моравии», железный вал катился на Польшу – где уж тут интересоваться судьбой какой-то горничной! Ее отправили домой и наняли другую; измученный человек попытался покончить с собой – я был этому свидетелем, но я забыл об этом, как забывают вид станции, мимо которой поезд прошел без остановки. Страшно подумать, сколько таких тайников в нашей памяти, сколько скрыто там воспоминаний, о которых мы больше не ведаем и которые тем не менее существуют в нас неиспользованной частицей нашего бытия! До чего же быстро человек забывает, каким он был, удивительно быстро, просто невероятно!
Я обернулся и взглянул на площадь, оставшуюся далеко позади, посмотрел на людей – ведь они все-таки были людьми – и увидел выделявшуюся на светлом фоне за трибуной темную фигурку оратора. «Он убийца, надо сказать всем, что он убийца!» – сверлила неотступно мысль, и я подумал, что следовало бы вскочить на трибуну и крикнуть, что он убийца! Площадь взорвалась аплодисментами, волна их докатилась до меня, и я уже решил было пойти обратно, к трибуне, но в этот миг перед глазами возник образ другой страны, моей страны, которая была мне сейчас родиной, как никогда, и я поспешил на электричку, чтобы вернуться в тот Берлин, где убийцы не разгуливают на свободе…
Страх, который она испытывала перед морем еще до приезда на Балтику; описание прилива, который, «разбежавшись», заливает берег вслед за отливом, – явление, наблюдаемое на Северном море, но не на Балтийском; душевная надломленность после попытки самоубийства, возраст ее сына, а также то, что родная деревня фрау Траугот граничила с имением барона Л., – все это не оставляло сомнений, что ключ к разгадке ее трагической судьбы в моих руках. Воспользоваться им я, разумеется, не имел права. Врач, с которым я посоветовался, успокоил меня. Необходимо увезти ее от моря, сказал он, тогда еще можно надеяться на благополучный исход. Я вздохнул, как вздыхал тогда бургомистр, и сказал с отчаянием:
– Но она не хочет!
– Чего не хочет? – спросил врач озадаченно.
– Уезжать из своей деревни, – ответил я.
– Странно, почему же? – спросил врач.
Я сказал, что не знаю. Было от чего прийти в отчаяние: ключ к спасительному выходу оказался ненужным.
Потом я вспомнил, что в октябре ей исполнится сорок лет; предварительно уточнив дату, я с букетом цветов отправился в Ц. Был прохладный день, один из тех ясных осенних дней, которые своей беспечной улыбкой согревают нас на пороге близкой зимы с ее дождями и вьюгами. Был ясный день, дул ветерок, и я снова услышал море, но пошел не в прибрежные дюны, а к домику с двумя деревянными лошадиными головами на коньке крыши. Как я ни готовился мысленно к новой встрече, как ни собирался с духом, но, когда я вошел в квадратную прихожую, и сбоку отворилась дверь, и на пороге я увидел фрау Траугот, маленькую, сгорбленную, вытирающую руки о фартук, смотрящую мимо меня опустошенным взглядом и произносящую беззвучным голосом: «Это вы, сударь?» – мне показалось, что у меня остановилось сердце. Ярость овладела мною, жгучая, необоримая ярость. Почему я не поднялся тогда на трибуну и не крикнул, что он – убийца!
Фрау Траугот, стоя в дверях, смотрела мимо меня и молчала – маленькая, сгорбленная женщина. На ее долю выпало тяжелейшее бремя, тяжелее вряд ли можно себе представить, и, несмотря на это, она вырастила сына, управлялась с домом и работой в поле, снискала уважение односельчан. Да, такой человек достоин уважения! Много говорить я не мог и протянул ей букет; фрау Траугот взяла цветы и, стоя в дверях, качала головой, бормотала слова признательности.
– А теперь выпьем, пожалуй, чаю, – сказал я, и фрау Траугот кивнула. Тут в дверь постучали, и вошел бургомистр с букетом гвоздик.
– Сердечно поздравляю от имени всей общины! – обратился он к фрау Траугот.
Она вытерла краешком фартука глаза.
– Здесь все так добры ко мне, – сказала она и повторила: – Так добры. – Покачав головой, она добавила: – Пойду вскипячу чаю, – и удалилась на кухню.
– Теперь я понял, почему она не хочет уезжать отсюда, – сказал я бургомистру.
– Почему? – живо спросил он.
– Здесь она впервые в жизни почувствовала к себе человеческое отношение, – сказал я, – и ей не хочется терять его, поэтому она терпит даже море!
Бургомистр подкинул на ладони букет гвоздик.
– В любом другом месте к ней отнеслись бы с такой же сердечностью, – сказал он.
– Откуда ей это знать? – возразил я. – Большую часть жизни она терпела гнет, издевательства и пинки; потом сразу очутилась в новых условиях, где ей помогли, дали дом, землю, где она обрела новую родину, которая стала для нее дороже старой, с ее горами, ручьями и часовнями; она увидела здесь настоящее человеческое общество и почувствовала себя в безопасности, невзирая на чужую природу, которая внушила ей страх.
– Возможно, вы правы, – нерешительно сказал бургомистр, – но откуда у нее такой страх перед морем?
Я рассказал ему о том, что вспомнил.
– Тогда, пожалуй, все сходится, – согласился он.
Из кухни вышла хозяйка с двумя ведрами.
– Работать сегодня запрещается, фрау Траугот, – сказал бургомистр, и, отобрав у нее ведра, мы пошли во двор. Я качал воду и смотрел на дюны, на фоне светлого неба колыхалась трава, а за дюнами шумело море.
Наполнив ведро, я снял его с крючка под краном и поставил на землю. С дюны по тропинке к дому бежал крепкий, высокий, красивый улыбающийся паренек, на нем были плавки, и с его волос капала вода, морская вода; опершись на столбик, он легко перепрыгнул через ограду, распугав кур. Не смущаясь, он подошел к нам и протянул бургомистру руку.
– Это Клаус, сын фрау Траугот, – сказал бургомистр.
Я пожал Клаусу руку, с удовольствием оглядел мокрого, сияющего юношу, только что искупавшегося в море, и перед моими глазами всплыл образ окаменевшей королевы из сказки, которая спустя шестнадцать лет ожила и сошла с пьедестала; и тут же возник другой образ – бывшей горничной, и я подумал, что эта женщина ожила в своем сыне, но и для нее самой надежда еще не была потеряна, я верил в это.
Из-за угла дома вышла фрау Траугот с дымящимся кувшином в руках.
– Я приготовила чай, – сказала она.
Голос ее звучал глухо, она смотрела мимо нас, в сторону дюн, а на дюнах свежий ветер колыхал зеленую траву и доносил к нам шум моря, которое вечно бьет о берега Богемии.
Перевод Н. Бунина
ПУСТЯК, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХСпецифика профессиональной деятельности способна порой довести меня едва ли не до отчаяния, и дело тут вот в чем: оглядываясь назад, видишь, что чреватые серьезными последствиями события, рассказать о которых по идее необходимо, были довольно-таки незначительными, если не сказать пустячными. Как говорится, ничего особенного не происходило: столкнулись на лестнице, вместе полюбовались витриной, забыли поздороваться, промолчали – вот и все, а по опыту я знаю, к чему ведут попытки произвольно расширять завязку или заранее планировать конец, материал легко извратить, ведь в игру вступает бездна непредсказуемых факторов. Так и здесь. Я хочу рассказать о встрече, на которую возлагал большие надежды, и… Впрочем, сами увидите, чем она кончилась и что из этого вышло. Продолжалось все, наверное, меньше десяти минут, ну да расскажу по порядку.
Бывают периоды, когда все в жизни как будто бы стабильно, вот людей подчас и охватывает нечто вроде дерзкой самоуверенности, которая рвется наружу лавиной вопросов, причем, по сути, мнимых. Спрашивая себя о чем-то, люди свято верят, что отлично представляют скрытое в вопросе «что», и ошибочно полагают неизвестными лишь «как» и «почему». «Как получается, что я так хорошо преподаю?» – вопрошает себя, скажем, учитель и очертя голову устремляется на авантюристические поиски подходящей причины. И, глядишь, впрямь извлекает ее на свет божий. Действительно ли он хорошо преподает и такли уж хорошо, в подобных случаях вовсе не подлежит обсуждению, но авантюра есть авантюра: порой в поисках этого «как» натыкаешься на подвох, новое «что», которое в свою очередь вызывает вопросы. Но замечать новое «что» не обязательно, и зачастую – особенно когда такие вопросы исходят от авторитетных лиц – его и в самом деле не видят.
В газете мне попалась на глаза статья о героях современности, о людях, движущих наше общество вперед; не останавливаясь перед солидными, подчас материальными жертвами, они надолго бросают хорошо оплачиваемую работу, чтобы своим энтузиазмом и уверенностью в победе увлечь отстающие бригады и участки; в ту пору страницы газет сплошь пестрели такими заметками, и я воспринял это как вызов судьбы. Устав от тяжких скитаний по далекому прошлому, я уже которую неделю искал злободневный, а значит, полезный обществу материал и вдруг – надо же! – наткнулся на него за завтраком. Чудо, а не материал, сам просится на бумагу, – какие конфликты, какие проблемы! Мелькнула мысль: как же трудно, наверное, далось человеку решение урезать собственную зарплату ни много ни мало, как здесь пишут, на целую четверть, пожертвовать прочным положением, начать все сначала и, бесспорно, обречь себя на множество неурядиц и неприятностей. Что же толкнуло рабочего на поступок, резко переменивший его собственную жизнь и жизнь всей семьи? Как счастливо соединились внутренний долг и поставленная извне задача – ведь, с одной стороны, они очень противоречивы, а с другой, стимулируют друг друга; как чувство личной ответственности уживается с нажимом руководства? Как связаны между собой подобные причинные комплексы, в какую форму выливается их взаимодействие? И наконец, как и почему безвестный человек становится героем? Иными словами, каким образом жизнь умудряется опережать литературу?
Ничего этого я не знал, ведь до той поры мне приходилось бывать на заводах лишь в составе писательских делегаций; зато я, как и все, отчетливо понимал, что этот материал – золотая жила. И пусть я переоценивал суровость и продолжительность внутренней борьбы за подобные решения, – неужели по своей непреложной гражданственности они не достойны самого пристального изучения? Поставить этот вопрос значило ответить на него утвердительно, и время благоприятствовало таким ответам; не долго думая, я позвонил на одно из упомянутых в газете предприятий – завод машиностроительного оборудования в О. – и час спустя уже сидел в поезде, а еще через два часа выслушивал заверения представителя дирекции, что он-де вполне сознает свой долг перед литературой и непременно целиком и полностью меня поддержит! Обещание свое он подкрепил небрежным клятвенным жестом. В нашей истории сей товарищ всплывет еще один раз, в телефонном разговоре, так стоит ли описывать его внешность? Разве что в двух словах: ему лет тридцать пять, судя по одежде, весьма самодоволен, голос медлительно-певучий.
Товарищ из дирекции подтвердил: речь действительно идет о бригаде «Красный Октябрь». Прежний бригадир – его уже сняли – развалил всю работу (он назвал несколько цифр), мешал внедрению передовых методов (тут было упомянуто название, которое мне ровным счетом ничего не говорило), из-за этого недотепы бригада и политически ослабла – ведь одно влечет за собой другое (и руководящий товарищ привел пример, впрямь показавшийся мне вопиющим). Но теперь, продолжал он еще чуть более доверительно, теперь-то дирекция решительно и по-деловому пресекла… (он помедлил, подыскивая нужное слово) безобразия и направила в бригаду отличного работника со смежного участка, вернее, убедила его взять на себя эту задачу. Ну а подробности мне, дескать, и самому известны. Как раз подробности я и хотел уточнить, однако руководящий товарищ ничего больше сообщить не мог, только в ответ на мой вопрос быстро подсчитал в уме и назвал разницу в заработной плате:
– Около трехсот марок.
– В месяц?
– Конечно.
Треть заработка, если не больше. И весьма вероятно, это равнозначно отказу от давно задуманной поездки на курорт. Мне не терпелось побеседовать с бригадиром, но у того были неотложные дела на смежном участке, бригаду «Красный Октябрь» временно куда-то перебросили, вот и пришлось волей-неволей назначать новую встречу: в это же время, через восемь дней, но уж тогда прямо в бригаду, слесарный участок, пятый цех.
Дневным поездом я вернулся домой. Незадолго до того одна из газет попросила черкнуть несколько строк насчет моих планов на ближайшее будущее, поэтому я воспользовался случаем и изложил на бумаге все как есть: как наткнулся за завтраком на материал, как по-писательски обрадовался своему общественно полезному замыслу, как говорил со словоохотливым товарищем из дирекции, потом написал о герое, о его незадачливом предшественнике и наконец – не удержался! – живописал окрестности пятого цеха и особенно мощенную булыжником «дорогу, на которой лежат сюжеты»… Вообще я крайне редко говорю о своих планах, но тогда не утерпел, более того, писал с удовольствием, так как повод показался мне весьма достойным.
Прошло восемь дней, и я опять на заводе; позвали бригадира, вот он: среднего роста мужчина лет сорока, чуть моложе меня, синий комбинезон, кепчонка на голове, востроносое и вместе с тем полноватое лицо, скромный, спокойный, уверенный. Почти таким я его себе и представлял, по крайней мере что касается манеры держаться, и это совпадение фантазии и реальности помогло мне справиться со смущением, охватившим меня еще в поезде. Из опасения, что не сумею достаточно основательно подготовиться к встрече, я просидел накануне всю ночь и заставил себя одолеть целую главу политэкономии социализма. По дороге в О., под мельканье насыпей и сосен, я, естественно, задремал, и весь замысел вдруг показался мне настолько сомнительным, что я едва не сошел на ближайшей станции и не отправился восвояси. Меня мучило неотвязное ощущение, что я пошел на поводу у каприза, что вся эта затея чуть ли не смехотворна. Окончательно проснувшись, я по трезвом размышлении отмел эти страхи как безобидную предстартовую лихорадку, но немного погодя они опять заявили о себе, причем куда зловреднее: мне вдруг почудилось, что и сам я, и моя тема, и мой замысел бродим в каком-то призрачном царстве, страшно далеком от реальной жизни. В купе вошел мужчина с огромным выцветшим рюкзаком и рулоном обойного бордюра, потом девушка с таксой, две седые старушки – для меня они были существами из другого мира под названием Жизнь, от которого сам я, как ни странно, был до сих пор отрезан.
Смешно, сказал я себе, где же еще жизнь столь реальна и столь осязаема, как не там, куда я направляюсь, в сфере созидательного труда, и разве есть иной путь деятельной жизни, чем стремление принести пользу обществу, отдать все силы удовлетворению его насущных потребностей! Поезд тронулся, замелькали насыпи и сосны. Девушка надкусила яблоко – девушка как девушка, такса зарычала – такса как такса. Мужчина с рулоном бордюра развернул газету, и мой взгляд упал на очередную заметку о герое будней. Вот видишь! – приободрился я, а уж когда увидел бригадира, скованность и вовсе прошла и тревоги мои показались смешными и надуманными. Я облегченно выкрикнул в металлический грохот свое имя, бригадир кивнул и пожал мне руку.
– Знаю, – сказал он, – ты тот самый писатель… – он запнулся, не то подыскивая определение, не то припоминая имя, и в конце концов докончил: —…который написал статью.
– Ты ее читал? – спросил я и тут же выругал себя за идиотский вопрос: ясное дело, читал, раз упомянул о ней.
Снова нахлынула робость, и я наконец понял, откуда она берется. И грустно, и как-то неловко: пишу о человеке, называю героем, расхваливаю, а сам ни разу с ним не говорил. Хорошо, пусть я изо всех сил старался не отступать от известных мне фактов – бригада, доведенная предшественником чуть не до политического разложения, достойное решение передовика, снижение заработка (сумму я, правда, не назвал), общественно полезная значимость этого поступка, – все равно это бестактность; вот почему, не дожидаясь ответа, я принялся объяснять, что, прежде чем сесть за машинку, пытался связаться с ним, но мой новый друг столь же скромно, сколь великодушно махнул рукой.
– Ведь там все правильно, – заметил он.
Я облегченно вздохнул, что-то пробормотал и назвал его по имени: «Вальтер», но тут бригадир поправил козырек и сказал, что он не Вальтер, тот приедет через два дня, он Вернер, прежний бригадир, так-то вот…
А кругом немолчный металлический грохот.
В такие минуты не происходит абсолютно ничего, главное – что будет дальше. Вернер продолжал как ни в чем не бывало, и тон у него был почему-то извиняющийся: нового бригадира, Вальтера, внезапно направили на переподготовку и вернется он только послезавтра; он, Вернер, послал мне открытку, но я, очевидно, ее не получил; его голос доносился откуда-то издалека, словно сквозь вату, я тщетно пытался сладить с изумлением, досадой, стыдом. Первым побуждением было повернуться и уйти, повернуться и молча, нет – возмущенно, нет – спокойно уйти и нажаловаться в дирекции, что этот недотепа не нашел ничего умнее, как послать мне вместо телеграммы смехотворную открытку; вторым побуждением – оно возникло почти одновременно с первым и разительно от него отличалось – был упрек самому себе: ни в коем случае нельзя было писать с чужих слов! Потом в мозгу замельтешили оправдания, что я-де изложил только факты, и мгновенно встал контрвопрос: а вправду ли все так? – и яростная самозащита: написанное необходимо для общества, перед такой необходимостью личные сантименты должны отступить. А среди всего этого, вперемешку с оправданиями, которые лавиной штампов напирали на сознание, внезапно родилась мысль, что вот сейчас бригадир отбросит добродушную сдержанность и пойдет на меня с кулаками. Отчетливо понимая правомерность такого поступка с его стороны, я – как ни глупо это звучит – отпрянул назад и огляделся в поисках укрытия. Но Вернер – а прошло минуты две, не больше, – Вернер все сильнее смущался, краснел, беспомощно мямлил, наконец, тяжело дыша, стащил с головы кепчонку, помолчал, явно дожидаясь от меня ответа, и опять обеими руками нахлобучил ее не затылок. Рабочие у станков и штабелей металлического листа не обращали на нас внимания.
– Вы, наверно, очень разочарованы, что не застали Вальтера, – снова донесся до меня его голос, потом Вернер умолк, и даже под натиском собственных горестей я сообразил, что мне позарез необходимо что-то сказать: «да» или «нет», лучше всего то и другое сразу. Так я и сделал.
– Да нет, – обронил я, все еще живо представляя себе внезапный удар кулака. Я сделал сильное ударение на «нет» и, чуть спокойнее, на «да», взгляд мой при этом был устремлен в сторону, туда, где синей змеей вонзалось в сталь сверло: металл режет металл, – а в голове почему-то мелькнуло, что не худо бы надеть защитные очки. Пронзительный визг резко оборвался, Вернер кашлянул и повторил, что в моей заметке все правильно.
Из газеты ему, мол, все стало по-настоящему понятно. Тем временем сверло вышло из отверстия, заготовку освободили из зажима, передвинули и закрепили снова. А Вернер продолжал: с политикой у него и впрямь не клеилось, в этом я совершенно прав…
В ту же секунду моя досада обернулась гордостью, а стыд – разочарованием. Вот какие у нас рабочие, вот какие читатели! – подумал я. Наша литература может гордиться: такая крохотная заметка, а как действует! Острейшая критика – и все равно воспринимается как помощь. Ну разве это не замечательно?!
– Ничего, придет время, и с политикой справишься, – утешил я.
Вернер расхохотался, с облегчением, от всего сердца, добродушно, у него точно гора с плеч свалилась. Я тоже засмеялся, страха как не бывало, и в эту минуту полнейшей уверенности мне вдруг стало жаль человека с рюкзаком, который в поезде воплощал для меня настоящую жизнь, а на деле явно был ничтожным обывателем, привязанным к своему домику и садовому участку. Кой черт в меня тогда вселился? Что на меня нашло? Разумеется, я правильно сделал, приехав сюда: здесь, и только здесь реальный мир, здесь, и только здесь бурлит подлинная, правдивая, увлекательная жизнь, здесь проходит та самая дорога – не поленись нагнуться, и у тебя в руках сюжет, который обязательно пригодится, да еще как! Сдается мне, что в тот миг я воочию узрел солидный том рассказов и даже успел придумать ему название.
– Наверняка справишься! – Я уже не утешал, но подбадривал Вернера.
Вот тут-то, словно я загодя сплетал будущую историю и одновременно проверял политическую зоркость Вернера, мне взбрело в голову намекнуть перед расставанием, что при всей тяжести его проступка я больше не корю его за то, о чем мне рассказали в дирекции и что я резко осудил в заметке, – словом, я шутливо намекнул на место того происшествия.
Вернер опять стушевался и возразил, что дело было не вполне так. Я удивленно переспросил и из уклончивого ответа бывшего бригадира понял, что ситуация была весьма отлична от той, какую мне обрисовал товарищ из дирекции. «Вместо митинга солидарности – в столовую» – вот к чему сводилась официальная версия. У бригадира же выходило иначе. По окончании дневной смены возникла необходимость остаться еще и на ночную; раз так, надо непременно перекусить, а столовая с минуты на минуту закроется, поэтому обеденный перерыв и совпал по времени с митингом. У людей в мыслях не было пренебречь митингом, это он оплошал: не о производстве надо было думать, а о текущем моменте, теперь-то он понимает.
Мне стало не по себе.
– Зачем же назначили ночную смену? – поинтересовался я.
Вернер объяснил, что речь шла не то чтобы о категорическом предписании, просто понадобилось срочно устранить кое-какие неполадки; так считал не он один, мастер его поддержал. Нужно было снять один из узлов агрегата – как показал опыт, он очень быстро изнашивался – и заменить новым, более износоустойчивым. Конечно, это можно было сделать и по месту эксплуатации, только ведь за рубежом издержки неизмеримо возрастут, а глядишь, того хуже – замена произойдет только после поломки агрегата.
Но ведь это полностью меняет дело, подумал я и спросил (разговор наш продолжался, пожалуй, уже минут пять), нельзя ли было заняться этим на другой день. Вернер ответил отрицательно, сославшись на сроки отгрузки агрегата, а на вопрос, знала ли об этом дирекция, многозначительно вздохнул.
Я почувствовал, что по уши завяз в этой истории, и решил распутать ее до конца. Если Вернер прав, а его рассказ говорит в пользу этого, то ему не в чем себя упрекнуть и согласие с критикой продиктовано избытком смирения, может, даже цинизмом, и моя статья только лишний раз укрепила его в такой позиции; не исключено, что согласие продиктовано ложным, чуть ли не извращенным пониманием значимости политических мероприятий, и не в последнюю очередь виной тому моя статья. Так или иначе, мои строки нанесли вред, я обязан объясниться с Вернером и заодно докопаться до причин инцидента.
– Выкладывай-ка все с самого начала, – попросил я, но Вернер только пожал плечами: мол, рассказывать больше нечего.
Внешне он был спокоен, но теперь я уже почувствовал в нем уныние, по крайней мере так я истолковал изменившийся тон, ведь говорил он недружелюбно.
– Но мне все же думается, вы были правы, – наседал я, не обращая внимания на предостережения внутреннего голоса, который призывал, меня остановиться, – с заменой узла все было как надо, дирекция обязана признать… или, может, у вас не было случая изложить им ситуацию?
Вернер опять помял кепчонку, опять вздохнул, с тем же смущенным пренебрежением махнул рукой и наконец, уже явно не в силах сдержаться, сказал:
– Если вы намерены снова писать об этом, ступайте лучше к начальству, пусть они вам объясняют. – Голос его звучал почти грубо. – Политикане мое дело…
Он оборвал фразу, но я догадался, что он имел в виду: вы же, мол, сами к такому выводу пришли, в статье-то!
От внезапной грубости я растерялся, резкий обрыв разговора испугал меня, мелькнула мысль, что написанное будет и впредь с конфузом оборачиваться против меня, – все это перекрыло поток просившихся на язык вопросов: вправе ли он своей властью принять решение о переоснастке; на каком уровне, собственно, принимаются подобные решения; какие инстанции они проходят – в том числе высшие и наивысшие – и каков механизм движения по этой пирамиде распределения заданий; по каким вопросам нужно просить, по каким – ходатайствовать, требовать, указывать, приказывать; далее, нет ли в этой истории противоречия между совестью и соображениями выгоды, дальновидностью и близорукостью, ответственностью и инертностью, и если да, то насколько оно глубокое, и – все эти мысли впервые пришли мне на ум со столь ошеломляющей естественностью – не попал ли тут человек-одиночка как бы между двух огней, в точку пересечения двух разных интересов, и не нарочно ли его туда спровадили, и где находятся средоточия подобных тенденций вообще и этой в частности – в сфере производства или выше, может быть, даже в экономике как таковой, в кадровой политике, в теории, в прагматике, в сфере руководства или исполнения? И в довершение всего бессвязные, почти абсурдно примитивные вопросы типа: что там был за митинг, о каких агрегатах шла речь – турбинах? мышеловках? холодильниках? моторах? Я ведь ничего не знал, а следовало бы выяснить и это, и еще в сто раз больше, прежде чем браться за перо, но теперь было не до расспросов. Если я не склонен еще больше укрепить бригадира в его мнении, если хочу по крайней мере добиться от него снисхождения к моей опрометчивости, если не желаю, чтобы эта нечаянная встреча обернулась непоправимым, то я просто обязан сию же минуту загладить свой промах.
– Моя статья некомпетентна, не следовало мне ее писать! – сказал я и тут же испугался резкости этих слов, хотя исходили они из моих собственных уст.
Я запнулся, хотел начать снова, но Вернер уже ответил на вопрос вопросом, крыть который мне было нечем:
– Вот как?
Два словечка, два слога, короткие, отрывистые, – они вернули меня к действительности. Мне почудилась в них неприкрытая насмешка, точно ушат холодной воды. А когда он опять, как раньше, отмахнулся, я спросил себя: что тебе здесь надо? Бригадир поневоле считает меня писакой, который – что ни говори! – одной веревочкой связан с дирекцией, действия которой сам Вернер явно не одобрял, и послал меня сюда тот краснобай, и вообще вся заметка написана под его диктовку… Никакой другой удар не мог бы унизить меня сильнее, к тому же я чувствовал, что все это близко к истине.
Нечего было лезть в это дело, мелькнуло в голове, а на языке так и вертелась пословица: всяк сверчок знай свой шесток, – и я решительно подумал: ну ладно, ты был наивен, но тебе приписывают злой умысел; раз так, извинись и ступай отсюда, ситуация явно зашла в тупик, и, кроме неприятностей, ничего ты тут не дождешься! В самом деле: даже если Вернер обидел меня невольно, все равно, что мне тут, черт побери, нужно? Наседать на бригадира попросту опасно, и, вероятно, я вправду слишком много от него требовал. Политика, как видно, действительно не его стихия; о статье я сожалел, завоевать доверия не смог, а коли уж мне так хочется разобраться в истории со столовой, не лучше ли подождать нового бригадира, толку от него будет больше, чем от Вернера.








