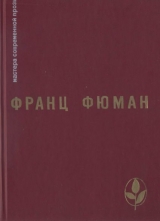
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Франц Фюман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 55 страниц)
В конце концов относительно всех существующих ныне государств я решил, что они управляются плохо… И, восхваляя подлинную философию, я был принужден сказать, что лишь от нее одной исходят как государственная законодательность, так и все, касающееся частных лиц. Таким образом, человеческий род не избавится от зла до тех пор, пока истинные и правильно мыслящие философы не займут государственные должности или властители в государствах по какому-то божественному определению не станут подлинными философами. (…) Ныне же либо некий злой гений, или какая-то пагуба, поразив нас беззаконием и нечестней, а самое главное, дерзким невежеством, из которого возникает и плодится для всех всевозможное зло, в дальнейшем рождающее для тех, кто его создал, горький-прегорький плод, – эта пагуба снова все низвергла и погубила.
В окрестностях Сиракуз, в благоухающих садах на месте древних каменоломен, которые теперь называются «Райская темница», гиды охотно показывают туристам грот, округло сужающийся кверху и уступчато в глубину и удивительно похожий на ушную раковину. Грот этот зовется «Ухо Дионисия».
«Ухо» неизменно поражает воображение. Один из гидов входит в грот, второй вместе с группой туристов поднимается по серпантинной тропинке вверх по склону к древнему амфитеатру и там, среди гранитных глыб и чертополоха, на расстоянии добрых трех сотен метров в сторону от грота, предлагает им опуститься на землю у трещины, из которой внезапно раздается и вздымается, словно свод, голос человека, оставшегося в гроте. Человек этот не кричит – от крика полопались бы барабанные перепонки, – он шепчет, и слышно, что именно он шепчет, слышно даже, как он дышит, слышно, как потирает руки, как приглаживает волосы; он находится в двух с половиной стадиях от слушающих, а кажется, будто бы среди них.
Так было и в дни, когда мысль о мысли мыслила себя на рассвете мышления, в дни, когда погиб афинский флот и десятитысячная армия выступила против Кира, великого царя Персии. И началось это, как все великое, с ерунды. Дионисий Первый, самодержавный стратег Сиракуз, выйдя из театра, чтобы справить нужду, не пошел в отхожее место для избранных, а, движимый привычной подозрительностью, присел за грудой камней, как делывал в ту пору, когда был простым всадником (правда, на этот раз – в окружении телохранителей); и вдруг услышал исходивший прямо из-под него голос, призывавший на его голову смерть: «Да проткнет стальной клинок твое брюхо!», а потом прозвучало его имя, да еще и «тиран» перед именем. Стратег обмер от страха, но так быстро овладел собою, что никто из телохранителей не заметил его испуга; поначалу он принял заклятье за злобный выкрик демонов, таящихся в теплых внутренностях человека, которые, когда их внезапно вытолкнули из тела хозяина, стали мерзнуть на вольном воздухе; но потом он узнал голос: то был сводный брат его второй жены Дориды, чей отец… Однако ни к чему уточнять родство; то был голос его злейшего врага по имени Никофор, который домогался единоличной власти над Сиракузами, дабы спасти город от тирании Дионисия, за что и был брошен более удачливым противником в самую надежную темницу, какая была у города, – в грот, недавно выбитый на больших гранитных каменоломнях и служивший одновременно и жилищем для рабов, и застенком для государственных преступников.
Разработка этих каменоломен происходила таким образом: гранитные глыбы вырубались из скалы по трещинам, так что сохранялась их естественная форма, а оставшиеся опоры и перегородки принимали на себя тяжесть свода, образовавшегося за многие десятки лет над лабиринтом пещер. В одном из возникших таким образом гротов, не связанном с лабиринтом, содержался Никофор, прикованный к скале цепями на руках, ногах и бедрах и, несмотря на полную неподвижность и один-единственный подступ к гроту, охраняемый целым отрядом копейщиков. Люди они были надежные, к тому же все время друг у друга на глазах, как же Никофору удалось удрать и где он нашел укрытие? Местность кругом отлично просматривалась, так что спрятаться тут могла бы разве мышь, но уж никак не взрослый мужчина, а Никофор был к тому же богатырского роста. Так что оставалось одно из двух: либо обозленные демоны нарочно подражали голосу его злейшего врага, чтобы напугать своего бывшего хозяина, либо волей богов он, самодержавный стратег Дионисий, обрел дар слышать голос своего врага из такой дали, из какой человеческий голос обычно не доносится.
Дионисий послал одного из стражников в грот слегка поджарить Никофора; сделал он это не из желания помучить врага, а только из стремления обрести уверенность, каковая дается лишь точным знанием. Брюшным демонам огонь неизвестен, он находится за пределами их опыта, и, следовательно, они – в этом и заключался расчет властителя – не смогут издать такие звуки, какие огонь извергает из живой плоти, не смогут воспроизвести тот отчаянный, надрывный, извергнутый из самой глубины естества вопль, который услышал Дионисий точно по прошествии срока, необходимого, чтобы спуститься в грот. Сомнений не было: вопль вырывался из груди человека, подпаливаемого живым, никакой демон не смог бы так точно воспроизвести этот вопль, и когда самодержец спустился в темницу, он увидел, что Никофор сидит, крепко-накрепко прокованный цепями, а его левое плечо обожжено.
Расчет оправдался, доказательство неопровержимо, силлогизм завершен, и Дионисий распорядился умерить страдания узника, все еще стонущего и мечущегося от боли. Плечо смазали целебными маслами, и, облегчив так страдания плоти своего узника, повелитель решил, что и дух его должен смягчиться, а потому предпочел сменить гнев на милость и не покарал ослушника, а принялся наставлять его на путь истинный. «Сам видишь, – поучал он несчастного, поверившего во вмешательство богов (ибо тот едва слышно прошептал свое заклятье, даже не прошептал, а лишь выдохнул сжигавшее его мозг желание и теперь пребывал в полной растерянности от того, что его мысли могли услышать), – что зло, призываемое на чью-то голову, тотчас падет на того, кто его призывал, и справедливости ради следовало бы теперь исполнить волю рока и вынести тебе смертный приговор, но я отвергаю это и дарю тебе жизнь». Наставление подействовало, целебные масла – тоже. Узник отказался от своего заклятья и покаянно вернулся на стезю послушания, а повелитель милостиво принял его под свое покровительство и предоставил ему право поселиться в городе, нажить скромное состояние и после некоего испытательного срока даже вновь включиться в дела общественные.
Удастся ли вновь и вновь добиваться столь прекрасного результата? Грот душевного очищения! – довольно смелая мысль. Весьма вероятно, она приходила на ум стратегу, однако обстоятельства отнюдь не способствовали созданию царства всепрощения и миролюбия, о котором он, быть может, втайне мечтал. Ведь он искал общества философов, беседовал с южноиталийскими пифагорейцами и наверняка вел ученые споры с Платоном; он много читал, сам сочинял трагедии, играл в собственных пьесах и как актер пользовался большим успехом у сограждан; умел также играть на кифаре и лире, однако время не благоприятствовало ни музам, ни добродетели: повсюду одни заговоры, покушения, мятежи, войны и прочие проявления непокорности, так что самодержцу волей-неволей пришлось прибегнуть к таинственному гроту, дабы с его помощью увеличить свою осведомленность. К примеру, выловив двух заговорщиков, пробравшихся в город каждый своим путем, и продержав их для начала несколько месяцев в одиночном заключении, он притворился, будто не догадывается о связи между ними, и поместил их обоих в том самом гроте, заковав в цепи и заткнув кляпом рот; но кляпы были такие, что узники могли потихоньку переговариваться, и тихий их шепот открыл властелину такую бездну ненависти, о какой он и не подозревал; а это дало ему право и силу истребить три процветающих рода, смести с лица земли город Наксос, родину заговорщиков, и распахать то место, где он стоял.
Но как же происходило это чудо, кто доносил слабое дуновение, вылетавшее из уст говорившего, до ушей слушающего у столь удаленной от грота щели? Тотчас после разговора с Никофором повелитель Сиракуз повторил проведенный опыт, на этот раз без огня, так как никакой нужды в нем не было: он просто приказал одному из стражников, оставшемуся в гроте, где висел на цепях узник, напевать солдатскую песенку, а сам направился к щели и услышал его пение. Два шага в сторону – и ничего, кроме шороха стрекозьих крыл; ухо к щели – и вновь песня. Вела ли эта трещина в грот? Специально посланные скалолазы подтвердили эту догадку, однако удаленность щели от грота намного превосходила известные из опыта возможности человеческого слуха, а самым загадочным во всей этой истории по-прежнему оставалось то обстоятельство, что сквозь щель доносился и такой тихий шепот, расслышать который и в самом гроте не удавалось. Кто его нес по трещине? Если какое-то живое существо, обитавшее в гроте, то тогда – с каких пор? Ведь грот лишь совсем недавно был сплошной глыбой гранита, скалой в скале; выходит, в камне тоже есть какая-то жизнь? Может быть, точно в том месте, где висел на цепях Никофор, в скале была крошечная трещинка, и в ней жил некий дух, некий крылатый юноша-демон, который теперь, обретя свободу, с удовольствием шатался по просторному гроту и от нечего делать забавлялся, передавая дальше звуки, возникшие в гроте? Дионисий не спросил демона, как его имя, и невидимый юноша промолчал. Так что повелитель принял его таким, каким тот ему казался – нежданно-негаданно вторгшимся в земную жизнь существом, которое, принадлежа к высшим сферам, тем не менее по милости небес отнеслось к нему благосклонно, а посему – дабы не утратить его внимания и в знак благодарности – было бы уместно ненавязчиво оказывать ему почести. Дионисий приказал ежедневно приносить демону жертвенные чаши с молоком и кровью, и демон продолжал ему служить.
Иначе повел себя его сын, тоже Дионисий; он тоже вел ученые споры с Платоном, тоже испытывал тягу к познанию, однако в отличие от отца не обладал чувством меры. Он зазнался и принял то, в сущности, случайное обстоятельство, что демон обитал в гроте, находящемся в пределах его владений, за знак особого расположения богов и доверился этой воображаемой милости в столь неподобающей степени, что возомнил, будто его минует жребий любого владыки – постоянная угроза его владычеству и обязанность неотступно противодействовать этой угрозе. Отец дал сыну наглядный урок, на час посадив его друга Дамокла, в шутку выразившего желание в течение часа побыть повелителем, под меч, висевший на одном конском волосе, и сын с ужасом осознал, какая опасность нависает над властью, но потом, уповая на верную службу воздушного демона, позабыл об этом уроке, а вместе с ним и о примере осмотрительности, который своей жизнью подал ему отец, повелевший обыскивать своих жен на пороге опочивальни, дабы обезопасить себя от спрятанного под платьем ножа (к тому же подойти к этому покою можно было лишь по мосту, который днем поднимался); еще ой приказывал брадобреям (которых позже заменил своими дочерьми) не стричь ему волосы и бороду ножом, а подпаливать их тлеющими ореховыми скорлупками; ввел он также в обычай – и нарушение его стало роковым для сына – время от времени удалять из жизни всех обслуживавших грот и щель в горе: не только для того, чтобы сохранить тайну, но и для того, чтобы предотвратить злокозненное ее использование. Лучше бы отец вместо Дамокла посадил собственного сына под висящий на волоске меч! Как уже говорилось, второй Дионисий зазнался, он возомнил, будто неуязвим для любой опасности, и когда несколько стражников, подкупленных бунтовщиками, подстроили в гроте разговор, то подслушавший их тиран сразу поверил в измену самого преданного из своих военачальников, что было равносильно смертному приговору: тем самым он лишился единственного полководца, способного отразить нападение коринфян и карфагенян, то коварное нападение, из-за которого тиран в конце концов утратил власть, а вместе с ней и жизнь.
Его отец умер в своей постели после тридцати восьми лет правления.
Дионисий Третий совсем повредился умом: он превзошел гибрис своего предка и вообразил, будто тот демон – не кто иной, как Ирида, препоясанная вестница богов, дочь дневного света и морского бога Тавманта, подруга западного ветра и победительница льва, которую Гера милостиво предоставила ему; он приказал расширить грот, превратить его в храм и в честь Ириды ввел отвратительный обычай убивать гонцов, приносящих плохие вести, на склоне горы над гротом, так что кровь гонца стекала в щель сквозь охапку цветов, составляющих символ Ириды – радугу. И когда какой-то дерзкий стихоплет высмеял этот обычай в виршах, какими испокон века пачкают стены в людных местах, и повторил то мнение об Ириде, какого издревле держались отцы и деды, а именно – что она благосклонна к любому и каждому, Дионисий приказал выследить и распять нечестивца; это бы все не беда, поскольку порядок есть порядок, но с того часа повелитель возжаждал обладать телом богини. Он вознес к ней молитвы в гроте и по каким-то знакам, каким-то рокочуще-призывным звукам счел свою мольбу услышанной, а чтобы попасть на ложе богини, попытался с помощью подъемных устройств взобраться на радугу, как-то вечером раскинувшуюся над Сиракузами; в конце концов он приказал приковать себя голым к скале в гроте, велел всем стражникам удалиться и призвал бессмертную к себе. Утром его нашли искромсанным кинжалами, а поскольку в пыли отдельно валялся его отрезанный член, все поверили в месть оскорбленной богини, а некоторые даже пустили слух, что сама Гера сошла с Олимпа, дабы покарать его дерзость.
Один из телохранителей провозгласил себя тираном, то есть «самодержавным стратегом», и при нем наметился возврат к разумному использованию грота в качестве тюрьмы. Однако при последующих Дионисиях – исторические хроники не удостаивают их упоминанием – чудо грота окончательно выродилось; его низвели до уровня придворного увеселения и попросту забавлялись, играя в то, что при открытии чуда Дионисием Первым – его можно было бы с полным основанием именовать Дионисием Мудрым – было вызвано настоятельной необходимостью: внизу, в гроте, пытали закованного в цепи, а собравшиеся наверху, у щели, по его крикам должны были угадать вид пытки. Потом все опустилось еще ниже (постепенно все на свете опускается еще ниже). Если бы такая игра, принося какие-то новые знания о природе человека, о наиболее удачных способах воздействия на его нервы и мускулы, споспешествовала даче требуемых показаний, то она – нельзя не признать – служила бы делу государственного правления; но поскольку игра в угадайку служила лишь для развлечения, то она и скатилась вскоре в область скабрезного: угадывать стали уже любовные ласки и степень возбуждения совокуплявшихся.
В конце концов грот достался равнодушным гидам, по долгу службы демонстрирующим местный феномен, в каковой роли грот пребывает и поныне. Платят за такую демонстрацию от тридцати до сорока тысяч лир; само по себе чудо того не стоит, но туристы покорно платят. Правда, говорят, уже имеется проект вдохнуть новую жизнь в историческое наследие, возродить старинные обычаи и создать своего рода акустическое порно-шоу, демонстрируя слушателям здесь, в райских садах вблизи древнего амфитеатра, высоко над мерцающими гранитными скалами, звуковое сопровождение интимных сцен, происходящих в гроте.
Говорят также, что опрос мнений, проведенный среди туристов, дал весьма положительные результаты. Вполне возможно, что проект этот уже осуществлен.
Перевод Е. Михлевич
ДВАДЦАТЬ ДВА ДНЯ ИЛИ ПОЛОВИНА ЖИЗНИ
14.10.
Восточный вокзал, перрон «А», экспресс «Север – Юг», 23 час. 45 мин. Ночью этот вокзал всегда кажется удивительно уютным: черная ночь, мягкий свет фонарей, стальной купол неба покоится на прочных опорах и голуби спят в своих укромных гнездах. По небу тянутся молочно-белые упругие облачка, укрощенные драконы фыркают в упряжках, и вечные недруги – волк и овца, лев и теленок, пантера и газель – без ненависти и страха обнимают друг друга и сердечно желают друг другу всего самого лучшего; бог совсем рядом, до него рукой подать, и божественный порядок – понятен: у архангела красная шапка, у ангела-хранителя красный шарф, змию доступ сюда закрыт и даже прокопченный черт трудится на благо остальным. И как хорош тот новый мир [18]18
«…И как хорош тот новый мир…» – В. Шекспир, «Буря», V акт, сцена I. Перевод М. Донского. (Шекспир В. Собр. соч., М., Искусство, 1960. Т. VIII, с. 205.)
[Закрыть]…
Пожалуй, не хватает только пальм.
Проявления национального характера в минуты прощания: немец, по-моему, облагораживается.
Навязчивая идея: боязнь оказаться в одном купе с человеком, который только что защитил диссертацию на тему «Эпический театр и драматургия Бертольта Брехта».
Вздох облегчения: второй диван поднят.
Рядом, за дверью открытого купе, два генерала, воротники мундиров у них расстегнуты. Один читает газету – удивительное зрелище. Легче было бы представить себе, что он читает книгу, это традиционнее. Газета вносит момент отчуждения. Почему?
Мне кажется, я знаю.
И конечно, как молния, воспоминание: в лагере для военнопленных генерал выскребывает котел из-под каши. Сейчас его очередь, и он так глубоко влез в котел, что оттуда торчат только его ноги в брюках с лампасами – на фоне пустынного бледно-серого неба; с тех пор я перестал считать генералов богами.
Ejaculatio ргаесох [19]19
Преждевременное извержение (лат.).
[Закрыть]носового платка, который разворачивается, хотя поезд еще не тронулся.
Стрелка вокзальных часов не скользит, скачет от минуты к минуте, и так деловито, что ее поведение кажется утешительным.
На перроне появляются, мысленно поплевывая в ладони, две уборщицы с огромными метлами (пожалуй, это подробность для моего «Прометея», конец сцены в Меконе).
В моем представлении у Посейдона часто проявляются черты начальника станции; Аполлона я прекрасно представляю себе в этой роли, Гермеса и Ареса – по необходимости, а Гефеста, Аида, Диониса – ни в коем случае. И Зевса тоже не представляю. Уж его никак: слишком важная должность для него.
И Прометею она не подходит, этот стал бы развлекаться играми, зато его брат Эпиметей был бы идеальной кандидатурой.
Интерьер с настоящими облаками.
Пронзительный свисток, как удар бича, и стеклянная стена вокзала перед моим окном бесшумно и привычно уплывает назад.
В коридоре высокая молодая румынка в сине-черном плаще и синем, как ночь, шелковом платке на черно-синих волосах над синими, подведенными черным глазами. А на перроне мужчина неопределенного возраста, очень болезненный и очень запущенного вида. Стоит, покачиваясь, на цыпочках, а его поддерживают два пошатывающихся парня; взволнованный так, что не может говорить, он белым облачком пара выдыхает пропитанный сивухой поцелуй; но женщина, вдруг всхлипнув, уже не отвечает ему.
«Красивый человек красив, собственно говоря, всего одно мгновение». Где только я читал эти страшные слова?
Стальными кошками мурчат колеса.
И полночь наступает вовремя… Взгляд на часы подтверждает: время движется секунда в секунду, как положено. И как хорош тот новый мир.
15.10.
Таинственно пугающая мысль, что каждый день начинается в полночь, в час призраков, в час до первого часа ночи. Но еще таинственнее открытие, что это совсем не так: полночь начинается не в 0 часов, а в 24, в этом все дело… Старый день перетекает в новый, и мгновение, лишенное протяженности, длится целый час, сегодня еще продолжает быть вчера – и тогда мертвецы переворачиваются в гробах, а чуткие собаки воют от страха.
А что, собственно, такое – мгновение? Время, лишенное протяженности, как представить себе его? Лишенное протяженности пространство – следовательно, точка – есть площадь сечения между двумя протяженными пространствами. Но что пересекает линия времени? Меридиан? Он пересекает проекцию солнечной орбиты. Но как возможно представить себе вторую, иную линию времени? А если возможно, то какой мы представим ее себе? И еще: может ли мгновение, то есть точка во времени, хоть на миг существовать, как существует точка? Ведь мгновение – это всегда то, что еще наступит или уже прошло, середина между двумя границами, которые, сливаясь, лишаются середины, лишаются презенса и претерита [20]20
Презенс (грамм. термин) – настоящее время. Претерит (грамм. термин)прошедшее время в наиболее общем смысле, охватывающее все разновидности действия или процесса, предшествующие моменту речи.
[Закрыть].
Существуют ли языки, в которых есть такие глаголы со значением только будущего и прошедшего?
А наречие для обозначения этого несуществующего – настоящего – «сейчас» (как «там» – для бесконечного)? Не правда ли, это тайна.
Линии, которые, пересекаясь, режут друг друга, – клуб садистов в геометрии.
Прощальная сцена пять минут тому назад примечательна, в сущности, тем, что прощалась, то есть уходила, женщина. Это новая, еще не развернутая мифологическая ситуация. В традиционной всегда мужчины покидают женщин, во всяком случае, я других примеров не знаю. Ариадна возвращается, а не уходит, Елену похищают, Кора покидает, но не мужчину – она покидает мать.
Книга на дорогу: следуя оправдавшему себя опыту, полагалось бы каждый раз выбирать книгу, как можно более чуждую месту, куда едешь, например брать в Крым описание полярной экспедиции. Но что взять с собой в Венгрию, где перекрещиваются все мыслимые исторические и духовные линии? Я долго выбирал книгу, отбрасывая одну за другой; я уже решил было взять Библию, но в конце концов остановился на «Путешествии военного священника Аттилы Шмельцля во Флетц» Жан-Поля – мне думается, несмотря на название, к Венгрии это не имеет никакого отношения.
Корчит веселую рожу идея рассказа, страшный замысел, и тут же, как мстительный удар кулаком, – усталость.
Засыпать в едущем поезде – все равно что вспоминать далекие дни, быть может, древнейшие времена кочевников: приглушенный ритмичный топот многих сотен ног, ощущение надежности, мелькание тьмы и света, мягкое покачивание, непонятные и все же привычные звуки и ко всему этому странно бесплотная, но ощутимая сила инерции, тянущая за собой и толкающая в плечи и бедра на повороте в неизвестное.
Пограничники и таможенники, таможенники и пограничники, потом долгий сон без сновидений и… где же мы теперь? Откос, над ним кроны молодых сосен, стремительные и исполненные достоинства под однообразно серым небом. Где же мы?
В зеркале над туалетным столиком местность движется в направлении, противоположном тому, которое ты видишь из окна; в окне она убегает от тебя, а в зеркале на тебя надвигается. Будущее предстает здесь настоящим; облик мира за окном и протяженность его во времени удваиваются – волшебный выигрыш, но от этого удвоения кружится голова; невозможно определить свое место в пространстве, вопрос «вперед» или «назад» становится бессмысленным; расколотый мир соединяется там, где проходит зазор между зеркалом и окном, он вдвигается в самого себя, он уравновешивается, в беззвучном мелькании сливаются воедино материя и антиматерия, и каждая беззвучно уничтожает себя в другой.
Присутствует ли в каждом «сейчас» будущее? Похоже, что так.
Как волчьи клыки в пасти кита, торчат выбеленные известкой лунно-белые камни на фоне темно-зеленого леса за болотом. Они отмечают километры. Каждый раз я гляжу на это место, которое поезд проходит за десять секунд, и каждый раз думаю, что вот теперь будет скучно, и все равно еще долго смотрю в окно.
Братислава. Четверо солдат на бегу отхлебывают пиво из кружек, а вслед за ними торопливо семенит маленькая женщина с косо торчащим из сумки огромным плюшевым медведем – диковинная пьета [21]21
Пьета – милосердие, сожаление; в изобразительном искусстве изображение скорбящей богоматери с телом Христа на руках.
[Закрыть], особенно диковинная, потому что она движется.
Женщины попыхивают сигаретами: Венгрия близко.
Две крестьянские девочки с зонтами.
Поразительное зрелище на одной из станций: трубочист в цилиндре, с лесенкой и шаром. Почему его появление так потрясает, даже пугает нас? Появись здесь индеец в боевом вооружении, мы бы изумились, но не были бы потрясены. Ошеломляет смешение не географических понятий, но родов деятельности. Не от экзотического чужеземца веет жутью, а от человека, про которого мы не знаем, чем он занимается или чем он на самом деле занимается; например, что делают гофмановские советники или что делается с гоголевскими чиновниками.
Как известно, грязь – это материя, которая находится не там, где ей подобает быть. Может быть, испуг – это лишь неподобающее действие? Это объясняет его близость к смеху.
За вокзалом среди вороньих стай, как маленькие драконы, сильными короткими рывками взмывают вверх и с пугающей злобностью падают наземь бессчетные серые и коричневые клочки бумаги.
Последний привет из Словакии: ряд темных ульев с зелеными крышами, передние стенки желтые, зеленые, красные, синие в различных сочетаниях, подобно государственным флагам, мирное жужжащее сосуществование. И еще один привет: небесно-голубой автомобиль на фоне кукурузного поля, окруженный играющими белыми курами, мимо них шагают два фазана.
Уже не в той и еще не в этой стране. Опаздываем на три часа. Вот, пожалуйста, та самая твоя середина между двумя границами! А ведь я выбрал именно этот (неудобный по времени) поезд, чтобы начать задуманную мною книгу путевых заметок изображением Эстергома над вечерним Дунаем.
Двойное значение слова «желторотый» весьма забавно, например, можно выразить разочарование:
Желтком хотел покрасить рот,
а оказался желторот.
Чего только не бывает на свете. За такими созвучиями, уж наверно, скрывается какой-то смысл.
Написать бы (может быть, в семейных банях) книжечку стихов, где заголовки были бы каждый раз длиннее самого стихотворения.
Будапешт. Западный вокзал; слякоть и дождь. Грязноватый, подвыпивший и вообще крайне несимпатичный проходимец выступает в роли непрошеного носильщика, ему дают понять, что. услуги его нежелательны, и все же он ухитряется вырвать у кого-то чемодан и запихать его в багажник, но никто не обращает внимания на его дрожащую, протянутую в машину руку. Я твердо решил не принимать его помощи, и Габор, судя по всему, тоже, но Эльга позволяет погрузить свою продуктовую сумку и, влезая в машину, сует ему что-то. «Да ну, – отвечает она на мой безмолвный упрек и удивление, – о чем тут говорить, это же гроши». И добавляет успокоительно, не дав мне разворчаться: «Разве ты не видел, ему необходимо сейчас же выпить, а не хватает трех-четырех форинтов на бутылку, вот он и таскал чемоданы, теперь он счастлив!» «Тоже мне счастье», – говорю я раздраженно, и Эльга отвечает: «Счастье есть счастье, и к морали оно не имеет никакого отношения, уж скорее к своду законов, и то, что для тебя – новая книга, для него сегодня вечером – бутылка вина». Я фыркаю сердито, Габор, как обычно, усмехается про себя, а Эльга, мотнув в мою сторону головой, говорит: «Сразу видно, он только что прибыл из Пруссии». Но тут мы останавливаемся возле «Астории».
Очаровательными эти гостиницы, построенные на «рубеже веков», делает их сходство с пещерой Сезама. Во многом они являют ей прямую противоположность (например, они выступают из каменного окружения, вместо того чтобы сливаться с ним, а вход, вместо того чтобы скрыть, только подчеркивает это); и тем не менее они относятся к миру Али-Бабы и Синдбада. В гостиницах «Дунай-Континенталь», «Штадт-Берлин» или в «Хилтон-Гаване» подобная мысль не пришла бы в голову, от сказки они далеки, зато напоминают полностью автоматизированные птицефабрики. То, что может действовать только так, как оно действует, и не иначе, – не сказка; здесь же мы в царстве волшебства и охотно миримся с некоторыми лишениями – с комнатой без удобств на первую неделю (в интеротелях таких нет).
«Астория»: на конторке администратора все телефоны разного цвета (красный, зеленый, коричневый, белый); перед кабинетом директора Кентавр в натуральную величину сражается с Лапифом [22]22
Кентавры – в греческой мифологии полулюди-полукони; лапифы – мифическое племя, постоянно враждовавшее с кентаврами.
[Закрыть], а позади них, среди мрамора и лепнины, директор пишет сюрреалистические стихи. Мои хозяева – венгерский Пен-клуб – не могли облюбовать для меня пристанища лучше этого.
А стенной шкаф в моей комнате – целый покой, созданный по эскизу Франкенштейна Шелли или Голема Мейринка [23]23
Шелли, Мэри (1797–1851) – английская писательница; Франкенштейн-чудовище, персонаж из ее романа «Франкенштейн, или Современный Прометей», живое существо, созданное волшебным путем. Мейринк, Густав (1868–1932) – немецкий прозаик, драматург, переводчик, автор романов о таинственном и нереальном. В одном из них действует Голем – искусственно созданный гигант. Франкенштейн и Голем – нарицательные имена для созданий, вызванных к жизни человеком, но вырвавшихся из-под его власти.
[Закрыть], – дубовая темница, гробница Еноха, жилище Голиафа [24]24
Енох и Голиаф – библейские персонажи.
[Закрыть], три метра в высоту, два метра в ширину, метр в глубину, без полок, а поперек этого ящика – палка в руку толщиной и задвижка, как на седьмой двери у Синей Бороды. Но эта задвижка внутри, а не снаружи, и тот, кто знал бы для ее тайны «Сезам, отворись», пережил бы тысяча вторую ночь.
Габор ждет. Я хочу съесть еще тарелку ухи, только острой, как следует наперченной, а значит, не здесь, в ресторане, и Габор начинает восторженно перечислять кабаки, но когда я в добавление к прочим своим желаниям вставляю: «И горячая, понимаешь, уха должна быть по-настоящему горячая, а не теплая, прямо с плиты на стол», он озабоченно морщит лоб. «И как только можете вы есть такую вредную пищу, ведь так все внутренности сожжешь», – говорит он.
Можно высказать сотни доводов «за» венгерскую кухню, и первый из них: она вкусна. И четыре «против»: слишком мало овощей, все готовится исключительно на свином сале, все едва тепловатое – и решающий: она слишком вкусна.
Знаменитый охотничий ресторан переполнен; мы могли бы занять два места за столиком на четверых, однако здесь считается бестактным мешать паре или собеседникам. Желание провести вечер вдвоем безо всяких помех определяет готовность предоставить подобное право и другим, этому обычаю отдают дань даже мои соотечественники… Разумеется, здесь еще не хватает жилья, а ресторанов очень много. Но в этом обычае проявляется также и иное отношение к жизни. Жизнь здесь более открытая и в то же время более обособленная, чем в Берлине или Эрфурте, там одно исключает другое, а здесь одна противоположность обусловливает другую. Здесь в ресторане и кафе люди не спешат и могут себе это позволить – официант не требует все новых заказов, ожидающие ждут без толкотни и воркотни, а кто, как мы, действительно голоден или торопится, может пройти несколько шагов дальше. И уже в соседнем ресторане есть места, много мест. Мы почти одни в обеденном зале. Восемь столов, а заняты только два. Приносят уху, специально приготовленную по заказу Габора уху. («Где, – взволнованно спросит завтра Эльга, – настоящая уха? Острая? Горячая? В Пеште? Невероятно». И будет права, потому что мы в Буде.) Итак, приносят уху в дымящемся адском котле, но, несмотря на всю остроту, она не жжет нёба и не притупляет вкуса. Карп упругий, белый как снег, не рыхлый, не разваренный, но все-таки мягкий, а на вкус такой, будто всю жизнь питался одними орехами, и правящий в зале метрдотель возвещает тоном, не допускающим возражения: «А потом, господа, вам подадут ушки с творожком в горшочке, я уже заказал их на кухне!» Наверху сумеречно и – бальзам для души – нет оркестра, потому что внизу, несколькими ступенями ниже, играют в карты. Хорошо освещенный, большой, почти квадратный зал безо всяких украшений, белые деревянные столы; яркий свет под зелеными абажурами; играют сосредоточенно, тихо. Никаких прибауток, никаких споров, глазеющие болельщики молчат, женщин почти нет. Пьют мало; играют, разумеется, на деньги, разумеется, азартно и, разумеется, не в азартные игры: преферанс, тарок, марьяж, шестьдесят шесть. Тихо позванивают монеты, сложенные горкой перед каждым игроком, молчат болельщики, бесшумно движутся кельнеры; за одним из столов очень красивая девушка-талисман завороженно смотрит на сброшенные карты.








