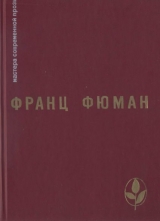
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Франц Фюман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 55 страниц)
Прометей не медлил, и ему недолго пришлось искать Амалфею, двадцать девятую по счету. Коза радостно выскочила ему навстречу и тут же пригласила поиграть с тремя ее младшенькими, в самом деле премилыми козлятками. Прометей пытался ей объяснить, чего от нее хочет, но это было трудно, почти невозможно. Легко ли сказать по-козьи – ведь Амалфея на языке титанов не говорила и, кроме своего родного наречия, лишь немного понимала воробьиное, львиное, волчье и овечье, – так легко ли по-козьи сказать: «для оживления глиняного товарища»? «Экки-мее-мееки», – сказал для начала Прометей, то есть «такой, как я». Тогда Амалфея прыгнула на него и пыталась дохнуть ему в нос, так что ему пришлось в конце концов изобрести слово-чудовище: «эккитэккинеемеебыыстреехекхекнекнекмеенеемеремеремекмекмек», которое означало: «те, которым надо двигаться, да побыстрее, а они лежат, как мертвые». Правда, добрая Амалфея и после этого объяснения не очень-то уразумела, что ей, собственно, делать в стране, где «не найдешь и листика пожевать», но поскольку просил ее Прометей, а не кто-либо другой, то она лишних вопросов не задавала и позволила ему взвалить себя на плечи и перенести по воздуху через пустыню.
Полет проходил трудно.
– Только не урони меня, – мекала Амалфея, – только не урони! Не забирайся так высоко!
– Не беспокойся, Амалфея, и помалкивай!
– У меня голова кружится, Прометей!
– Закрой глаза!
– Но тогда я ничего не увижу! Лети пониже!
Прометей исполнил ее просьбу.
– А голова все кружится. Я ведь не орел! Еще ниже!
– Я уже задеваю ногами песок.
– Мек, мек, змея! А повыше нельзя? – И сразу опять: – Мее-мее-хекк! Не так высоко, мее, мее, опять голова закружилась!
Однако в конце концов они целыми и невредимыми опустились в ров. Гермес уже ждал их. Он разбил высохшие фигуры и натаскал с того места, куда ударила молния, новый запас глины. Примешал к ней и немного песку – для укрепления костей и зубов.
Они принялись мять и месить.
– А мне что делать? – спросила Амалфея.
– Немного подождать и не шуметь, – попросил Прометей. Он знал, что его просьба почти невыполнима, а потому просил настоятельно.
– Да тут можно умереть со скуки, – возмущалась любопытная коза. – Ну и пустыня! Песок и песок! Ты прав был – ни листика зелененького! – Но потом она набралась терпения и стала молча ждать, а Прометей с Гермесом тем временем вылепили из глины мужчину и женщину.
– Не забудь соединить носовые проходы с глоткой, – напомнил Гермес, обтачивая локтевые суставы. – Первым своим фигурам ты сделал их слишком узкими.
– Мы разве будем дуть им в нос?
– Конечно, а как же иначе? Каждый в одну ноздрю, ты в правую, Амалфея – в левую. А теперь – внимание! Цвет их становится оливково-желтым! Сюда, Амалфея, скорей, скорей, скорей! Вдохните глубже, не кашляйте, так, хорошо! Минутку! Еще минутку – дуйте!
Амалфея принялась дуть в левую, Прометей в правую ноздрю глиняного болвана, и по его телу тотчас прошла дрожь, зашевелились пальцы ног, задергались губы, засопели ноздри, нижняя челюсть задвигалась вправо-влево, вверх-вниз, с хрипом начала подниматься и опускаться грудь, просочилось дыхание, затрепетал живот, сжались и разжались кулаки, на лице выступили капельки пота, волосы заблестели, увлажнились губы. Глиняное существо заморгало, приподняло веки, но, впервые взглянув на свет, с ужасом прикрыло глаза рукой и, застонав, стало трепыхаться и корчиться.
Амалфея испуганно отскочила в сторону.
– Мее-мее-мек! – неодобрительно замекала она. – Бее-бек! Он бьется, бьется! Мек-мек-мек!
– Не мекай, у него все наладится, конечно же, наладится, – воскликнул Прометей, – он просто испугался, что тут удивительного! Ведь он не понимает, что с ним происходит!
В упоении, с сияющими глазами склонился творец над своим созданием, которое от страха испускало сдавленные, гортанные крики, напоминавшие прерывистый лай. Так кричат заблудившиеся лисята, однако для Прометея эти звуки были слаще соловьиных трелей и внушительней грохота рождающейся звезды. С бесконечной нежностью погладил он оживающее существо по носу – оно чихнуло.
– Получилось! – вскричал Прометей, захлопал в ладоши от радости и начал прыгать с ноги на ногу, но Гермес схватил его за плечи и встряхнул.
– Приди в себя! – прикрикнул он. – Вторая ждет! Перестань плясать, тесто портится! Амалфея, сюда! Скорее делайте вдох! Да скорей же, Аид вас побери!
Прометей и Амалфея набрали в грудь воздуху, Гермес крикнул: «Давайте, давайте!», и они снова принялись дуть, титанов сын справа, коза слева, и вот второе существо задвигалось на земле. Оно трепыхалось несколько грациозней, не так боязливо, да и хныкало потише, но тоже прикрыло глаза руками, и лицо его выражало растерянность и страх.
– Привет вам, друзья, – произнес Прометей, – вот вы и с нами! – Руки у него дрожали, когда он воздел их, дабы произнести нечто особо торжественное, но голос его, взвившись до торжественно высокой ноты, вдруг сорвался. Счастье захлестнуло его, и он едва не задохнулся.
– Ну, а дальше что? – нетерпеливо спрашивал Гермес. – Здесь эти созданья хватит солнечный удар!
Мужчина и женщина лежали в изнеможении и легонько постанывали. Казалось, испуг они копят теперь внутри. Амалфея мелкими шажками подошла поближе. Любопытство в ней пересилило страх, а когда она услыхала, как эти двое похныкивают, ее растрогала их беспомощность. Ведь в известной степени это были и ее дети тоже. Как могла нежнее, она принялась своим длинным языком лизать ухо тому из двух, кто выглядел более запуганным. Это был мужчина, от щекотки плач его перешел в смех, но потом он снова испуганно вскрикнул, и все эти звуки слились в устрашающий вой. Вой этот испугал его еще пуще. Вне себя от страха, он заколотил руками и ногами и стукнул Амалфею по носу, а поскольку руки от лица он отнял, глаза его открылись, и, увидев прямо над собой рогатую морду, он из последних сил ударил еще раз и упал без чувств.
Для добрейшей козы это было уж слишком.
– Они неблагодарные, – возмущенно сказала она. – Не умеют себя вести! Мее-мее! Нее-нее! Ничего путного из них не выйдет!
У Гермеса были свои, еще более серьезные сомнения.
– Как ты их доставишь на свой Южный остров? – спросил он Прометея. – Обоих сразу тебе не дотащить, я видел, с каким трудом ты нес козу. А понесешь одного – другой удерет в пустыню или сюда явится лев и сожрет его.
Прометей и сам уже со страхом об этом думал. Малыш был прав: обоих сразу ему, Прометею, ни за что не унести, да еще на далекий остров, который к тому же сначала надо найти! Не так заботила его тяжесть ноши, как то, что каждого придется крепко держать руками, а чем же он тогда будет махать? Одной рукой и одной ногой в случае чего можно еще обойтись, но одни только ноги в воздушном море его не удержат. Оставаться здесь опять же нельзя, ни пищи нет, ни воды, ни крова, да еще Амалфея начала хныкать, что ей пора возвращаться к ее деткам.
Без помощи друга все так или иначе пойдет насмарку!
– Дорогой Гермес, – начал свою просьбу Прометей, но Гермес решительно мотал головой.
– Самое время мне отправляться в путь, – проговорил он, – моя родня уже вся собралась вокруг золотого дома. Час невероятно благоприятный, я не могу себе позволить его пропустить.
– Милый, любезный, разлюбезный Гермес…
– Можешь обещать мне, что хочешь, это просто невозможно. Пришел мой час, тут уж ничего не поделаешь. Прощайте!
И Гермес взял свой посох, чтобы продолжать путь на Олимп. Тут у Прометея во второй раз пресекся голос, на глаза навернулись слезы, и, когда это увидела Амалфея, она тоже зарыдала.
Слезы ее капали мужчине на лицо, теперь казалось, что и он плачет.
Тогда у Гермеса тоже запершило в горле, но он затряс головой.
– Это невозможно, – печально сказал он. – Невозможно, просто невозможно!
С состраданием взглянул он на Прометеевых детищ. Мужчина, окропленный слезами, лежал неподвижно, и только тихо вздымавшаяся и опускавшаяся грудь да мелкие пузырьки слюны свидетельствовали о том, что он жив. Женщину с той минуты, как взвыл ее спутник, словно трясла лихорадка; раскрыв рот, она беспрестанно испускала протяжные стоны, на очень высокой ноте, а ее полные губы вздрагивали, будто пытались выговорить слова, но от ужаса не могли этого сделать.
Прометей был больше не в силах просить. Подавив слезы, стоял он перед мальчиком, готовым отправиться в путь, и с безмолвной мольбой указывал рукою на беззащитные существа, чья жизнь, едва возникнув, оказалась уже под угрозой.
Гермес в нерешительности медлил, его детский лоб от виска до виска прорезала глубокая морщина.
– Ладно, – сказал он наконец, – есть только одна возможность: отнести их на остров Крит. Это мне как раз по пути.
– Но Артемида мне запрети…
– Вот еще вздор, Артемида! – сердито воскликнул Гермес. – Какой ты, в самом деле, честный простак! У тебя есть батюшкино разрешение выбрать себе любую местность, вот и выбери Крит! Царское слово рождает зло, но может родить и добро! Итак, на Крит! В путь, в путь!
Он вытянулся, став юношей, поднял женщину и, словно цепь, накинул себе на шею, сжав ей, как замком цепи, запястья и лодыжки.
– Пошли! – приказал он и всадил посох в песок.
Амалфея до смерти перепугалась. Если она и не совсем понимала язык, на котором шел разговор, то все же достаточно хорошо уразумела, что ее по меньшей мере на несколько часов оставят здесь одну. В такой пустыне, да кругом еще змеи! И сюда наверняка прискачут ужасные тигры! Умоляющими глазами она смотрела на Прометея.
«Ты не можешь так поступить со мной», – говорили эти глаза.
Прометей и правда подумывал о том, чтобы забрать Амалфею попозже, но теперь у него на это не хватило духу.
– Амалфея, – сказал он, – я возьму вас обоих, но держать буду только одной рукой. Обещай мне лежать спокойно и не болтать! Я постараюсь лететь так низко, как только можно! И не вздумай его лизать, умоляю тебя! Обещаешь?
– Ты полетишь обратно той же скучной дорогой? – спросила Амалфея, а когда Прометей кивнул, обещала закрыть глаза – так уж у нее наверняка не закружится голова.
– Итак, в путь-дорогу, на Крит! – воскликнул Прометей. Он встал на колени, взял Амалфею на левое, глиняного мужчину на правое плечо, а поднявшись, закрыл глаза: он хотел теперь увидеть будущее. Давно уже Прометей не делал таких попыток, ибо он понял, что ему дано видеть лишь до определенного момента, после которого дальнейшее развитие событий зависит от того или иного решения, принять же это решение может только он сам. Перед битвой богов с титанами ему радо было решить, на чьей он стороне; на побережье Крита он должен был сделать выбор – мятеж или покорность. Что же потребуется от него на этот раз? Готовый ко всему, он закрыл глаза и увидел себя с каким-то странным маленьким мечом в руках перед каменной плитой, на которой лежал убитый бык. Слева от плиты стояли его созданья, а справа – боги во главе с Зевсом. Меч сверкал, блеск его делался все ярче и резал веки изнутри. Прометей знал, как это бывает: блеск станет нестерпимым и заставит его открыть глаза. Он не стал этого дожидаться и открыл их сам.
Каменная плита, бык, малюсенький меч – что все это значит? Картину трудно было не понять: ему надо будет решиться разделать быка. Но к чему это приведет?
– Идешь ты или нет? – крикнул Гермес. – Больше я ждать не буду.
Прометей с трудом поднялся в воздух. Ему приходилось пользоваться рукой как плавником и очень быстро перебирать ногами, но все равно он едва поспевал за Гермесом, скользившим на своих чашках. К счастью, Амалфея вела себя спокойно. Солнце садилось, и тень летящих была вытянута в длину, словно странная горбатая змея. Подняв голову, Гермес крикнул Прометею:
– Как ты думаешь назвать свои созданья? Сейчас самое время дать им имя. Когда солнце коснется горизонта, благоприятный час будет упущен.
– Об этом я еще не думал, – признался Прометей. – Над этим именем я хотел бы хорошенько помудрить. Оно должно быть самым красивым из всех. Слышал ты когда-нибудь песенку иволги? – Он начал ее насвистывать, но дышать было слишком тяжело, так что он перестал и смущенно закончил: – Ну вот, примерно так должно оно звучать, только еще красивее, и, конечно, иметь смысл, глубокий смысл.
– Надо поскорей что-нибудь придумать, поверь! Главное – это смысл, звучание совершенно неважно.
Прометей так напряженно думал, что стал медленнее перебирать ногами и сразу пошел вниз. Задев голову своего нижнего спутника, он спохватился. Только тот хотел его выругать, как Прометей закричал:
– Нашел, нашел! Не ругай меня, послушай! Амалфея сказала, что из них ничего путного не выйдет, а я думаю как раз обратное и потому назову их «чеевеки» – те, из которых кой-чего выйдет.
Но Гермес сморщил нос.
– Не очень-то благозвучно, а? – усомнился он. – Дело, конечно, не в одном звучании, но все-таки… – И он несколько раз повторил, покачивая головой: «чеевеки», «чеевеки», а потом сказал: – Звучит слишком уж по-козьи!
– Они будут зваться именно так, – упрямо заявил Прометей. – Это имя – смесь титаньего и козьего, и есть в нем что-то от правещества нашей матери Геи! Чеевеки, да, да! Это прекрасное имя!
Он коснулся подбородком белого пятна на лбу Амалфеи, и она, исправно держа глаза закрытыми, облизнула языком его верхнюю губу.
– Не правда ли, Амалфея, ты мне поможешь – будешь кормить их, поить и воспитывать? – Он просил так неотразимо трогательно, как некогда, в давно прошедшие времена, бывало, клянчил у первой Амалфеи глоток молока. – Им надо будет сразу немного попить. Ты ведь им не откажешь?
– Мек-мее, – заверила Амалфея.
– Я это знал, – довольно сказал Прометей.
Показалось море.
– Что же теперь будет? – в страхе спросил Прометей. Казалось, все снова поставлено под сомнение. Как шествующий посуху переберется через воду?
– Ничего особенного, – смеясь, успокоил его Гермес. – Эти чашки уж как-нибудь меня перенесут. Здесь и больших немало валяется. Я же говорил, из этих штук можно много чего понаделать.
Он сменил чашки и ступил в море.
Подкатили волны и подняли его, и он заскользил по ним вперед, гребя ясеневым посохом.
«Умный парнишка», – с восхищением подумал Прометей. Такого способа передвижения по воде он не знал и сразу решил воспользоваться им для своих созданий. Он неотступно о них думал, и ему стало казаться, что Гермес, пожалуй, не без причины сморщил нос, когда услышал их название.
«Правда, – думал Прометей, – звучит и в самом деле немножко по-козьи. Смысл я непременно сохраню. А вот звучание надо будет немного изменить».
Показался Крит. Они одновременно ступили на землю, когда солнце еще стояло над пурпурным краем неба. Гермес снял свою ношу и уложил ее в мох перед пещерой Амалфеи. На этом прохладном и мягком ложе среди благоухания земляники запуганное созданье перестало хныкать и, успокоенно сомкнув губы, погрузилось в сон.
Прометей положил ее спутника рядом с ней, и все трое – титан, бог и коза-мать – оглядели свое творение.
– Ну что же, – с удовлетворением сказал Гермес, – на вид они как будто удались. Не забудьте о подарке для меня, когда вас будет сотня! Прощайте, чеевеки, счастливого вам пути! У меня такое чувство, что счастье может вам очень понадобиться.
Он опять стал ребенком и юркнул в темную зелень папоротников. Прометей не успел обнять его на прощанье – он исчез. Лишь белый след светился в чаще, словно свежевыпавший снег.
– Спите, – произнес Прометей, – спите и набирайтесь сил! Я буду охранять ваш покой. У меня на ваш счет большие планы!
Казалось, впавший в бесчувствие приходил в себя, а спящая улыбалась. Что может ей сниться? У Прометея было такое ощущение, будто он когда-то ее видел, в глубоком прошлом, когда был еще ребенком. И вдруг он понял, чьи она повторяет черты: такою ему явилась Гея перед их схождением в нижний мир.
Из пещеры выскочили Амалфеины козлята.
– Это ваши новые друзья, – объяснила им мать. – Вы будете с ними играть, расскажете и покажете им, что есть в лесу полезного. Сильно их не бодайте, они очень чувствительны. И будьте с ними потерпеливей, они немного глуповаты и соображают медленно.
– Как овцы?
– Еще медленней. – И тут же добавила, энергично кивая после каждого слова: – Мее-меек! Чее-веек!
– Ура! – закричал Прометей, – теперь и ты это сказала! Что-то из них да выйдет! Я в них верю. Ах, Амалфея, я верю в них, в этих глиняных болванов, в эти комья земли, в эти сгустки тины, в эти кучки ила, в эти шарики грязи – в эти чудо-созданья! Погляди, как они лежат! Погляди, как они улыбаются! Погляди, как их овевает ветер, объемлет мох, ласкает свет! Ах, Амалфея, как я счастлив! Бесчисленные ходят по небу солнца, луны и звезды, но лишь на одной, на этой звезде живет тот, кому будет принадлежать Вселенная, – наш Человек!
– Ну-ну, – сказала Амалфея, – ну-ну!
Заметив, что человек-мужчина начал моргать и в любой миг может проснуться, она встала над ним, чтобы он сразу нашел ее вымя и, прежде чем снова закричать, сперва бы напился.
Перевод С. Шлапоберской
УХО ДИОНИСИЯ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ УТРЕННЕЙ ЗАРИГомер, «Гимн Афродите», 219–239
Эос, богиня утренней зари, спала однажды с Аресом, с которым рано ли, поздно ли, но доводится спать каждой розовоперстой.
Афродита застала ее врасплох.
Конечно, то, чем они с Аресом занимались, было в ее глазах делом священным, что правда, то правда, но ведь Арес-то в конце концов был ее мужем. И Афродита покарала Эос, обрекши ее жаждать любви смертных так, чтобы желание отдаться им перевешивало всякий стыд.
Произнесено проклятье было той же ночью, и Эос над ним посмеялась. Как-никак мужем ее был титан Астрей, которому она родила утреннюю звезду да четыре ветра, бороздивших воздушный океан, и такого мужа ей за глаза хватало. Что до Ареса, так ведь он был неизбежным для всех исключением, и памяти о нем ей теперь хватит надолго.
Но вот пробил час, когда пора было будить День, а Ночи указывать путь за море, и Эос стала спускаться с горы восвояси; тут-то, на склоне, под фиговым деревом, она и увидела спящего пастуха. Укрывшись одеялом, он лежал на животе, слегка подтянув ноги, уткнувшись лицом в локти.
Его беспомощность была так трогательна.
И она не устояла от искушения скользнуть под него.
Эти шершавые и сухие, как рога, руки, оливковая кожа, запах пота, ах…
А он спал и утомился во сне и, счастливо облегченный, проснулся в красном сиянии всех гор: то растекалась по ним краска стыда Эос.
Разбудив День и проводив Ночь, она заперлась в своей светлице и горько заплакала из-за двойного своего унижения, ибо все случившееся казалось ей постыдным, а стыд – сладким. Ночью она раззадорила Астрея, чтобы он ее насытил, а утром избрала другой путь, но и на сей раз ей встретился юноша. Его открытые губы, беззащитная грудь… Охотник, превратившийся в дичь, – она легла к нему. Запах чеснока и винного перегара, под ногтями запекшаяся кровь… Он проснулся в смятении – горы кругом пылали.
И так каждый раз кто-то новый, утро за утром, новая нечистая плоть, новая нежность. О, как прекрасно это погруженное в сон несовершенство! Она стала избегать мужа – к его вящей радости: они казались друг другу холодными и навязчивыми одновременно. Он взялся доставлять известия звездам, а на обратном пути заглядывал к пылким и податливым нимфам, селившимся в прибрежных камышах, – на Пенее, на Скамандре, на Ниле, повсюду.
Его отсутствия она не замечала.
Не раз, гонимая муками срама, собиралась Эос к Афродите – умолять ее снять проклятье, но всякий раз передумывала, не решалась. О, это сладкое проклятье!
Долгое время ей удавалось ускользать неопознанной, но вот однажды утро встретило ее в объятьях Титона, одного из пятидесяти сыновей могучего в чреслах царя Трои. Каждый из принцев почивал в собственных покоях, но у Титона был любимый брат Ганимед, впоследствии снискавший такую славу, и их кровати разделял лишь полог из льняной ткани. Кое-кто утверждает, что они были близнецами. Заслышав стоны брата, Ганимед проснулся и бросился к нему, успев застигнуть убегавшую Эос.
Он, так и быть, отпустит ее, но только если она снова придет, на сей раз к нему. Ну что ей оставалось? Она поклялась, заливаясь слезами, – о, эти горькие слезы уличенной на месте преступления! – и сдержала клятву с присущим ей пылом. Братья есть братья; страсть утренней зари они делили без всякой зависти или злобы. Дали даже обет не враждовать между собой и не сближаться с другими женщинами, пока к ним ходит Эос.
А Эос пробиралась к ним каждое утро, сегодня к Ганимеду, завтра к Титону. Стыд ее пообтерся, она уже не чувствовала себя воровкой, хотя должна была, как и прежде, скрываться. Остальные братья ведать не ведали ни о каких посещениях, только вот весь дом заливался каким-то розовым светом от ее пылающей плоти.
Утренняя заря посреди ночи; Астрей, неустанный гонец на тропах вечной темноты, был изумлен: что там, на самом краю Азии, меж горами и морем, уж не земная ли объявилась звезда? Доложил Зевсу, тот воззрился вниз и углядел Ганимеда, вдвое прекраснее обычного из-за предвкушаемого восхищения. Бога осенило: да вот же ему виночерпий! Известно, что он орлом ринулся вниз и в мягких когтях вознес юношу на Олимп, в трапезную дворца. Художник вправе все видеть по-своему, и, может, он не солгал, и действительно испуганный мальчик, пролетая меж вершин и облаков, не удержал свою воду, но чтобы он был мальчиком, то это неправда – ему уже приходилось убивать и львов, и вепрей и в течение целого лета утолять вожделение не кого-нибудь, а самой Эос.
Та была в отчаянии: что ж, теперь снова скитаться от одного к другому? Однако Титон не разочаровал ее. Целую осень каждое утро наступало прекрасное умиротворение, особенно сладкое оттого, что его не надо было делить на части и что оно открывало глаза на неисчерпаемость одного человека.
И все-таки выданность человечьей любви продолжала терзать ее душу. Ведь смертные – нечистые существа, они питаются плотью и кровью, и тела их заполнены нечистотами. Правда, боги-мужи спускаются иногда с Олимпа, чтобы зачать в роде человеческом племя героев, и на них не ложится позор из-за этой страсти. Богини же – дело другое, их пятнают встречи со смертными, ибо богини любят сильнее, чем боги, и несовершенство людей притягивает их, как магнит. И нечистота людская тоже – она как заноза. Краткость их бедной жизни умножает их страсть и изобретательность в любви: люди нежнее бессмертных. И гораздо внимательнее, а это так трогательно и так возбуждает. Свое счастье они находят в счастье другого. Ни один бог не решился бы поцеловать ее в плечико, когда поясница ее пылает. Ни один бессмертный не стал бы отдавать и последние силы на алтарь вожделения. Боги ничем не жертвуют друг другу.
На веки вечные остаться с Титоном! Но ведь он смертен.
Умереть вместе с ним! Но ведь она богиня.
Она стала молить Зевса о милости: дать ей уснуть в объятьях Титона, чтобы больше не просыпаться! Повелитель богов и людей недовольно поморщился: она ведь знает, что это не в его власти. Она знала это: сами мойры распорядились так, что бессмертие нельзя отменить.
Тогда подари ему вечную жизнь – ведь этого милостивые сестры не запрещают. Она увидела Ганимеда в покоях громовержца; он смотрел мимо нее и, казалось, улыбался чему-то. Тут же исчез. Она бросилась на колени перед Зевсом:
– Дозволь накормить его амброзией! Избавь меня от срама любви к смертным. Дай нам то, что ты давал и другим!
– Вечную жизнь?
– Да, вечную жизнь!
– Что ж, будь по-твоему…
И Зевс сделал больше: услал Астрея подальше на край небосвода на целых три срока по двенадцать человеческих лет. Эос поселила Титона у себя. Они были словно созданы друг для друга: трижды двенадцать человеческих лет блаженства. За это время украли Елену, пала Троя, был убит Агамемнон, Одиссей возвратился к своей Пенелопе. Один из сыновей, рожденных Эос Титону, царь эфиопов Мемнон, основатель города Сузы, также сражался под Троей и был повержен Ахиллом, раскромсавшим ему бедро. Титон же, хоть и был троянским принцем, в войне участия не принимал. Он и не знал, что город разрушен, и никогда не интересовался его судьбой. Он жил у Эос в ее доме за пологом моря. И сына он не оплакивал. Он любил утреннюю зарю – дела хватало.
Итак, он бессмертен, угрызения совести больше не терзали ее, хотя кое-какое несовершенство в нем осталось. Тем слаще жизнь, и сама Эос перестала избегать несовершенства и все небрежнее отправляла свою должность. Недовольные заворчали, и Зевс решил учинить ей контроль. Были утра, когда день наваливался на ночь резким светом, выбивая смертных из постели; в такие-то вот часы происходили выкидыши и вообще творилось ужасное. В такой день волочили по земле тело Гектора, Титонова племянника. Титон так никогда и не узнал об этом.
Дни без утренней зари после ночей, заполненных для нее недоуменной тревогой. Что с ним? Чего ему не хватает? Что ему надо? Может, она ему надоела? Положил глаз на другую? На какую-нибудь сирену? Или нереиду? Мрачная ночь, мрачное утро, мрачный день. Отчего так побелели его волосы? Отчего сморщилась кожа? Потускнели глаза? Долго и незаметно копившееся предстало вдруг во всей очевидности, и Эос поняла: Титон постарел. Она забыла испросить для него вместе с бессмертием также вечную юность.
А Зевс в таких случаях являет свою милость лишь однажды.
Настала пора, когда смертные умирают. Титон не умер. Астрей возвратился, снова уехал, вернулся опять. Наконец она показала ему Титона.
Презабавное существо, не правда ли, волны выбросили его, обессиленного, на берег, и вот ей взбрело в голову выходить его. Похоже, существо наделено даром речи, однако слов разобрать невозможно: какой-то мышиный писк да воронье карканье. Она велела: «Скажи что-нибудь!» И Титон пропищал и прокаркал, что любит одну лишь Эос. Она поняла, что он сказал; Астрей не понял. Он рассмеялся и позволил оставить Титона в пристройке между конюшней и домом. И оба, снова спавшие после долгого перерыва вместе, поначалу видели в нем потеху. Эос говорила каждое утро: «Танцуй!», и Титон начинал кружиться. Астрей говорил: «Покажи, что ты мужчина!», и Титон раздевался.
Иной раз она сажала его на колени, гладила щетинистый подбородок. Время меж тем бежало. Вторая Троя, третья, четвертая, пятая, шестая, а Титон, сморщенный, высохший, одряхлевший, с впалыми глазами, жил, и каждое утро просыпалась его бессильная похоть. По ночам он лежал почти без сна и все ждал, пока рядом послышится шорох, – и тогда, прижав ухо к тонкой деревянной стене, он слушал, как Эос вставала, ходила по дому, умывалась, причесывалась, одевалась, целовала Астрея. Он вдыхал ее запах, слушал ее голос, чувствовал ее тепло, выкрикивал и выпискивал свое пожелание: поцеловаться с утра – он ведь мог еще целоваться! Астрей выносил ему еду – все еще амброзию. Иногда с ним приходила и Эос, и тогда Титон валился ей в ноги, едва прикрыв своим тельцем розовые пальцы ее ног, а она отталкивала его и долго после этого не приходила, пока его визг по утрам не становился слишком уж невыносимым.
И он опять валялся у нее в ногах, маленький, с усохшей головкой карлик.
Однажды к Астрею явился Ганимед с каким-то поручением от Зевса; увидев любимого брата, он ужаснулся, заплакал. Титон его не узнал.
Ганимед, не осушив слез, предстал перед Зевсом: «Лиши его бессмертия!» Хотя и знал, что это невозможно. Шагнуть от смертности к бессмертию дозволяют иной раз мойры, но назад пути нет: из бессмертия не выпрыгнешь.
Эос, сочувствовавшая горю Титона, также напрасно умоляла громовержца, взывая: «Вознеси его к звездам!» Зевс только глянул вниз и сказал: «Этого?»
Он не спрашивал, любит ли она его еще, боги не задают подобных вопросов.
В звезды он не годился, но примером мог быть поучительным; иногда посреди безмятежных радостей, которым предавались боги, или когда похоже было, что они забывались, Зевс показывал им Титона: «Полюбуйтесь, вот вам бессмертный смертный!» Кто содрогался тогда, а кто и смеялся, звонче всех светлейший из богов Аполлон. Сестра его Артемида и смотреть-то боялась. Титон, шелудивый, с одеревенелыми ушами, одеревенелым носом, одеревенелым органом, Титон выкаркивал свою неутолимую тоску.
Со временем он всем надоел и как потеха. Седьмая Троя. Восьмая. Они перестали его кормить.
Титон иссыхал изнутри; влажной в нем осталась одна слюна, бежавшая из одеревенелого рта. Ногти – вот единственное, что еще росло у него. И пронзительны были его голодные вопли. Иногда Астрей просовывал ему в продолбленное окошко горшочек с нектаром.
Слюна его со временем стала вонючей; вонь проникла сквозь деревянную преграду и достигла в конце концов Эос. Совсем сбагрить его с рук? Аид отмахнулся: это не тень. На Олимп? Не может быть речи! Ни на земле, ни на море никто не хотел принять его, ни в горах, ни на островах. Утопить? Возмутились волны.
Запах гнили по утрам; невыносимо. Гнилостный воздух распространял болезни и лихорадку, нагонял лихие беды: матери предавали детей, братья алкали крови друг друга, хозяин убивал гостя. Даже в стане богов разразилась чума.
Тогда Зевс наведался к мойрам.
Просил их изменить свое установление – не то судьба запутается в собственной нити. И ужасные милостивые сестры согласились: Титону позволено будет умереть, если только он сам того пожелает.
Но Титон не желал умирать!
Голос его превратился в дуновение ветерка, но то было дыхание вечности: он жил, он любил утреннюю зарю. Пусть убедится: он еще мог целовать! И мог еще дать ей счастье, пусть только прижмет его к себе покрепче. Вся его немощь оттого лишь, что она его избегает. Разве не помнит она, каким он был? Сильным, страстным. Неужели она думает, что такое проходит? И он призвал Афродиту.
Та явилась – единственная, кто не боялся Титона и не смеялся над ним. Она наклонилась к нему и говорила с ним, и он услышал ее и понял.
И в конце концов согласился: провести одну ночь с Эос, а к утру умереть от ее поцелуя.
Ах, этот вонючий слюнтяй – Эос содрогнулась. Отшатнулась. Она не может. К тому же ей пора идти провожать Ночь. И тогда Афродита повторила свое проклятье.
Хотя содеянное наконец Зевсом, в общем-то, нарушало запрет, сестры посмотрели на это сквозь пальцы. Он превратил Титона, одного из бессмертных, в цикаду, в крошечное существо из породы тех, что вожделенно потирают по утрам своими ссохшимися, одеревенелыми ляжками. И цикаде послано исполнение желаний: каждое утро является Эос; о, дуновение ее шафранного платья, ее запах, роса, розовость ее перстов! И произошло то, что должно было произойти: голос Титона снова стал звонким, тело гибким, глаза пылающими, как золото, сердце крепким, а сила неутомимой.








