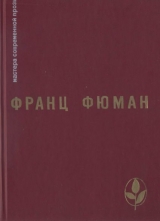
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Франц Фюман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 55 страниц)
Генриху Бёллю
17 октября 1977 года
Марсий – это тот, что осмелился вступить в поединок с Аполлоном, играя на инструменте, проклятом Афиной. Он был силеном. История его множество раз изображалась художниками и высечена в камне, к тому же знаменитый поэт описал ее в своей трагедии. Иначе все происшедшее изгладилось бы из нашей памяти, разве что летописцы поведали бы об этом на свой лад.
Инструмент, о котором идет речь, – флейта, изобретение Афины, обладавшей талантом видеть сокрытое в обычных вещах. Например, в ольховой ветви толщиной в палец; Афина постучала по ней и обнаружила, что форма ее позволяет извлекать звуки, в которых сливается сила соловьиной трели и прозрачность пения жаворонка. Этому помогает устройство в виде мундштука. Звук действительно был прекрасный. Настолько, что нимфы, заслышав его, покидали свои луга и поля, а разъяренные быки успокаивались и прекращали реветь.
Афина поспешила на Олимп, дабы снискать милостей богов, но, лишь только раздались первые звуки, Гера, Высочайшая, принялась смеяться, ее примеру последовала Афродита и, перегнувшись в своем золоченом кресле к одолеваемому зевотой Аресу, шепнула ему что-то такое, от чего он, хлопнув себя по ляжкам, громко захохотал. В полном замешательстве, сконфуженная, но еще надеясь, что все это какое-то недоразумение, Афина глянула на Гермеса, слушавшего ее игру склонив голову; почуяв ее взгляд, он поднял глаза и, посмотрев на нее, тоже разразился хохотом.
Озадаченная и смущенная, Афина покинула Олимп.
Но не в ее характере было покорно сносить обиды. Размышляя о своей неудаче, она вспомнила, что Гермес не смеялся, слушая, до тех пор пока не увидел ее лица. Тут она поспешила к морю – поглядеть на свое отражение в воде. И вот что предстало ее взору: безобразно перекошенный рот, надутая щека, синие вздутые вены на висках. Было над чем похихикать, узрев такую картину.
Афина, защитница целомудрия, с отвращением отбросила флейту. И гнев ее был столь велик, что флейта, перелетев через море, достигла Фригии. Богиня наложила свое проклятие на злополучный инструмент.
«Тот, кто поднесет флейту к губам, – сказала она, – никогда не приблизится к богам, и наказание будет гораздо более жестоким, чем простая насмешка».
И дева старательно вымыла лицо морской водой.
Прогуливаясь по берегу моря, Марсий нашел флейту. Мы уже говорили, что он был силеном, отпрыском знаменитых спутников Бахуса – из тех косматых простодушных созданий, сочетавших в себе ослиное упрямство и козью доверчивость и отличавшихся раскачивающейся походкой, присущей всем толстякам. Они любили выпить, у них были копыта и длинные уши и иногда, вот как у Марсия, например, – небольшие хвостики. Все их обожали, прощая им пьянки и храп по чужим садам. Эти пьяницы-весельчаки гуляли ночи напролет, а тут еще появилась флейта: от ее звуков воздух как будто полнился вином. Марсий играл, и фригийцы, после падения Трои забравшиеся в свои пещеры, вылезали на свет божий и устраивали танцы.
А Афина была уже далеко.
Сладкозвучная флейта привлекла и Кибелу, черноглазую фригийскую богиню, которую крестьяне и кузнецы прозвали Аммас. Она явилась в обличье храмовой девы, с раскрытой грудью; удобно расположившись на траве, пила вино, раскачиваясь в такт музыке, смеялась и говорила, что в игре Марсий превосходит Аполлона. Силен был достаточно простодушен, чтобы поверить Кибеле, и, не долго думая, повернув инструмент навстречу потокам западного ветра, вызвал Аполлона на состязание.
Аполлон не преминул предостеречь его, и вот каким образом: заснув, Марсий увидел себя снова прогуливающимся по морскому берегу; устремив глаза к небу, он заметил, что оно необычайно высокое и на нем ничего не видать, вверху простиралась мерцающая пустота. Марсий напряг зрение, ища какого-то знака оттуда, сверху, но вдруг споткнулся о флейту, лежавшую на песке. Хотел взять ее, но она оказалась настолько тяжелой, что он не смог оторвать ее от земли. Он все-таки попытался ее поднять, вцепившись в нее обеими руками, и чуть не лопнул от натуги.
Весь следующий день он не прикасался к флейте, но вечером все пошло своим чередом: вино лилось рекой и, хотя Кибела на этот раз не приходила, собравшиеся веселились не меньше и речей богини не позабыли. «Звук, подобный свету луны!», «Лучше Аполлона!» – ликовали танцующие вокруг костра, повторяя слова богини. Раззадоренный, упиваясь успехом, силен опять принялся за игру, споря с Аполлоном, а ночью ему привиделся второй сон.
На этот раз ему привиделась лира – опять на фоне пустынного неба, – лира, устремленная вниз под косым углом; внезапно струна ее, выгнувшись дугой, издала неприятный дребезжащий звук, пронзивший Марсия до самых потрохов. Тупой, тягучий страх объял его. На утро Марсий решил отсидеться в своем тростнике и не поддаваться на уговоры. Ему, однако, не удалось устоять перед полуобнаженными нимфами, охмурявшими его на все лады: они притащили вино и плясали, выставив напоказ голые груди. Он не утерпел, приложил флейту к губам, и вся его тоска излилась в чудесных звуках. Одурманенный собственной игрой силен улегся спать, в счастливом неведении предавшись мечтам.
Он играет так прекрасно! Никакой Аполлон не сравнится с ним.
Но почему он так и не появился? Куда он пропал?
Наверное, не решается…
Лира, низвергшаяся с пустынного неба.
Марсий погрузился в сон. И Аполлон не заставил себя ждать. Фигура его возникла неожиданно неподалеку от зарослей тростника, темные глаза бога были устремлены на силена, который, смущаясь и недоумевая, крепко держа флейту обеими руками, пытался стряхнуть с себя сон. Сияя на фоне окружающей зелени и чистейшего речного песка, бог не снизошел до приглашения: Марсий предлагал божественному выпить, однако ему пришлось взяться за дело одному; пропустив пару глотков, он наконец догадался, что соперник ожидает его. С трудом поднялся он на своих копытцах.
О том, как будет происходить соревнование, они договорились быстро, Аполлон все предусмотрел: каждому по песне, начинает Аполлон, никаких праздных наблюдателей, условия для обоих равные, место соревнования – опушка леса на Иде, решать, кто победит, будет третейский суд муз, наиболее осведомленных по части сказаний и песнопений, музы следуют за Аполлоном в числе его свиты и должны держаться на почтительном расстоянии, позволяющем все же в случае необходимости мгновенно исполнять Аполлоновы приказания.
Ну а приз победителю?
Аполлон смерил его взглядом.
Марсий ничего не заметил.
Между тем они поднимались в гору по дороге, окруженной молодой зеленью. Позади похлюпывало болото. Из зарослей тростника за ними наблюдали, шелестели листья папоротника. Силен, который не чувствовал, как смотрит на него Аполлон, замечал зато тысячи глаз, устремленных на бога, своего недосягаемого спутника, перед которым склонялись все обитатели Олимпа, исключая разве что Зевса, и у которого он, Марсий, осмелился истребовать назначения приза победителю, что, несмотря на все возрастающую гордость собой, чуть-чуть смущало-силена. Приз победителю. Как будто они на очередном празднестве, где смельчаки оспаривают награды в метании копья и диска и в гонках с препятствиями. Неужели Аполлон не шутит? Тот молчал, о чем-то размышляя. А вдруг он откажется? Они шли дальше. Марсий боялся, что призом будет назначен позолоченный кубок, который снискал бы ему там, в тростниковых зарослях, многочисленных завистников. Ему и в голову не приходило, что он может проиграть. А ему что от меня нужно – может, флейта, подумал он, да, конечно флейта! Ну и пусть! Он засмеялся от радости. Так вот в чем дело. А если он, Марсий, победит, что же ему потребовать от бога?
Аполлон безмолвствовал.
– А может, мех с вином, – предложил Марсий.
Он поднял взгляд и увидел, что Аполлон смотрит на него.
– Приз – дело не последнее, – провозгласил бог, – побежденный отдает себя в руки победителя, и тот поступает с ним на свое усмотрение.
– На свое усмотрение?
– По усмотрению и по мере.
Браво вышагивая, Марсий цокал копытцами и скреб брюхо. По усмотрению и по мере. Вот это да! В этих словах есть что-то таинственное. Начало-то хорошее – для победителя, а конец неплох для побежденного. Однако у Марсия не было никаких сомнений в собственной победе. Он вскинул флейту на плечо и рассмеялся: итак, побеждает он, Марсий, а Аполлону придется притащить ему полную пещеру вина. Или это уж слишком? Скрипнула галька под ногами, Марсий забулькал от удовольствия: берлога, полная вина, из самого сладкого винограда, растущего на Самосе, вот искомая мера – на меньшее он не согласен! Они продолжали идти по горному откосу. Аполлон хранил молчание. А вдруг он, бог, все-таки победит? Что надумал он сотворить с Марсием?
Он сможет раскрыться полностью, последовал ответ. Марсий возрадовался: а, ясно, он целую вечность будет развлекать небожителей, чтоб они – и он захихикал, – чтоб они вкусили его чудесной музыки: Аполлон ведь пообещал, что ему дадут раскрыться до конца.
Ему, Марсию?
Ему.
Раскрыться?
Раскрыться.
Полное недоумение: как же это произойдет?
Прибегнем к вскрытию, ответил бог. Он отыщет местопребывание Марсиевой души, и еще, прибавил Аполлон (эти слова совершенно не дошли до сознания силена), он постарается найти, где сидит Марсиево дикое зазнайство.
Его душа изливается в звуках этого инструмента, засмеялся Марсий.
Непонятно: что можно извлечь из пустоты?
Из лесу донесся шум, и меж стволов, в хороводе света, отбрасываемом облаками, бегущими над склоном Иды, возникли девять прелестных муз Аполлона.
Они приблизились к месту состязания.
Как все это происходило, поведают летописцы: кропотливо, детально и многословно. В подробностях их описания расходятся, но сходятся они в главном: бог достиг победы, прибегнув к средствам, которые вряд ли могут быть признаны честными. Когда, прослушав Марсия, музы, в полном восторге, уже готовы были объявить победу этого парнокопытного, Аполлон безапелляционно заявил, что силен нарушил правила: ведь они уговорились о равных условиях, а Марсий использовал для игры и губы и руки, тогда как он, Аполлон, управлялся одними руками, а ему тоже хочется поработать губами, в противном случае пусть и Марсий работает только руками. И, поскольку силену ничего не оставалось, как признать его правоту, бог настоял еще на дополнительном условии: до сих пор инструментами пользовались лишь с одной стороны, а уговор был о всестороннем раскрытии свойств каждого инструмента, поэтому он теперь перевернет лиру, а силен соответственно проделает то же самое с флейтой.
И вот во втором туре Аполлон исполнил гимн во славу муз – такой торжественный, возвышенный и полный мудрости, что уже не было никакого смысла для окончательного решения прослушивать тот лягушачий концерт, который парнокопытный болван устроил, дудя с другого конца своей трубы. Летописцы потратили немало трудов, дабы яснее описать противоборство двух стихий, и не могли прийти ни к чему иному, как к утверждению, что Аполлон, воспевший целостный замкнутый космос, лучи живительного солнца, его животворный свет, опору дня и разума, создал гимн, славящий бытие и помыслы богов и тем самым славящий и тех, кто призван быть устами богов, тех, для кого смысл существования заключен в воспевании чувств богов, то есть муз. Разумеется, когда после столь великолепного гимна, потрясшего весь космос, толстяк силен с ослиными ушами и копытцами, дующий в немыслимое сооружение из дырявой коры, принялся издавать отвратительные звуки, девять муз от возмущения и ужаса потеряли дар речи. Они, легендарные, не в состоянии были объяснить, что произошло, хотя все случилось на самом деле и на их глазах. Немыслимо. Ибо эта истекающая из флейты сладость, плавящая разум, вдруг, после Аполлонова гимна, перестала быть благодеянием Афины, укротившей быков именно этими звуками. Осуществилось проклятье, о котором знали музы. Они, создающие молву, ведают все, что лежит на поверхности, и то, что сокрыто в глубине.
Удивительно, как двойственно может быть целое – сладким и омерзительным одновременно, и особенно сладостным своей омерзительностью. Ведь сладость, ошеломившая муз, являла собой низкое сладострастие отверженного, сотворенного в нечистоте, выбивающегося за рамки дозволенного, совершенно невообразимого – любой из применимых к нему эпитетов окажется отрицательным, и эти определения потому столь многочисленны, что явление находится за пределами какой-либо системы; не обретая в ней места, оно все же существует, трудноопределимое, становится символом непостижимого и содержит в себе угрозу разрушения жестких схем.
И все же – сладость, смесь страха и содрогания.
Искушение дерзостью – вот что это было, но лишь намеком, в ощущениях, не высказанное прямо. Подобное повергает в молчание тех, кто создан для того, чтобы мысль облекать в слова. Да и какой выбор можно тут было сделать? Не существует выбора, направленного против собственного существования, хотя возможность его влечет нас своей непостижимой святотатственностью. Обожествленный и проклятый, космос и хаос, праздники и житейское болото, лира и флейта, равные условия в одном-единственном раунде, и музы, потерявшие дар речи, безмолвно присудили победу Аполлону. Так было, Марсий, доверчивый, покорился, а бог, помраченный, призвал свою свиту.
Кибела была далеко.
Свет волчьих глаз: из тьмы леса вышли два скифа, нордические люди с далекого севера из свиты Аполлона, – в руках у них ножи и веревки из жил животных, острые клинки из железа, отшлифованные горной водой.
Марсий глядел на них с любопытством, как они подходят неслышной поступью, и все еще ничего не понимал, когда его схватили за руки и за ноги, потащили и привязали головою вниз к двум черноствольным елям.
Веревки, свитые из бычьих жил, врезались в тело.
Вниз головой он не сможет играть, простонал силен. Он пытался шутить – безуспешно. Флейта валялась как раз под его раскачивающейся из стороны в сторону головой; Аполлон указал на нее ногой: в ней прячется твоя душа?
Шутит, подумал Марсий.
Под шкурой?
Шутка.
Блеснули молнии клинков.
Прежде чем скифы-надрезали ему кожу в паху, чтобы содрать ее, до Марсия начало что-то доходить и излилось в его мощном реве.
Он был бессмертен.
Скифы снимали с него кожу, сперва с обеих ног, сверху вниз: бедра, колени, икры, потом дошли до самых копыт, где кожа срастается с хрящом.
Дикий крик «За что?» и капающая кровь.
Разрез от паха до подмышек.
Просьбы о пощаде.
Аполлон: живописцы изображают его наблюдающим за истязаниями, при этом он нежно трогает струны лиры и поет. Никто, однако, не отметил, что победитель наслаждается: наоборот, на всем его облике лежит печать серьезности, которая сковывает его, а не расслабляет. Аполлон напряжен до такой крайней степени, в какой это допустимо для небожителей, и преодолевает свою отчужденность лишь в той мере, в которой этого требует вопрошающий рев Марсия, отданного ему на поругание. Тот, в суть которого проникал Аполлон, познал самого себя, в доступных ему границах, хоть и не ради того затеял Аполлон такое дело…
Мы пытаемся просто рассказать, как все происходило.
Пока Марсий висел, враскорячку привязанный к елям, он еще надеялся, что происходящее – шутка, жестокая шутка, на подобные шутки способны северные люди, с которыми фригийцы время от времени вступали в торговые связи. Даже блеск клинков воспринял он как розыгрыш: может, его хотели только попугать, чтобы, испытав страх, он играл на флейте еще более нежно. Истязание казалось непостижимым и невозможным, ведь он и так на все был готов для повелителя: наигрывать на флейте, скоморошничать, лизать ему пятки – все, что под силу ему подобным. Марсию хотелось объясниться, вывернуться наизнанку, пасть ниц, обнять колени победителя, целовать его ноги, выказывая ему свою преданность, но он лишь бился и дергался в путах, а его просьбы и заверения слились в одно тягучее, стонущее «Почему?».
Звуки Аполлоновой лиры заглушали все.
«Почему?» Время этого вопроса уже упущено, сейчас имел смысл другой вопрос: «Что происходит?» А непрерывное «Почему?», изливавшееся из силена, должно было возникнуть еще тогда, когда он споткнулся о флейту, валявшуюся на берегу. «Почему она лежит здесь, будто с неба упала, и если кто-то от нее избавился, почему он это сделал и что говорил: благословлял или проклинал?» И еще тогда было время спрашивать, когда он, жаждущий помериться силами с самим Аполлоном, получал предупреждение за предупреждением – уж примитивные-то понятия на уровне селезенки и почек доступны даже силенам; тогда еще можно было спрашивать, вмешиваться в происходящее, однако с появлением бога возник и другой вопрос: почему Марсий – силен, или, что, впрочем, то же самое: почему он проиграл.
Как? Что он тут бормочет, этот мех для вина, что за нечленораздельные вопли? Неужели (а разрез к тому моменту достигал копыт и уже начали обдирать кожу), так вот, неужели так и было задумано, чтобы он только теперь все узнал, все понял и раскаялся?
Что?
Действительно, на самом деле?
О святая простота! Как будто спор заключался в этом и на этом кончится! Вызвать на бой самого бога и после этого надеяться сохранить свободу, как будто это так же легко, как поднять кусок коры, а потом выбросить его.
Разве не так?
Тогда как же? Бедный ты и глупый силен, твое раскаяние – тоже проявление самонадеянности: во-первых, потому что ты пытаешься разжалобить небожителя, иначе говоря, ты хочешь заставить его отказаться от своих планов. Да, видно, иначе твою суть не изменить, придется вытряхнуть тебя из твоей шкуры!
Лезвия ножей прорезали толстую кожу у шеи, затем их острия прошли вдоль щек и висков, потом, проследовав вдоль границы редких волос, сошлись под углом на макушке.
После этого они прорезали кожу на ягодицах и спине.
Рев превратился в стон, голос срывался, напоминая собачий лай, полузадушенный, глухой. Лира умолкла, но ее звуки уже проникли в глубь леса. Лесные нимфы, сестры силенов и муз, принялись просить за истязуемого, у которого уже отсекали кожу с позвонков.
– Пощадите! – причитали милосердные женщины. – Разве виновата низкая плоть в том, что не наполняет ее высокий дух, ведь нельзя соизмерить Марсия и Аполлона. Разве могут противостоять друг другу силен и бог? Смело ли этакое первобытное создание вызывать на бой Аполлона? И утвердилось ли божество в своей божественности, заставив благим матом вопить столь легко побежденного им силена? Пощади простодушного беднягу! Его удовольствия были так же мимолетны, как и его сладострастие, а все увенчалось лишь болью. Остальное довершат крысы да осы, мухи и грязь. Неужто небожитель опустился до подобной низости? Рык обнаженной груды мяса – это ли жертва, достойная богов? По нраву ли божеству сладковатый, тошнотворный запах крови? Быть может, душераздирающие крики услаждают его тонкий слух, а отвратительное подергивание скользкой кожи – в его вкусе? Мы не вправе судить, но спросить осмелимся: ты же бог, вознесенный надо всеми, бог-врачеватель, кому, как не тебе, помилосердствовать?
Мольбы, высказанные шепотом, неназойливы, но мох впитывает их.
Исцеление, милые сестры, – это знание, но дело не в том, чтобы Марсий осознал истину, и то, что подлежит исцелению, конечно, не шкура его.
Вздохи в лесу.
Музы прислушиваются.
Тем временем дело сильно продвинулось, кожа была содрана уже с головы, спины и зада, а также от паха до самых копыт, но она еще не спадала, так как срослась с копытами. Оставалось содрать кожу с лица.
В этот момент взгляды встретились: взгляд силена и бога.
Глаза души, говорят, смотрят проницательнее, когда телесное утрачивается, и, поскольку для побежденного это произошло почти окончательно, возможно, для него что-то прояснилось. Марсий теперь уже видел лучше: он больше не равнял себя и противника, не мерил на один аршин, он смотрел и видел то, что есть, – живодера и истязуемого, подобные наименования не отражают полностью сути ни того, ни другого, это лишь возможные варианты. Кем является Аполлон, Марсию было понимать не обязательно, достаточно, что это понимали музы; что такое силен, они уже видят сами, и, поскольку телесное почти угасло, глаза его души теперь сумеют разглядеть собственную сущность.
Скифы, ухватив Марсия за волосы, наконец стянули с него кожу вместе с глазными яблоками, стиснутыми губами, щеками и подбородком.
Язык обнажился до основания в его ревущей глотке, легкие надрывались, как кузнечные мехи.
Соски на груди.
Жир и хрящи.
Хвост.
И вот кожа отделена от мяса, но плоть все еще скреплена с копытами.
Стоны извергает теперь трясущийся толстый живот, и ножи вонзаются в него. Они входят все глубже и глубже, пронзают дымящиеся внутренности, прыгающее сердце, селезенку, печень, желудок, кишки, видна черная желчь, почки блестят желто-медово, открываются белесые сухожилия, наконец – кости.
Где же запрятана душа этого силена, его озлобляющая незлобивость – в желудке или в сердце?
Ножи пронзают потроха. Тут уж и музы завздыхали – ведь они все же сестры нимф.
Подумал ли Аполлон, что этот презренный, болтающийся меж елей, не сможет умереть?
Музам не полагается чего бы то ни было желать, они лишь возвещают о том, что уже свершилось: по воле Зевса, во исполнение его всевидения. А это означает неучастие.
Подобное сострадание по меньшей мере неуместно.
Аполлон же это милостиво стерпел.
Сестры! Происходящее тут, в лесу, открыло вам истину: главное преступление – стремление познать божественную сущность. А насилие, совершаемое по приказу бога, окончательно и бесповоротно. То, что сделано, сделано. Пример тому – судьба Семелы, она тоже пожелала увидеть Зевса во всей полноте его божественной сущности и была испепелена им. Есть лишь две силы, способные приблизить бога, но обе должны быть чрезмерными в своем проявлении: страстная потребность любить и простодушие.
Легкий кивок головы – и клинки прекратили работу.
Музы отважились на воспоминания: Семела разрешилась Дионисом, богом вина, способным помутить разум, а что произведет на свет силен?
Душу свою, сестры, которую мы ищем!
Новый кивок – и тупой скрежет ножей, добирающихся до самого мозга костей.
Бьющий ключом кровавый источник, желтый сочащийся гной, экскременты, мозг, слизь.
В каком из этих потоков заключена душа твоя, силен?!
Аполлон кивнул в третий раз.
Наконец-то скифы подрезали хрящи копыт, и кожа спала.
Кибела бушевала в лесу. Во тьме разразился целый ураган. Вдруг зазвучала флейта. Сотни нимф вскрикнули в один голос, и мясо силена обнажилось. А желто-коричневая кожа, раздуваясь и переливаясь, как живая, начала раскачиваться в такт пению флейты, и вместе с ней – острые уши, стоптанные копыта, жирный живот, подпрыгивающий огрызок хвоста, а руки обвивали черные елки. И те, придя в движение, в свою очередь раскачали и гору, и лес на ней.
Сладкозвучие флейты необъяснимо.
Скифы с головой ушли в обработку кожи, но под их мощными ударами ели качались все сильнее, а разрезы на коже мгновенно затягивались, бесследно исчезая. Рубцов не оставалось.
Тогда Аполлон повелел скифам вернуться в темноту лесов.
И тут произошло невероятное, но музы видели это собственными глазами: Аполлон, Чистейший из Чистейших, дотронулся до кожи, коснулся ее пальцами, лишь их кончиками, и кожа, на миг приоткрывшись, сразу опять затянулась.
Властелин дельфийского оракула не говорит, не молчит – он предвещает. Чему быть, тому не миновать. Кибела затихла, лес замер, хоровод муз исчез в сумерках, а Аполлон, славный Аполлон, вспомнив о своем обличии, быть может более всего соответствующем его сути, волком пустился на север, а меж елей обвисла кровоточащая кожа…
Потом надвинулся вечер, он пришел с миром к тем, кто беззлобен и тучен, и обитает в бедных пещерах, и любит вино и сладость жизни – такой не вершит власть ни над народами, ни над чьей-то жизнью. И вот нимфы вышли из-за деревьев, и зажглись костры посреди стекающих с Иды ручьев, и флейта заплакала навзрыд, а кожа задергалась в танце, и явилась Кибела с обнаженной грудью.
Вскоре Фригия была покорена тощими и жилистыми людьми, и среди них римляне и сирийцы, и снова появились воины с клинками, длинными, острыми, отшлифованными горной водой, и снова они резали и кромсали: женщин и мужчин, детей и стариков – снова и снова снимали кожу Марсия. Солдаты ставили заплаты из его кожи на ранцы и сапоги, кошельки и щиты, но, едва те уходили, кожа Марсия возрождалась, а когда потом солдатские трупы, разлагаясь, окончательно догнивали по всему пути следования завоевателей, после них оставались лишь эти крепкие куски кожи убитых фригийцев. Источенная червями, исклеванная птицами, она мало-помалу рассеялась по белу свету.
А Марсиева кожа, не поддавшаяся надругательству? Что стало с ней? Рассказывают, что мятежники похитили ее и вывесили как знамя на форуме их города, а затем совершили жертвоприношения в честь покровителя, сопровождая действо игрой на флейте и увеселениями вокруг костров, в котором принимали участие простодушные жизнелюбцы и милосердные женщины. Название того города давно забыто, однако известно, что он был покорен и разрушен до основания, а жители его истреблены, но кожу сохранили, спрятав в пещере в Келенах, и что оттуда ее снова похитили бунтари, на этот раз бунтари с узкими, худыми лицами, а потом след ее теряется…
Остались лишь свидетельства летописцев, изложенные на их летописный манер, а также картины художников, и скульптуры, и куски кожи на дорогах мира, они все еще кочуют с места на место – возможно, один из них пристал и к твоему башмаку.
И непостижимое сладострастие флейты…
И воспоминания…
И проклятие.
Перевод И.Кивель








