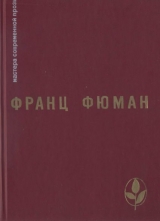
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Франц Фюман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 55 страниц)
«Поговорю с ее мужем, так, пожалуй, будет вернее», – подумал я и от этой мысли снова воспрянул духом. Я пошел в гостиницу и съел вполне заслуженный ужин – какое-то холодное блюдо. Потом купил бутылку рома и отправился домой.
Фрау Траугот чинила во дворе курятник. Она оторвала три прогнившие доски и прибивала на их место новые. Я поздоровался, она опустила молоток, что-то пробормотала и взглянула на меня, вернее, мимо меня. Я собрался было пройти к себе, но ее вид вдруг вызвал у меня жалость: чуть согнувшись, она неподвижно стояла с молотком и гвоздями в руках, устремив взгляд на дюны. Мне захотелось сказать ей что-нибудь приветливое, я предложил ей свою помощь, но фрау Траугот ответила, что не смеет утруждать меня, и по тому, как она это произнесла, я окончательно убедился, что она из Богемии.
– Я с удовольствием помогу вам, фрау Траугот, – сказал я и, взяв у нее молоток и гвозди, начал приколачивать доски.
Хозяйка в растерянности немного постояла возле меня, потом внезапно спохватилась.
– Тогда я приготовлю вам чаю, – сказала она и медленно пошла на кухню.
«Она из тех, что даром ничего не возьмут», – подумал я, продолжая стучать молотком. Когда доски были прибиты, во дворе показалась фрау Траугот с подносом.
– Готово, – сказал я, положил молоток и, опередив хозяйку, распахнул перед ней дверь моей комнаты.
Она сняла с подноса чайник, стакан и блюдечко с сахаром. Я откупорил бутылку.
– На дворе прохладно, фрау Траугот, стаканчик грога вам не повредит, – предложил я, но она молча покачала головой и вытерла руки о фартук. Если она ждет мужа, сказал я, то я не хочу ей мешать. В ответ она снова покачала головой. Я придвинул ей стул и пригласил сесть, но она продолжала стоять.
– Ваш муж в отъезде, фрау Траугот? – спросил я.
Она молча в третий раз покачала головой.
– Умер он, – сказала она, помедлив.
Я прикусил губу.
– На войне, – добавила она и медленно повернулась к выходу.
– Подождите, фрау Траугот! – поспешно сказал я и с мягкой настойчивостью усадил ее, потом достал из чемодана чашку и налил рому в дымящийся чай.
Хозяйка неподвижно сидела на краешке стула, не решаясь притронуться к чашке; чтобы помочь ей преодолеть смущение, я попытался увлечь ее разговором о море и дюнах, но она продолжала сидеть, словно каменное изваяние.
– За ваше здоровье, фрау Траугот! – сказал я и поднял стакан.
Хозяйка неуверенно протянула руку, взяла чашку и отпила глоток, затем, помедлив, выпила до дна и, как бы оттолкнув от себя, поставила чашку на стол. Я налил ей еще и спросил, живет ли она здесь одна, и фрау Траугот сказала: «Да». Я спросил, есть ли у нее дети, и она сказала: «Мальчик». Я спросил, сколько ему лет, и она сказала: «Пятнадцать». Я спросил, где он, и она назвала районный центр. Я спросил, что он там делает, и она сказала, что ходит в школу. Больше я не знал, о чем говорить. Спрашивать о ее прошлом не хотелось, и я молча помешивал грог. Фрау Траугот продолжала неподвижно сидеть на краешке стула, и я мысленно обругал себя за то, что своим дурацким любопытством, этим роковым двигателем нашей профессии, смутил робкую женщину.
Я тут же принялся расхваливать красоту здешних мест и деревушки, сказал, как хорошо я себя здесь чувствую, а фрау Траугот повторяла свое: «Да, сударь» – и смотрела в окно на дюны; но вот она вдруг подалась вперед и тихо, чуть быстрее обычного проговорила:
– Если б только не вода, сударь, не вода, она еще всех нас унесет!
Внезапно я понял: ее сломил страх перед непривычным морем, вот откуда потухший взгляд и монотонная речь.
– Они хотят его приколотить, приколотить море гвоздями, вот мучение-то! – зашептала она опять, блуждая взглядом по колыхавшейся на дюнах траве.
Приколотить гвоздями море? Я ничего не понимал. Уж не помутился ли у нее рассудок? Она сидела передо мной на краешке стула, маленькая, поникшая, с простодушным, добрым лицом, искаженным страхом, со взглядом, устремленным в окно, за которым шумел ветер и колыхалась трава. Я внутренне содрогнулся. Но она, словно защищаясь, чуть приподняла руки и прошептала:
– Вода придет, сударь… Она отступит, разбежится и хлынет… Стенку-то уж прорвало и… – Женщина съежилась и умолкла, будто испугавшись, что накличет беду.
– Кто собирается приколотить море, фрау Траугот? – спросил я как можно спокойнее, но ответа не последовало. Она оцепенело уставилась в окно; я предложил ей выпить еще грогу, но она не взяла чашку. Мне хотелось успокоить ее, утешить, и я сказал, что в здешних местах спокон веку не было наводнений и не будет, что море никогда не затопит дюны. Однако я чувствовал, что слова мои напрасны: убеждать ее было все равно что пытаться расслышать шепот среди бури. Разговорами здесь не поможешь, надо что-то делать, надо избавить эту женщину от страха перед морем. Я как бы невзначай спросил, не переселенка ли она. Фрау Траугот медленно подняла голову.
– Вы ведь тоже, сударь, – тихо произнесла она и, когда я поинтересовался, откуда ей это известно, добавила: – Слышно ведь.
Я сказал, где я родился, а она, с неподвижным выражением лица, назвала свое родное село. Оно находилось в долине, по соседству с горной деревушкой, где я вырос.
Чем она занималась, спросил я, и она ответила, что работала в поместье. Далее я узнал, что ее муж тоже работал в поместье, потом его взяли в солдаты и в сорок третьем году он погиб в Африке, а осенью сорок пятого года она со своим пятилетним сыном приехала сюда, в Ц.
Все это она рассказала мне не по порядку, а отвечая на мои вопросы. Я спросил, есть ли тут еще переселенцы, и она кивнула и снова молча уставилась в окно. Видя, что больше мне ничего от нее не добиться, я извинился, что отнял у нее время; фрау Траугот, покачав головой, взяла поднос с посудой и вышла из комнаты.
На улице бушевала непогода. Ветер пригибал траву к земле. Всходила лимонно-желтая луна. Фрау Траугот, сгорбившись, прошла через двор, и я вдруг представил ее такой же сгорбленной на помещичьем поле. «Надо ей помочь, – подумал я, – увезти ее отсюда, от моря, пока она совсем не потеряла рассудка!» История ее жизни представлялась мне совершенно ясной: батрачка в поместье, целый день гоняют туда-сюда, пока не вымотается; недолгое замужество было, пожалуй, единственной светлой порой в ее жизни, потом мужа взяли на войну, и он погиб, а ей пришлось покинуть родную деревню; и вот одна с ребенком она очутилась здесь, у моря, у незнакомого ревущего моря, которого никогда прежде не видела, и это бушующее море породило в ее душе смертельный страх и сломило волю; да, надо помочь ей, пока еще не поздно и она не помешалась окончательно. Ее землякам было, наверное, легче освоиться на новом месте, ведь они не были одиноки, как эта женщина; и тут я снова увидел ее опустошенные глаза и снова вдруг увидел барона. Вот он сидит в кресле с бокалом вина в руке, положив ногу на ногу, а на его поле, согнувшись, работает эта женщина; я вспомнил, как мы чокались с бароном, потом увидел себя солдатом армии, которая двинулась, чтобы покончить с сосуществованием народов, и я стиснул руками голову. Отныне судьба этой женщины интересовала меня не меньше, чем моя собственная.
На следующее утро я отправился к бургомистру. В конторе его не оказалось. Он ушел на строительство мола, сказала мне секретарша, – это, если идти по берегу, километрах в двух за обрывом. Я поблагодарил ее и отправился в путь. Ветер переменился, он дул сейчас в сторону моря, тесня от берега сопротивляющиеся волны. Клочья облаков сновали в небе, на зеленой отмели искрилась шипучая пена. Я попытался вообразить, что случилось бы, если бы ветер снова переменился и опять загрохотал прибой; я попытался взглянуть на это потухшими глазами фрау Траугот и увидел ревущее море и отверстые пасти драконов, из которых струилась ядовитая слюна. «Почему до сих пор ей никто не помог? – подумал я с возмущением. – Неужели они не видят, что эта женщина до смерти напугана, что она чахнет от страха!» Бургомистра деревни я представил себе этаким бюрократом, который равнодушно взирает на людей и не понимает ни горестей их, ни радостей.
За обрывом берег, постепенно снизившись охряно-бурыми террасами до уровня дюн, изгибался гигантской зубчатой дугой к горизонту. Внизу, на отмели, шла какая-то стройка, и я подошел ближе и увидел, что море и в самом деле «приколачивают гвоздями»: на огромных, грубо отесанных камнях, которые – плита к плите – словно шпорой вонзались в бок морю, возвышался копер, а возле него стояли несколько человек в кожаных куртках. Ритмично взлетая под толчками пара, стальная «баба» вколачивала толстую сваю в грунт. Копер пыхтел и грохотал, клубы пара развеивались на ветру, в сероватой дымке тускло поблескивали черные кожаные куртки; молот обрушивал удар за ударом на шляпку толстого коричневого «гвоздя», вбивая его сантиметр за сантиметром в морское дно. Зрелище было великолепное; полюбовавшись еще немного, я оглянулся в поисках бургомистра, но, кроме рабочих, никого не увидел.
Когда же я спросил, оказалось, что один из стоявших у копра людей в кожанке, худощавый мужчина лет пятидесяти, и есть бургомистр: обветренное морщинистое лицо, открытый взгляд, крепкое рукопожатие. Да, он действительно бургомистр, последовал ответ на мой удивленный вопрос, сюда, на стройку, он приходит помогать всякий раз, как выкроит время: дело срочное, рабочих рук не хватает, а отсиживаться в кабинете не в его характере. На речь бюрократа это не было похоже, бургомистр мне понравился, и я без обиняков сказал ему, что живу у фрау Траугот и хотел бы поговорить с ним о ее судьбе. Бургомистр вздохнул, поглядел на море и сказал, что это тяжелый случай.
– Ей надо уехать отсюда, – сказал я.
Бургомистр опять вздохнул и, расстегивая пояс куртки, сказал, что в том-то все и дело, что она не хочет.
– Чего не хочет? – спросил я недоуменно.
– Уезжать отсюда.
– Не хочет отсюда уезжать? – переспросил я, а бургомистр, ослабив пояс куртки, извлек из кармана брюк сигарету и сказал, что он уже трижды предлагал фрау Траугот перебраться в одну из деревушек в глубине района, но она каждый раз решительно отказывалась.
– Этого не может быть, – сказал я, вспомнив ее глаза.
Бургомистр пожал плечами.
– Тяжелый случай, – сказал он, закуривая. – Здесь ей не по душе, а куда-нибудь переехать она тоже не хочет.
– Значит, она надеется вернуться в родные места? – спросил я.
Бургомистр покачал головой.
– Я сам переселенец и знаю своих людей.
Фрау Траугот, добавил он, наверняка не хочет возвращаться, это он твердо знает, ведь он с ней давно знаком. Можно и ошибиться, заметил я, но бургомистр сказал, что никакой ошибки нет, фрау Траугот сама ему об этом говорила.
У меня не было оснований сомневаться в его словах: задумавшись, я глядел на колыхавшуюся траву, на бургомистра и пытался найти причину загадочного поведения этой женщины, но так и не нашел.
От мощных ударов молота громко лязгала металлическая рама копра. Я извинился перед бургомистром за то, что отвлек его от работы, но он сказал, что ему все равно пора возвращаться, и мы пошли вместе. Ветер немного утих, море было теперь светло-зеленым, с узкой фиолетовой каймой на горизонте.
Бургомистр вздохнул полной грудью.
– Хорошая погода готовится для вас, – сказал он.
Я посмотрел на море, под упругой гладью его перекатывались волны, будто мышцы под шкурой хищника. И я опять вспомнил глаза фрау Траугот.
– И все же ей надо как-то помочь, – с отчаянием в голосе упрямо сказал я.
– Мы сделали все, что в человеческих силах, – сказал бургомистр, а я спросил, неужели она настолько привязана к своему дому и клочку земли, что не хочет покидать их. Бургомистр ответил, что вряд ли причина только в этом: дом, который предлагали ей взамен, ничем не хуже ее рыбацкого домика, а земля здесь повсюду одинакова – черная, жирная, и кругом равнина.
– Может, ее кто-нибудь удерживает? – спросил я.
Бургомистр сказал, что она живет уединенно.
– Сектантка? – спросил я.
Он покачал головой.
– Но ведь какая-то причина должна быть! – воскликнул я, отчаявшись.
Бургомистр пожал плечами.
– Мы сначала допытывались, а потом бросили, – сказал он. – Она уже десять лет как живет здесь. Сколько ей ни предлагали переехать, отказывалась, – что ж, раз ей так хочется, пусть.
По небу мчались облака. Некоторое время мы шли молча.
– Вы тоже переселенец? – заговорил бургомистр.
Я кивнул и глухо ответил:
– Да.
Бургомистр посмотрел на меня, и мне показалось, будто он заглянул мне в душу.
– Здесь много переселенцев, – сказал он. – Целая колония.
Вдали чуть заметной черточкой показался пароход. Солнце пробилось сквозь облака, осветив пегое морское дно. Я спросил, как живется здесь переселенцам, и бургомистр сказал, что все они, кроме фрау Траугот, вполне обжились – у каждого крыша над головой и привычная работа. Он назвал пекаря с семьей из восьми душ, учителя Нейгебауэра, крестьян Фридмана и Зейферта, почтальона Нахтигаля и заведующую кооперативной лавкой. Разговор пошел о заботах и радостях, связанных с жизнью у моря, и, хотя имя фрау Траугот не упоминалось, мысли каждого из нас возвращались к ней. Беседуя, мы дошли до обрыва, из трещины в круче текла красноватая струйка охры, и под гладью моря, словно под шкурой зверя, перекатывались мышцы-волны.
Бургомистр остановился и показал рукой на горизонт.
– В ясную погоду там виден датский берег, – сказал он.
Я посмотрел по направлению его вытянутой руки, но увидел не датский берег; перед мысленным взором возникло грозное, бушующее море, и я видел его глазами фрау Траугот.
– Боже мой, – тихо промолвил я, – представляю, как она испугалась, когда первый раз взглянула отсюда, с обрыва.
– Кто? Фрау Траугот? – спросил бургомистр.
– А кто же еще? – воскликнул я и попытался обрисовать ему жизненный путь этой женщины, изобразить, как она впервые пришла сюда, на обрыв, к морю, которого еще никогда не видела, как ревело море и било волнами в глинистую кручу, а из стены сочилась кровянистая струйка. Я постарался как можно красочнее описать ту минуту, когда в душе фрау Траугот зародился болезненный страх, но бургомистр перебил меня и сказал, что я ошибаюсь. – Только так можно это объяснить, – сказал я убежденно.
– Вы ошибаетесь, – повторил он. – Страх перед морем мучил ее еще до приезда.
– Что? – воскликнул я, оторопев, и спросил, откуда ему это известно.
Бургомистр рассказал, что познакомился с фрау Траугот на сборном пункте для переселенцев под Эгером, то есть еще на богемской земле. Уже тогда он обратил внимание на ее необычайную растерянность и погасшие глаза и решил позаботиться о ней. В вагоне, узнав, что их везут к Балтийскому морю, она прижала к себе ребенка, как прижимает к стволу свои ветви дерево под ветром, долго сидела на скамье неподвижная, словно окаменелая, покачивала головой и с ужасом бормотала, что «придет вода и все унесет, все…».
Я схватил бургомистра за руку.
– А что вы еще узнали?
– На третий или четвертый день, когда она уже прониклась ко мне доверием, она спросила меня на какой-то остановке, нельзя ли ей поехать куда-нибудь в другое место, к морю она не хочет. Разумеется, я постарался успокоить ее, сказал, что к морю можно привыкнуть, но она лишь молча покачала головой и отошла.
Над нами, чуть не задев крыльями обрыва, промелькнули морские ласточки.
– Ну а дальше? – спросил я нетерпеливо, все еще держа бургомистра за локоть.
– А дальше ничего. Не могли же мы ради нее изменить маршрут эшелона. Фрау Траугот прибыла сюда, получила дом и земельный надел подальше от берега. Потом, увидев, что она все равно чувствует себя несчастной, я попытался переселить ее отсюда, но она воспротивилась, это я уже говорил вам.
– Странно, очень странно, – сказал я, задумываясь.
Мне пришла в голову неожиданная мысль.
– Если все так, значит, прежде она уже бывала на море!
– Каким же образом? – спросил бургомистр.
Я пожал плечами, я сам этого не знал.
– Могла ли батрачка из Богемии в прежние годы поехать к морю? – спросил он снова, и я согласился с ним. – Ведь в ту пору для крестьянина съездить по железной дороге даже до ближайшей станции и то было событием, о котором потом вспоминали всю жизнь! Какое уж там море!
Бургомистр говорил спокойно, рассудительно, и чем дольше я его слушал, тем сильнее пробуждалось во мне любопытство. Я признался, что я писатель, интересуюсь людскими судьбами, и попросил его рассказать о своей жизни; он ответил, что охотно сделает это как-нибудь вечерком. Я поблагодарил его и попросил ответить пока на один вопрос: ехал ли он тогда на новую родину один или с семьей; и бургомистр сказал, что один – он один вернулся из концлагеря, жена его умерла там, а двух сыновей своих ему так и не удалось разыскать – говорили, что их взяли в фольксштурм и они погибли.
Сквозь шум моря доносились далекие гудки парохода. У меня сдавило горло; я не мог говорить. Не раз я отчитывался перед самим собой за прожитые годы, писал об этом и думал, что уже подвел окончательный итог. Поездкой к морю мне хотелось как бы поставить точку, но вот я увидел, что это не от меня зависело. Прошлое еще не прошло: пока еще хоть один человек спрашивал о смысле этого переселения, прошлое нельзя было считать минувшим, и я не имел права уклоняться от своего долга. Я вспомнил о том, как я опасался, что разговор с фрау Траугот помешает мне спокойно отдохнуть, и мне стало стыдно.
Бургомистр почувствовал мое смущение.
– Вы были тогда еще очень молоды, – сказал он и спросил, какого я года рождения.
Я ответил: тысяча девятьсот двадцать второго.
– Значит, пришлось идти в солдаты, – заметил бургомистр.
– Я сам этого хотел, – признался я и рассказал ему о встрече с бароном и о тосте за Богемию у моря.
– Но вы тоже нашли ту большую дорогу, по которой жизнь движется вперед, – сказал бургомистр.
– Отыскал в плену, – ответил я.
– Да, вам было труднее отыскать ее, – сказал он. – Вы распивали с милостивым господином бароном вино, а я косил рожь на его полях, копал картошку и свеклу. Так-то жизнь познаешь быстрее, уж поверьте мне!
Я молча кивнул и подумал, что бургомистр, если бы захотел, мог после освобождения остаться в своей родной деревне – ему наверняка это предлагали – и все же он счел более важным отправиться вместе с переселенцами через границу, поддерживать их словом и делом, чтобы они чувствовали себя не брошенными на произвол слепой судьбы, а осмысленно строили бы свое будущее, и я понял, что человек, которого я за глаза скоропалительно окрестил бюрократом, был одним из тех героев, без которых Германия превратилась бы в ничто, Я незаметно разглядывал его: среднего роста, худощав, подтянут, лоб и щеки обветренные, в морщинах, – доброе лицо человека, выдержавшего много боев. «Несомненно, – подумал я, – он носит на лацкане пиджака, под кожаной курткой, маленький овальный значок с изображением красного знамени и двух рук в братском рукопожатии!» [11]11
Значок СЕПГ.
[Закрыть]Заметив мой взгляд, бургомистр смутился.
– Мне хочется поблагодарить вас, – сказал я.
Мы подошли к ратуше.
– За что? – спросил бургомистр.
Я промолчал, да он, наверное, и не ждал ответа.
Послышались шаги. В дверь выглянула секретарша и сказала, что звонили из районного центра.
– Позвольте еще один вопрос, – обратился я к бургомистру. – Сколько лет фрау Траугот?
– В октябре будет сорок, – ответила вместо него секретарша.
– Сорок? – переспросил я с изумлением, вспомнив лицо почти пятидесятилетней женщины.
Бургомистр молча кивнул мне и направился в свой кабинет. Я растерянно посмотрел на секретаршу:
– Что же так ее состарило?
– Не знаю, – сказала она.
«Но я должен это узнать!» – подумал я.
Отпуск мой кончился, и я в подавленном настроении возвратился в Берлин. Такое настроение бывает, наверное, у врача, когда он не может помочь больному, потому что не знает, чем тот болен. До последнего дня я надеялся разгадать тайну этой женщины, но так и не добился результата. Все попытки оказались безуспешными; даже из бесед с другими переселенцами – пекарем, учителем, двумя крестьянами, заведующей кооперативной лавкой и почтальоном Нахтигалем – я не узнал ничего нового. А сама фрау Траугот с того вечера, когда она говорила о море, которое нахлынет и всех унесет, еще больше замкнулась; утром принесет завтрак, вечером пожелает спокойной ночи, а остальное время занимается своими делами. В день отъезда я задал всего один вопрос: принадлежало ли поместье, в котором она работала, барону фон Л.? Глухим голосом она ответила утвердительно, и при этом впервые в ее безжизненном взгляде мелькнуло выражение, которое меня обнадежило, – священная ненависть. Какая-то искорка на мгновение вспыхнула в ее серых глазах, когда она сказала: «Да, сударь!» Сверкнули глаза, чуть дрогнули брови, и это уже было признаком жизни. И я понял, что лишь один человек может дать ответ на мучивший меня вопрос – сам барон фон Л.
Уже больше месяца я жил в Берлине, впрягшись в новую работу, но лицо фрау Траугот по-прежнему стояло у меня перед глазами. Я попытался изобразить ее жизненный путь в виде рассказа и даже придумал некоторые предположительные объяснения: может быть, ребенком она едва не утонула в каком-нибудь горном ручье или озере и ее спасли в последнюю минуту, или ее муж был моряком и погиб в плавании, а может, она просто душевнобольная, может, это у нее наследственное, какая-нибудь особая меланхолия? Предположений было много, но я чувствовал, что ни один из вариантов, придуманных за письменным столом, не объяснял до конца всей истории; ключ к разгадке, если таковой вообще имелся, был в руках барона и для меня, следовательно, недоступен. Я строил всяческие планы, например как я, неузнанный, подойду к барону и заговорю с ним, даже призову его к ответу; но все это были несбыточные фантазии, и я отвергал один план за другим, пока случайно не услышал, что на слете «землячества судетских немцев», который вскоре состоится в Западном Берлине, с речью выступит барон фон Л. Я решил съездить туда. Разумеется, я не рассчитывал на личную встречу с бароном, мне просто хотелось воскресить забытое. Ведь большинство наших воспоминаний лежит глубоко в недрах памяти, их не вызовешь одним усилием воли; чтобы оживить их, необходим толчок извне – жест, слово, образ, – и вот такой именно толчок я и надеялся получить на этом «слете».
В назначенный день, взяв билет «туда и обратно», я сел в электричку, сошел на станции Рейхсштрассе и зашагал в медленно двигающейся толпе. Людской поток неторопливо плыл по каменному ложу; сбоку, из переулков, в него вливались притоки и ручейки, все больше и больше запруживая улицу. Вокруг слышался говор, обрывки фраз долетали до ушей и растворялись в монотонном гуле сотен голосов. Говорили о погоде, о том, что скоро суббота, обменивались рецептами печений и варений, советовались, где и что можно подешевле купить; две полные дамы, шедшие рядом со мной, обсуждали предстоящую конфирмацию какой-то фрейлейн Гейдрун, которая, как я понял, приходилась племянницей одной и соседкой другой даме: соседка спросила, будет ли фрейлейн рада получить в подарок чайный сервиз, или, может, он у нее уже есть, тетка воскликнула: боже упаси, к чему такие расходы, а соседка возразила, что для столь милой девушки, как фрейлейн Гейдрун, нет слишком дорогого подарка. Два пожилых господина, что-то горячо доказывавших друг другу, оттеснив дам, оказались рядом со мной. Они говорили с легким швабским акцентом и, судя по всему, выражали недовольство политикой своего бургомистра в связи с какими-то служебными перемещениями, это просто неслыханно, сказал один из господ, что обер-секретарем канцелярии назначили не его, а господина Ноттингера. Второй господин тоже считал этот факт возмутительным; на это повышение, говорил он, имеет полное право его собеседник, а не господин Ноттингер, и вот почему: во-первых, у Ноттингера гораздо меньше стаж, во-вторых, значительно меньший опыт, чем у освободившего должность предшественника, а в-третьих, суть дела в том, что Ноттингер с бургомистром состоят в одной партии, но вот увидите, к чему приведет подобная политика – к полной утрате доверия, да, да, эта система долго не продержится. Таков был разговор слева от меня. Соседи справа – жизнерадостная супружеская чета – ругали скверную берлинскую кухню; муж заявил, что сегодня же вечером они уедут обратно, во Франкфурт, а жена сказала, что это невозможно, ведь на завтра они приглашены к Гольдманам; муж со вздохом согласился – ничего не поделаешь, придется остаться, Гольдманы – слишком важные люди, чтобы можно было просто так от них отмахнуться. Впереди меня, взявшись за руки, шла молодая парочка. Людской поток не спеша плыл к площади, сопровождаемый негромким гулом, журчанием и всплесками голосов: болтали о погоде, о каникулах, об отметках школьников, о помолвках, свадьбах, разводах, рождениях и смертях; слышались разговоры о торговых сделках и сроках поставок, о манипуляциях с векселями, о доверенностях и лимитах; рекомендовали делать завивку у такого-то парикмахера и не обращаться к такому-то адвокату; говорили о болезнях сердца, желчного пузыря, почек, желудка, легких и селезенки, – это был обычный говор будней, болтали обо всем на свете, лишь о своей прежней родине не упоминали ни единым словом. Она никого не интересовала – ведь каждый из шагавших в этой толпе где-то уже поселился, был занят привычным делом, у каждого были свои заботы, приятные и неприятные. Большинство окружающих было в возрасте сорока – пятидесяти лет, женщин больше, чем мужчин, и пожилых больше, чем молодежи; преобладало среднее сословие – пенсионеры, домашние хозяйки, чиновники, торговцы, ремесленники, мелкие предприниматели – довольные, неторопливые, с заурядными, незлыми лицами.
Внезапно с площади, в которую вливалась толпа, грянула музыка: забили литавры, завизжали дудки – на четыре удара литавр трижды взвизгивали дудки, – и в один миг простодушные физиономии счетоводов, лавочников и их жен преобразились, и толпа хлынула на площадь; оркестр играл «Эгерландский марш». Вокруг все закружилось; как рифы из моря, торчали руины, строительные леса, между ними брандмауэром вырастала длинная черная стена людей. Словно чайки, кричали дудки, рокотала барабанная дробь, я плыл в толпе под «Эгерландский марш», и вдруг мне показалось, будто здесь не Западный Берлин и не десять лет спустя после войны, а что с гор спускаются солдаты в серых мундирах и в касках, с орлом на груди, а в когтях орла – черный знак. Они спускались с гор, и мы с ликованием встречали их; я видел, как срывали вывески чешских магазинов, как разлетались вдребезги окна, покрывая землю стеклянным крошевом. Я слышал крики, резкие, пронзительные, внезапно они обрывались, а дудки продолжали визжать; оркестру подпевали: одни вполголоса, другие мычали под нос; взлетели десятки флагов и вымпелов – с грифами, коршунами, крестами, с холмами и пышными деревьями, с ангелами, виноградными гроздьями и звездами на бархатном фоне. Эти флаги взвивались к небу, к голубому, чистейшей голубизны небу. Возле меня вперед протиснулся мальчик лет тринадцати, совсем еще ребенок, в коротких черных штанах и белой рубашке с черно-бело-красным галстуком, на котором виднелся угловатый рунический знак. У мальчика было милое смышленое лицо и ясные глаза, он нес барабан, белый ландскнехтовский барабан с черными языками пламени, и палочками выбивал такт «Эгерландского марша»: тата-татата… Я смотрел на него, и на миг мне показалось, будто это я сам шагаю в коротких черных штанах и белой рубашке, с ландскнехтовским барабаном на боку; я глядел на него, и мне хотелось схватить мальчика за руку и вытащить его из толпы, но поток швырнул нас вперед, вынес к трибуне, и там я увидел детей.
У подножия трибуны забавными парочками стояли трехлетние, четырехлетние, пятилетние мальчики и девочки, растерянно держась за руки; детей нарядили в национальные одежды, и эти одежды были мертвы. То были костюмы немецких народностей, которых более не существовало; малышей втиснули в мертвые наряды, как в клетки, и они, празднично разодетые, выставленные напоказ перед роем кинокамер и микрофонов, ослепленные прожекторами, беспомощно озирались в непонятном им мире. Это национальный костюм вашей родины, сказали им, маленьким вестфальцам, баварцам, гессенцам, фризам, вюртембержцам и берлинцам; это национальный костюм вашей родины, сказали им, и его надо носить с гордостью; на головах старинные чепчики, в руках украшенные лентами грабли, и вот они стоят, беспомощные детишки, куклы в страшном спектакле. Они растерянно оглядывались, и одежды их были мертвы, и я вдруг понял, что здесь, на этой площади, все было мертвым: мертвые наряды, мертвые грифы, мертвые флаги, мертвые имперские земли, и мертвые коршуны, и мертвые руны, и мертвые вымпелы, и мертвые кресты – парад призраков из мертвого прошлого, которое все еще живо. Барабаны, дудки, литавры; мальчик лет пятнадцати, в черных штанах и белой рубашке с галстуком и руническим знаком, вышел вперед и заговорил взвинченным, кликушеским голосом, от его речи пахнуло мертвечиной, и в моей памяти всплыло прошлое. Свист дудок, грохот литавр, исступленные выкрики, по улице идет молодой парень, высокий, широкоплечий, в черных бриджах и белой рубашке, смеясь, он тащит за бороду старого раввина. Снова свист, грохот; вот приволокли чешского жандарма и швырнули на рыночную мостовую: «Эта свинья арестовывала немцев, господин офицер!» У офицера на черной фуражке – череп; мирному сосуществованию народов пришел конец, гремит «Эгерландский марш», танки мчатся к Пражскому Граду, вспыхивает и рушится Лидице. Свист дудок и грохот литавр становятся все тише и наконец замирают; отзвучал «Эгерландский марш», выдохлось ликование, мы забились в подвалы, и в каждом подвале затаился страшный вопрос: каково же будет возмездие? Что оно неминуемо, нам всем было ясно. Мы пытались истребить других, теперь другие истребят нас, око за око, зуб за зуб! Они запрут нас снаружи, и мы подохнем здесь, в подвалах; а может быть, смилуются: выведут и расстреляют. Или же произойдет самое невероятное: нам подарят жизнь и выселят куда-нибудь на Сахалин или в тундру или пошлют на свинцовые рудники. И вот настал день капитуляции, они постучали к нам в дверь и сказали: «Собирайте ваши вещи, уходите в свою страну и учитесь быть добрыми соседями». А один еще добавил: «Желаем вам счастья».
Мы собрали свои пожитки и двинулись через границу в одну часть Германии и в другую часть Германии, которая тогда еще была единой и все-таки уже разделенной; и в одной части Германии переселенцам дали землю, жилье, и они занялись честным трудом, а в другой части Германии детей стали наряжать в мертвые одежды и пичкать смертоносной мечтой.








