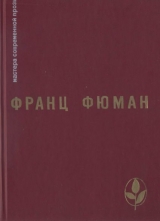
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Франц Фюман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 55 страниц)
Краснокожий пришел закат.
Геройской была смерть.
Миклош Радноти
ГИНГ ГЭЙ
ДАЛЛИМОНИ ДИЛЛИМОНИ НАССЕ
ГИНГ ГЭЙ
ГИ ГИНГ ГЭЙ ГА
ГИНГ ГЭЙ
ДАЛЛИМОНИ ДИЛЛИМОНИ НАССЕ
ГИНГ ГЭЙ
ГИ ГИНГ ГЭЙ ГА
БЭЛЛА БЭЛЛ БЭЛЛАМА
БЭЛЛА МАЧЕ БЭЛЛА МО
БЭЛЛА БЭЛЛ БЭЛЛАМА
БЭЛЛА МАЧЕ БЭЛЛА МО
ЧАЛЛАВЭЙ ЧАЛЛАВЭЙ
ЧАЛЛАВЭЙ ЧАЛЛАВЭЙ
ВУМБА ВУМБА
ВУМБА ВУМБА
– что еще нужно, чтобы выразить этот завораживающий зов, ибо, если чьи-то ноздри еще не почуяли запаха прерий, а сердце не услышало воплей скво-индианок, которых привязали к пыточному столбу, тому нечего и читать дальше. Но нами-то эти строки завладели, едва мы их услышали, когда господин капеллан стал разучивать с нами эту песню для большого миссионерского праздника; мы сразу начали отбивать ногами ее ритм, и, хотя ни один из нас, деревенских мальчишек, едва научившихся читать, не знал латыни, мы все тотчас сообразили, что звучное слово БЭЛЛА как-то связано с войной, ибо при первой же спевке именно на этом месте, без всякого указания капеллана, мы сменили равномерный темп рыси по кругу, отбиваемый левой ногой, на стремительный, летящий над саванной галоп, при этом, выпятив грудь, как по команде согнули ноги в коленях, вытянули шеи и, сверкая глазами, грянули: БЭЛЛА! Из наших глоток вырвалось такое громоподобное БЭЛЛА! что и каменные стены, и заборы, и решетчатые ограды рухнули, а капеллан в полном восторге воскликнул:
– Здорово, дети, славно, пойте изо всех сил! – И, подобрав рясу, одним прыжком оказался во главе нашего отряда, рвавшегося к далекой битве; не понадобился нам ни его кулак, трижды взметнувшийся в такт маршу над нашими головами, ни плавное покачивание в ритме песни его вытянутой вперед руки с растопыренными пальцами, чтобы во все горло рявкнуть на полном выдохе МАЧЕ, а потом, быстро набрав в легкие воздуха, следующее за ним БЕЛЛА МО, наоборот, глуше, но зато с такой покоряющей силой, что весь школьный двор замер от страха. Эта песня была у нас в крови, как будто мы слышали ее с колыбели.
Ничего удивительного, что и ритм, и звучание получились сами собой; иначе и быть не могло. ГИНГ ГЭЙ – это вспоротая и взрезанная тишина, зияющая мраком, как ночь или гранитная скала, и индейцы врываются в этот мрак. На головах у них перья, как у коршуна, лица исполосованы черной и красной краской, а в руках сверкают томагавки. Глаза вылезли из орбит, из открытых ртов валит пар. Они не бегут, а как бы плывут над землей, словно рок, который нарочно внушает надежду и медлит как раз тогда, когда решает стать неотвратимым, – вот они и делают жуткую паузу между ГИНГ и ГЭЙ, а потом и после ГЭЙ, а их ножи и топорики выжидают в кажущейся нерешительности, пока зеленая трава вокруг не становится серой. Она вообще чуть не рассыпалась в прах – ведь сама земля замерла от ужаса, – но вот трава уже вновь свежа и зелена и пружинит под ногами новых хозяев, ибо индейцы уже тут и держатся так, словно всегда тут были и словно мир никогда не существовал без них и их песни: ГИНГ ГЭЙ ДАЛЛИМОНИ ДИЛЛИМОНИ. Глядите: вот они несутся по широкой, граничащей с горизонтом дуге; ДАЛЛИМОНИ ДИЛЛИМОНИ НАССЕ: легко и свободно летят они по саванне, небрежными движениями рук и ног преодолевая пространство, а их торсы покачиваются, словно кроны деревьев, от жаркого дыхания бога войны, пока внезапно, как по команде, не переходят на грозный топот атаки: БЭЛЛА! И тогда земля дрожит и трескается, а воины гордо выпрямляются под пулями, летящими в них из всех блокгаузов и фортов бледнолицых, но все грознее отбивают шаг их ноги: БЭЛЛА БЭЛЛ БЭЛЛАМА, и трава вокруг окрашивается кровью, а овраги в степной земле, взрывающейся фонтанчиками пыли, молча до краев заполняются трупами павших, а потом, переполнившись, встают над степью горами: БЭЛЛА! БЭЛЛ БЭЛЛАМА! БЭЛЛА МАЧЕ! БЭЛЛА МО – о братья в синеве молчания, о горы у дороги, о цветы, пламенеющие от крови, – и вот, пока атакующий отряд откатывается перед новым ударом, начинает закипать месть: ЧАЛЛАВЭЙ ЧАЛЛАВЭЙ – горе вам, горе; так шипит огонь, прежде чем пламя вырвется наружу, так горит в груди жажда мести, так пригибается перед прыжком смерть, и так неслышно крадутся ее посланцы: сжавшись в комок, слившись с притаившимися до поры томагавками и ножами, острия которых едва слышно шипят: ЧАЛЛАВЭЙ ЧАЛЛАВЭЙ…
– Шалавэй, – поправил нас капеллан, – надо произносить «шалавэй», мальчики, а не «чаллавэй».
Он поучал нас с такой терпеливой доброжелательностью, какой мы не предполагали в нем, самом ненавидимом из наших учителей – главным образом из-за того, что он нещадно колотил нас палкой по щиколоткам и по пальцам рук, а, когда мы опять спели ЧАЛЛАВЭЙ, он вновь поправил нас так же мягко и – что показалось нам совсем уж непонятным – не изменил тона даже тогда, когда назвал меня, главного ослушника, по имени. Да я ни за что не осмелился бы настаивать на своем, ведь господин капеллан сам прочел нам вслух текст песни:
ГИНГ ГЭЙ
ДАЛЛИМОНИ ДИЛЛИМОНИ НАССЕ
ГИНГ ГЭЙ
ГИ ГИНГ ГЭЙ ГА
ГИНГ ГЭЙ
ДАЛЛИМОНИ ДИЛЛИМОНИ НАССЕ
ГИНГ ГЭЙ
ГИ ГИНГ ГЭЙ ГА
БЭЛЛА БЭЛЛ БЭЛЛАМА
БЭЛЛА МАЧЕ БЭЛЛА МО
БЭЛЛА БЭЛЛ БЭЛЛАМА
БЭЛЛА МАЧЕ БЭЛЛА МО
ШАЛАВЭЙ ШАЛАВЭЙ
ШАЛАВЭЙ ШАЛАВЭЙ
ВУМБА ВУМБА
ВУМБА ВУМБА
Но как только я вновь почувствовал себя индейцем, у меня опять так естественно получилось ЧАЛЛАВЭЙ, что я не заметил своей ошибки, и когда капеллан одернул меня и я все внимание сосредоточил на этом слове, то после затихающего МО затянул ШАЛАВЭЙ на полтакта раньше, чем следовало, а в следующий раз, помня о паузе, нечаянно опять пропел ЧАЛЛАВЭЙ. Капеллан дал знак прекратить пение.
– Почему ты все время сбиваешься, Пепперль? – спросил он.
Этот вопрос вместо давно уже полагавшихся мне ударов палкой настолько поразил меня своей неожиданностью, что я не колеблясь выпалил:
– Потому что ЧАЛЛАВЭЙ – правильно! – И класс засмеялся.
К нашему изумлению, оказалось, что капеллан не лишен чувства юмора.
– Ха, – сказал он, – глядите-ка, наш Пеппи знает язык индейцев! Вот это да! Что наш Пеппи – большая умница, это общеизвестно, но что он может еще и говорить по-индейски, этого я не предполагал!
Класс покатился со смеху, точнее говоря, только мальчики нашего класса, потому что девочки разучивали в спортивном зале китайский «танец цветущей вишни» – иногда оттуда доносились их писклявые голоса, щебетавшие что-то вроде МИН МАН МАО ПИН ПАН ПАО ЧИН ЧАН ЧАО, то есть такую абракадабру, что мы перестали обращать на них внимание. Итак, класс смеялся, и я принял этот смех за знак одобрения. Конечно, я не знал языка индейцев, но ЧАЛЛАВЭЙ звучало для меня так естественно, что я не осознавал ни неслыханной дерзости своих возражений, ни коварства напускного добродушия капеллана. Впервые в жизни я был преисполнен ощущения своей правоты, как, например, прав клен, сознающий, что листья у него – пальчатые, а плоды – крылатые, и я по наивности полагал, что если мне что-нибудь кажется само собой разумеющимся, то так будет казаться любому другому, стоит ему только об этом сказать. Итак, класс смеялся, и я принял этот смех за знак одобрения; однако капеллан ласково покачал головой.
– И все же правильно будет ШАЛАВЭЙ, Пепперль, – сказал он, вытащил из кармана рясы потрепанную книжицу, по которой читал нам текст песни, и открыл ее. Он с трудом перелистнул несколько обтрепанных и загнутых на углах страничек, наконец удовлетворенно кивнул и поднял перед нами раскрытую книжку, словно просфорку после причастия, а потом медленно описал ею в воздухе полукруг, хотя на таком расстоянии никто из нас не мог разобрать буквы, опустил книжку и, держа ее перед глазами, откашлялся и прочитал текст еще раз вслух.
– Здесь написано, мальчики, – сказал он и обвел нас всех взглядом поверх книжки, – здесь написано точь-в-точь как я сказал: ШАЛАВЭЙ ШАЛАВЭЙ ШАЛАВЭЙ ШАЛАВЭЙ, а потом ВУМБА ВУМБА ВУМБА ВУМБА, слово в слово. Прочти сам, Пепперль!
Моя наивность была до беспомощности чиста. Я вышел вперед, и капеллан ткнул мне под нос книжку, ногтем большого пальца подчеркнув нужную строку. Палец его был круглый, заплывший жирком и покрытый редкими жесткими волосками, а ноготь – беловато-желтый и розовый, и выше ногтя я увидел слово ШАЛАВЭЙ, напечатанное жирным шрифтом четыре раза подряд, и здесь оно показалось мне вполне уместным.
Я кивнул.
– Прочти громко вслух, Пепперль, – сказал капеллан.
– ШАЛАВЭЙ ШАЛАВЭЙ ШАЛАВЭЙ ШАЛАВЭЙ, – прочел я без запинки, а потом, подняв глаза на учителя, который был чуть выше меня ростом, простодушно добавил:
– Но ведь ЧАЛЛАВЭЙ куда красивее, господин капеллан!
Над школьным двором сиял обрамленный горами купол неба, а воздух дрожал от пения дроздов. Не помню уже, как повел себя класс, когда я заявил, что ЧАЛЛАВЭЙ в тысячу раз красивее, чем ШАЛАВЭЙ; вернее, я, пожалуй, и тогда не обратил на это внимания; уверенность в превосходстве открывшейся мне истины окрыляла меня, как вера окрыляет святого, читающего проповеди змеям или дождю; но все же сдается мне, что класс тогда не дышал. Зато я совершенно отчетливо помню, что капеллан сказал мне чуть ли не просительным тоном:
– Но ведь тут так напечатано, Пеппи, и его преподобие господин архиепископ самолично одобрил этот текст. – Говоря это, он захлопнул книжицу и с минуту стоял, словно задумавшись и глядя как бы сквозь серо-зеленую обложку с изображением земного шара и распятия; потом сбоку слегка хлопнул меня книжкой по носу и очень тихо и как бы рассеянно сказал: – Шалавэй! – Шалавэй! – повторил он уже громче и ударил меня книжкой по носу с другого бока.
Я не почувствовал боли, только нос внутри как будто разбух, и услышал его голос, с нарочитой монотонностью повторявший:
– Надо говорить ШАЛАВЭЙ!
Как я уже сказал, боли я не чувствовал, не чувствовал я также ни злости, ни упрямства, даже страха не было, меня охватило лишь какое-то расплывчатое удивление перед чем-то, с моей точки зрения, абсолютно невозможным. Вот если бы горы на горизонте рухнули, это еще куда ни шло, ведь они были старые и недра их подкапывали гномы. Даже если бы птицы вдруг заговорили человеческими голосами, как это уже случалось при Зигфриде, а раз так, то почему бы и при нас не случиться. Но что ШАЛАВЭЙ – правильно, такого просто не могло быть; однако третий удар корешком книги пришелся по кончику носа, и, в то время как пронзительная боль вытеснила из моей головы осколки удивления, четвертый удар, попавший в угол между щекой и ноздрей, вновь загнал готовое было прорваться возмущение куда-то в темные закоулки под черепом, а пятый, нанесенный в тот же угол, но с другой стороны, довершил дело, затянув горы прозрачной дымкой и заглушив пение дроздов тремя слогами, сотрясавшими меня одновременно с ударами:
– Ша!! – ла!! – вэй!!
Текла ли кровь из носу? Я этого не замечал.
– Альстерн, так как правильно? – спросил капеллан.
– Шалавэй, – ответил я, с трудом шевеля губами под раздувшимся носом, исполненный лишь одной слабой надежды, что, отвечая как требуется, сумею побыстрее отделаться от продолжения допроса.
Капеллан кивнул и вдумчиво ударил меня корешком книги прямо по переносице, между глаз. По этому месту он еще никогда не бил; меня пронзила ужасная боль, и я невольно прикрылся рукой, но капеллан лишь слегка щелкнул пальцами, два моих однокашника схватили меня за руки и вывернули их за спину.
– Ха, – удовлетворенно выдохнул капеллан, приподнявшись на носки и разглядывая мое лицо; потом важно кивнул головой и сунул книжонку в карман. – Ха, – повторил он, и азарт разгладил морщины на его лбу, – почему же ты не пел как положено, раз ты все знал? – Не ожидая ответа, он схватил мочку моего уха и вывернул ее вверх фалангой согнутого указательного пальца, одновременно ввинчивая железную костяшку этого пальца все глубже и глубже внутрь уха. Я вскрикнул и тут же смолк, потому что собственный крик отозвался во мне нестерпимой болью: втиснутые друг в друга слуховые косточки надавили изнутри на барабанную перепонку. Череп мой начал с шумом и треском раскалываться, я сник и униженно заскулил, что ничего не знаю; я превратился в жалкий комок из боли и слабости, и мой скулеж выражал готовность сказать все, что потребуют, но капеллан все равно давил, крутил и тянул мое ухо с такой силой, что испускаемые мной звуки причиняли мне больше страданий, чем его удары, так что даже мой плач стал его союзником.
– Отвечай! – заорал капеллан и рванул меня за ухо вверх, а мои друзья одновременно потянули за руки вниз; в этот миг, видимо, прозвенел звонок, потому что из спортзала во двор выбежали девочки, – это меня и спасло.
Волосы они заплели в косички и, держась друг другу в затылок, как-то странно подпрыгивали на ходу; впереди всех подскакивала учительница рукоделия – та вообще всегда носила косички; в волосах надо лбом у всех торчали цветки – у кого одуванчик, у кого калужница, – и все как-то странно передвигались мелкими прыгающими шажками, переваливаясь с одной ноги на другую и в такт своим прыжкам попеременно то поднимали до плеч, то опускали к бедрам кулачки с торчащими вверх указательными пальцами – когда правый поднимался, то левый опускался, и наоборот; при этом они пели: МИН МАН МАО ПИН ПАН ПАО ЧИН ЧАН ЧИН ЧАН ЧИН ЧАН ЧАО, и выходило все это до того смешно, что весь класс расхохотался и даже господин капеллан усмехнулся. При этом ухо мое выскользнуло из его руки; внезапное освобождение опять полоснуло болью, однако разрубило и вонзившийся в мой череп винт и даже позволило мне улыбнуться при взгляде на этих гусынь, вообразивших себя китаянками, но оставшихся все теми же глупыми гусынями из деревни Нойтечль. Но когда из расположенной неподалеку церковной рощицы прибежали еще и первоклашки с вымазанными сажей рожицами, потрясая побегами ясеня, словно это пики племени Ватусси, и визжа КУНГО КУНГО КУНГО ХУУ КУНГО КУНГО КУНГО ХУУ, а потом, все так же визжа и кривляясь, сбились вместе с примолкшими от любопытства девочками в плотный, глазеющий на меня кружок, я опять уверовал еще глубже, чем раньше, что я индеец и стою у пыточного столба и с честью выдержу перед всем миром предстоящее мне великое испытание.
Вера эта была скорее благим помыслом, но имела, однако, и прочное основание. Ведь звонок уже прозвенел; значит, самое позднее через пять минут начнется следующий урок, и господин капеллан, прежде чем меня отпустить, под конец наверняка отвесит мне несколько оплеух; я сразу представил себе, как он по своему обыкновению вырастет передо мной, широко расставив ноги, развернется всем торсом и, широко размахнувшись вытянутой рукой, ударит меня слева и справа по щекам; тут-то я и брошу ему в лицо ЧАЛЛАВЭЙ, при каждой затрещине – ЧАЛЛАВЭЙ, и только ЧАЛЛАВЭЙ, этот великолепный боевой клич моего племени, способный заглушить вой койотов и заставить взыграть сердце воина:
ЧАЛЛАВЭЙ ЧАЛЛАВЭЙ ЧАЛЛАВЭЙ ЧАЛЛАВЭЙ; и вот уже индейские женщины и дети подступают все ближе и ближе, и я, связанный по рукам и ногам, гордо вздергиваю подбородок и дышу чистым, свободным воздухом презрения, и Черный Вождь машет рукой индианкам и детям, чтобы те подошли поближе, а сам принимается с воем и топотом исполнять перед ними свой боевой танец, а я, несмотря на все еще бесчувственное ухо, блаженно улыбаюсь и слушаю, что он выкрикивает: такого упрямца, как я, он еще никогда не встречал, я хочу быть умнее, чем все учителя и даже чем его преподобие господин архиепископ, перед такой наглостью отшатнется даже дьявол в аду, даже воплощение греховной гордыни – сатана, возомнивший себя выше самого господа бога, однако теперь пришло время всем показать, кто прав, кто виноват, теперь он выбьет из меня дурь. И он действительно встал передо мной, и мое лицо обдало горячим паром его дыхания, а я только мрачно сжал зубы, и через плечо врага увидел безмятежное сияние неба над головой, и, ослепленный его блеском, прикрыл глаза, и услышал шумное дыхание скво, и был готов ко всему; но это «все» произошло ужасающе медленно. Противник прижал ногами мои ступни к земле, обеими руками вцепился в волосы у висков и с такой силой рванул их косо вверх, что мое бедное тело, пронзенное внезапной болью, всем своим нутром постигло, как снимается скальп; корень каждого волоска вдруг раскалился добела; череп сдавило огненным кольцом, и он горел и горел, но не сгорал; так пылать мог только адский пламень, а я, охваченный им, и плакал, и каялся, и соглашался, что я – жалкий сопляк, несчастный выскочка, глупый, наглый и настырный паршивец, который даже не знает, что правильно говорить ШАЛАВЭЙ ШАЛАВЭЙ ШАЛАВЭЙ ШАЛАВЭЙ, и я, глотая слезы, выдавливал ШАЛАВЭЙ, а огонь пожирал мой мозг, и в треске его слышалось ШАЛАВЭЙ, тысячу раз ШАЛАВЭЙ, и стало темно, и огонь продолжал жечь, и, когда кулаки капеллана с жалким клочком волос взвились вверх, на месте пожара остался лишь сгусток тлеющей боли, а сквозь трели звонка, очистившего школьный двор, победно прошествовала черная ряса господина капеллана.
В полдень, когда я шел домой, одна из скво нагнала меня.
– Что-то уж больно круто он с тобой расправился, капеллан-то, – жалостливо трещала она, – а что ты натворил?
Я пожал плечами как можно небрежнее. Виски все еще горели огнем. Но индианка не отставала. В конце концов я ей сказал, что вместо ШАЛАВЭЙ пел ЧАЛЛАВЭЙ. Индианка хмыкнула.
– Ну и мерзавец же он, ну и мерзавец, – сказала она возмущенно, – из-за такой ерунды…
– Это не ерунда, – бросил я резко.
Она рассмеялась глупо и визгливо:
– Дак ведь не все ли равно, что чаллервэй, что…
И тысячи моих ран не открылись и не кровоточат? И небо не раскололось на мелкие части? Сердце мое вопило от гнева, и мысленно я уже захлестывал дурацкую эту косичку на этой глупой шее, но потом одумался – зачем ее душить, ведь мы, индейцы, не обижаем безоружных женщин, тем более белокурых, так что я подавил свой праведный гнев.
– Не все равно, – процедил я спокойно сквозь зубы, – да что ты понимаешь! Это песня индейцев, ясно? А раз так, то и петь ее надо по всем правилам! Это тебе не идиотское мяуканье под китаянок! Эту песню нельзя петь абы как!
Она взирала на меня почтительно, мустанги ржали, буйволы били землю копытами, и над прерией стлался дурманящий дым. Меня вдруг охватила острая жалость к ней – ведь она была всего лишь китаянка, а ее братишка – какой-то негр, и я простил ей ее невежество, снисходительно пожав плечами. Взгляд ее был доверчив, как листья липы; в волосах надо лбом торчал одуванчик, и сок, вытекший из его стебля, нарисовал на коже черные круги; при виде их я даже растрогался.
– Это настоящая индейская песня, – разъяснил я ей мягко и терпеливо, словно старший, – тут уж каждое слово нужно произносить точно, как положено, тютелька в тютельку, иначе песня получится не настоящая!
Она внимала мне молча, млея от восхищения; мы подошли к ее дому, но она продолжала идти рядом, и я не возражал.
– Господин капеллан совершенно прав, – сказал я, – строгость в этом деле необходима!
– А больно было? – робко прошептала она.
В ответ я едва заметно кивнул – так соглашаются с чем-то само собой разумеющимся. Она смотрела на меня, вздыхая, и глаза ее под одуванчиком были широко распахнуты, а виски мои по-прежнему горели, но от этого я почему-то был горд и счастлив. Я поднял голову и обвел взглядом молчаливую прерию и небо над ней, раскинувшее свой сверкающий шатер над нами, индейцами, но и над всеми другими народами мира тоже.
Перевод Е. Михлевич
ГРОЗОВОЙ ЦВЕТОКИ воскликнул он… говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам…
Апокалипсис от Иоанна, 7, 3
Он был маленький и голубой, все четыре его лепестка были голубые, как властное небо, голубизна которого из-за четырех крошечных белых пятнышек в самой глубине чашечки еще мощнее выступала из толщи земли. И хотя сам цветок был неприметно мал и скромно ютился на самом краю дикой части нашего сада, его голубая головка ярко светилась среди буйной зелени как знак, призывавший нас, детей, к осторожности: кто прикасался к этому цветку, вызывал грозу, и молния неминуемо поражала святотатца. Тому было множество доказательств: в пятнадцати минутах ходьбы от родительского дома, на опушке церковной рощицы, между двумя соснами из земли торчал камень в рост человека с зигзагообразным узором из черных крапинок, очень напоминающим спинку гадюки; на этом месте сто или тысячу лет назад какой-то чужак бросил вызов небу, сорвав такой цветок, и из безоблачной голубизны тотчас ударила молния, являя собою зловещую связь голубого с голубым, и вплавила наглеца в камень; поныне зияет рядом небольшая круглая черная и таинственная дыра в земле, сквозь которую молния потащила в ад душу грешника, чьи горящие ужасом глаза все еще светятся над зигзагообразным узором. Да и других доказательств могущества цветка хватало; и, хотя уже одного этого было бы достаточно, можно, пожалуй, привести еще такое: на горе Кукопф, возвышавшейся над моей родной деревней, в незапамятные времена стояла харчевня, а хозяйка ее была писаная красавица; в честь этой красавицы один из постояльцев решил сплести венок из всех цветов, какие только росли на торе. Но стоило ему сорвать колокольчик, как с неба пал на землю огненный дождь и испепелил дотла и дерзкого ослушника, и красавицу хозяйку, и саму харчевню, а жар стоял такой, что гора целый день дымилась и разбрасывала искры, словно гигантский кузнечный горн, причем пламя то вырывалось языками, то втягивалось внутрь горы, а когда жар наконец унялся, на месте харчевни навеки осталось голое пятно, как бы рубец на каменном теле горы, – там не росло ни травинки, ни даже мха, лишь отдельные клочки того цепкого лишайника, который и по льду карабкается. Нет, в могуществе этого цветка сомнений не было, и мы остерегались подходить к нему близко. На каменистом склоне позади нашего дома росло шесть колокольчиков, этакий гибельный хоровод посреди густых зарослей травы, и я каждый день, стоя на пороге дома, издали пересчитывал цветы: один, два, три, четыре, пять, шесть – шесть смертоносных цветков, и мысль хотя бы дотронуться до одного из них так же не укладывалась в голове, как мысль, например, ударить маму или в Страстную пятницу есть мясо. Бывают такие мысли, которые просто не могут прийти в голову.
Но однажды такая мысль мне в голову все же пришла, и виновата в этом была любовь. Мою любовь звали Марихен; она была дочерью канатчика Вистершюля – долговязое, тощее существо с восковым цветом лица и льняными волосами, мелкими редкими зубами и губами в ниточку; а любили мы друг друга так: сначала напивались воды из колодца за домом, так что животы вздувались шаром, а потом заворачивались по шею в одно одеяло – наружу торчали одни головы – и часами лежали молча, плотно прижавшись друг к другу, и, глядя в небо, с мучительным блаженством прислушивались к тому, что творилось у нас в животе: кишки растягивались и тяжелели, между пупком и диафрагмой взбухал тяжкий черный комок, быстро поднимавшийся кверху, давивший под сердце и грозивший вот-вот разорвать нас на куски, и, хотя каждый из нас жаждал превзойти другого нарочито беззаботным видом и вынудить его терпеть вплоть до чего-то непредсказуемого, все же дело обычно кончалось тем, что мы оба одновременно рывком выкатывались из одеяла и сломя голову бежали в разные стороны, чтобы потом встретиться у колодца – пристыженными, но вновь ненасытно жаждущими. Любовь эта была великая и тяжкая, а потому и не избегла участи пройти сквозь великое и тяжкое испытание. В один прекрасный день Марихен выскочила из-под одеяла раньше меня, чего прежде никогда не бывало, и мелкими шажками понеслась к своему месту в кустах снежноягодника, а когда с искаженным лицом приплелась назад, то заявила хриплым от злости голосом, что я ее обманул и выпил намного меньше воды, чем она. Это было чудовищно, но я лишь позже осознал всю несправедливость этого обвинения, ибо, пока я, только что упившийся своим триумфом, а теперь напуганный и в то же время оглушенный возведенной на меня напраслиной, выбирался из-под. одеяла, напряженно соображая, что мне следовало бы возмутиться, опровергнуть клевету и настоять на своей невиновности, мне тоже понадобилось стремглав кинуться к своему месту в зарослях ясеня; однако там уверенность в своей правоте и безусловной победе получила столь убедительное доказательство, что я вернулся к своей побежденной Марихен по стрекочущей теплой траве весь сияющий и радостно-беззаботный, как летнее небо над головой; а та стояла на скомканном одеяле и глядела на меня с таким робким смирением, с такой трогательной горестью в огромных, распахнутых мне навстречу глазах, что показалась мне милее, чем когда-либо раньше. Итак, я шел к ней сияющий – сияющий, радостный, беззаботный, раскованный – и от распиравшей меня гордости уже продумывал, даже в мыслях запинаясь, как именно сообщить ей победную весть; но только я приблизился к одеялу, как Марихен ошарашила меня, бросив мне в лицо самое страшное из всех ругательств, какие только есть на свете, – бессмысленное звукосочетание, похожее на кваканье лягушки и проникающее из уха прямиком в спинной мозг, вызывая лишь желание биться с обидчиком не на жизнь, а на смерть.
– Ты – какер, ты – жалкий какер и враль! – крикнула Марихен, брызгая слюной от злости; голова ее рванулась вперед; все кругом поплыло красными пятнами, перемежаясь соломенно-желтыми полосами, потом желтое, красное и полосатое перепуталось, руки мои сами собой въехали в эту путаницу, в тот же миг Марихен тоже вцепилась в меня, и мы изо всех сил стали драть друг друга за волосы. Широко разинув рты, мы жарко дышали в невидящие глаза и только слышали сдавленные, переходящие в визг стоны безудержной ненависти и сдерживаемой боли; я решил уже было чуть-чуть пригнуться, чтобы потом, резко спрямившись, одним рывком выдрать все волосы из ненавистного черепа, но вдруг почувствовал, что руки Марихен разжались. От неожиданности я тоже расслабился, но тут Марихен напала на меня во второй раз: теперь она с нестерпимой силой дернула меня за прядь волос на затылке; старый подлый прием опять ей вполне удался, и когда я в бессильной злобе из-за неудавшейся попытки выдрать ей разом все волосы попытался боднуть ее головой в грудь, то из моего нутра, откуда-то из самой глубины, вырвался страшный вопль – то кричала, наверное, моя поруганная, разорванная в клочья любовь; она кричала, как раненый зверь, причем ранен был один я, ибо Марихен не издала еще ни звука, и вот тут-то я, низвергнутый с победных вершин в пропасть позора, вдруг увидел колокольчик. Его голубые лепестки закрыли собою все небо, а из глубины чашечки глядела на меня смерть… Я выпустил волосы Марихен, с громким воплем рубанул ребром ладони по ее руке и, едва высвободившись и пробегая мимо Марихен к зоне смерти, тотчас услышал за спиной ее звенящий злорадным торжеством голос:
– Трус, трус и еще раз трус!
Когда я увидел цветок во все небо и отбил ее кулак, у меня, конечно, и мысли не было вызывать грозу; просто я внезапно и совершенно интуитивно нашел способ заставить Марихен закричать от страха – ведь она заходится от испуга даже при виде дальней зарницы; вот пусть и закричит громче, чем кричал я, пусть в смертельном страхе обнимет мои колени и молит о пощаде. Пощадить-то я ее, естественно, пощадил бы, но в эту минуту я так кипел от бешенства, что в один миг оказался у цели и присел на корточки. Но только я протянул руку, чтобы примять траву, так плотно закрывавшую собой цветки, что их совсем не было видно, как вдруг явственно услышал, что Марихен онемела; это было как откровение свыше. Рука моя замерла: все мои чувства как бы сконцентрировались в ушах, и я слышал, и видел, и обонял, и ощущал на вкус молчание, и молчание это было безмерно. Дрожит уже небось от страха, злорадно подумал я, но тут мне пришло в голову, что Марихен вообще не могла осознать моего намерения, ведь я сидел к ней спиной. Не вставая и инстинктивно стараясь не задеть ни травинки в круге смерти, я обернулся и увидел Марихен.
Она стояла, прислонясь к пустому небосводу, и молчала.
Я почувствовал, что меня захлестывает торжество. Дрожит уже небось от страха, повторил я мысленно и насладился немым звучанием этой фразы в голове.
Марихен молчала.
– Эй! – крикнул я.
Марихен молчала.
Я вытянул шею так, что чуть не потерял равновесие.
– Погляди-ка, где я сейчас! – крикнул я поверх травы.
Марихен не откликнулась, но голову подняла, и глаза у нее округлились, а рот открылся, и я почувствовал по тому, как заколебался воздух, что она и впрямь вся дрожит. И я, икая от волнения, провертел пятками углубленьица в земле, чтобы понадежнее укрепить свою позицию и швырнуть ей свою угрозу, но застывшая как истукан Марихен вдруг сказала:
– Не посмеешь!
– Что? – спросил я обескураженно.
– Не посмеешь сорвать цветок, – ответила Марихен.
– Ха! – выдохнул я хрипло, высунув для вящей убедительности язык, и сделал при этом два неуклюжих шажка в сторону, чтобы поточнее разглядеть и сорвать цветок, но когда я, вновь начав выдавливать пятками углубленьица, и впрямь покачнулся, а потом все же, дрожа от нетерпения, раздвинул траву и во все горло крикнул, что посмею, еще как, вот сейчас, сию минуту, сию секунду, не сходя с места вырву цветок, то в тот момент, когда голубое пятнышко уже проглянуло, я вдруг услышал прямо надо мной пронзительное тихое шипенье; застыв с вытянутой рукой, я посмотрел вверх и увидел дно огромного баллона из матово-голубого стекла, в котором корчились и извивались огненные змеи; их шипящие чешуйчатые головы тыкались в прозрачную стену, целясь в меня, черные глазки старались встретиться со мной взглядом, раздвоенные огненные языки вытягивались, пытаясь меня зацепить, и, пока все во мне еще противилось осознанию открывшейся мне картины, я услышал обращенные ко мне сверху и разнесшиеся над всем лугом слова:
– Молния поразит тебя самого, если сорвешь цветок.
Так самая потаенная, скрываемая от самого себя мысль пришла ко мне извне, легко порхая по воздуху, подобно тем бабочкам с узором, похожим на череп, которых я до смерти боялся; на губах моих застыл вопрос, в комок свернувшийся от бессильной злости: неужели Марихен умеет читать мысли? А с ним и весь я застыл в той глупейшей позе, в какой настиг меня этот вопрос: сижу на корточках, всей тяжестью опираясь на левую стопу, голова задрана кверху, глаза выпучены, рот разинут, правая рука вытянута вперед, пальцы ее скрючены, правая нога лишь пяткой стоит на земле, носок ее приподнят.
Луг тонул в ароматах и звуках.








