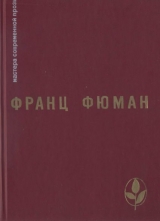
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Франц Фюман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 55 страниц)
Понял ли читатель всю сложность его положения?
Я-то прекрасно все понял: место, которое занял секретарь, предназначалось тому, кто должен был вести собрание, то есть председателю профкома, а уж никак не секретарю, хоть он и представлял партийное руководство. В лучшем случае секретарь парткома должен был сидеть по правую, а если он к тому же нарочно опоздал – по левую руку от председателя. Мне, сидевшему на своем месте, легко было распутать этот клубок иерархических притязаний. Итак, директор направился к предназначавшемуся для него стулу, а председатель профкома, запутавшийся в неразрешимом противоречии между своими обязанностями председателя собрания и партийной дисциплиной, неуверенно, одними кончиками пальцев попытался взяться за спинку среднего стула – жест утопающего, который хватается за соломинку, робкая попытка отстоять свою правоту, но секретарь парткома, который теперь сидел скрестив на груди руки, вдруг таким резким движением подался назад, что председатель профкома едва успел отпрыгнуть в сторону, и ему ничего не оставалось, как после секундного колебания, даже не колебания, а попытки сохранить равновесие, сесть на стул, стоящий справа. Я внимательно наблюдал за этой комедией, суть которой была мне совершенно ясна, и вдруг вспомнил, что у меня в портфеле кроме расчески и полотенца, на случай если придется спускаться в шахту, а потом принимать душ, есть еще и карманное зеркальце. Искушение воспользоваться им было слишком велико. Я пошарил рукой и, когда нащупал его, почувствовал себя мальчишкой, подглядывающим в замочную скважину. Стыдно сказать, но удержаться я не мог. Желание проникнуть в суть происходящего, какое-то упрямое безумие овладело мною. Я вытащил зеркальце и незаметно поместил его так, чтобы видеть всю троицу.
В это время секретарь парткома уже вполне добродушно спросил председателя профкома, не пора ли уже, наконец, начать. Его так долго ждали, что теперь ему ждать уж никак не следует, – и он засмеялся хриплым лающим смехом, грубо, конечно, но уже без злобы. Рассмеялись с облегчением и все сидевшие в зале.
Я поместил зеркальце под нужным углом и увидел в нем председателя профкома в черной с серебром форме; он поднялся со своего места. «Дорогие коллеги…», началось обычное звяканье чашек, двиганье стульев, прихлебыванье кофе, покашливанье, сморканье – разумеется, на фоне произносимых речей.
Повнимательнее вглядевшись в зеркальце, я с изумлением обнаружил, что начальство в президиуме как-то незаметно поменялось местами: председатель профкома теперь сидел слева, а директор справа.
Прошло несколько секунд, пока я опомнился и сообразил, что мир в зеркале отражается зеркально: лево и право меняются местами, только середина остается серединой. Таковы законы оптики. Я стал размышлять над тем, изменяются ли черты, если переместить лицо слева направо и, наоборот, справа налево, вглядывался в секретаря парткома: то смотрел на него в зеркальце, то без зеркальца, и никак не мог уловить разницы между реальностью и отражением; единственное, пожалуй, отличие было в том, что мое маленькое зеркальце избавило его от зеленой рубашки и баков. И вот тут-то до меня наконец дошел смысл сказанных им слов: «Ну вы себе и позволяете! Партию заставляете ждать!»
Значит, он и есть партия? Я принялся разглядывать его еще внимательней, следил за жестами, мимикой: как он, нисколько не стесняясь, поглядывал на часы, как смотрел на присутствующих, то недовольно, то ободряюще, как, услыхав в выступлении совершенно банальную, но гладко сформулированную фразу, кивнул с таким важным видом, как будто к сказанному можно было относиться всерьез только после его одобрения, как во время длинного пассажа, прославлявшего достижения шахты, дернул директора за халат и стал шептаться с ним, явно давая какие-то указания, как скрещивал руки на груди, как смеялся, как подносил к губам рюмку с коньяком, как зажигал сигарету, как барабанил пальцами по столу, как он слушал, как не слушал. Значит, он и есть партия? Рот у него был полуоткрыт, как тогда за дверью, но на лице теперь было написано полное удовлетворение. Я уже не обращал внимания, наблюдает ли кто-нибудь за моими манипуляциями с зеркальцем, но никто, кажется, ничего не замечал. В зале уже не продохнуть было от табачного дыма, наконец раздались и аплодисменты, принесли еще кофе, речь, длившаяся четверть часа, была закончена, в зале зажужжали голоса, и я вдруг потерял из виду секретаря парткома; перегнувшись через стол, он беседовал с каким-то ветераном, и в своем зеркальце я видел теперь только белую стену, пустоту, которую можно было заполнить чем угодно, и мне подумалось, не это ли и есть его истинное отражение, ведь, судя по его словам, он сам ощущает себя не просто человеком, а воплощением партии. Значит, у него не было индивидуальности, все проявления собственного «я» он согласовывал с волей партии, всегда сообразуя свою позицию, свое мнение с этой волей, особенно в тех случаях, когда сегодняшнее мнение должно было быть диаметрально противоположно вчерашнему. Таким образом, в социальном плане он был чем-то вроде вещи, носителем функции, и суть его индивидуальности состояла в том, чтобы никакой индивидуальности не иметь. Эти размышления настроили меня на мрачный лад.
Я снова посмотрел в зеркальце, и на фоне отражавшейся в нем белой стены вдруг стали проступать лица тех, кто для меня являлся воплощением партии: мужские и женские, худые и полные, гладкие и изможденные, суровые и улыбающиеся; но, едва наметившись, черты тотчас расплывались, исчезали, сливались в один бесформенный лик, они были неотличимы один от другого, сплошная белая соль… Я вздрогнул, в зеркальце показались баки и ворот зеленой рубашки – секретарь парткома шахты в Т. Все туманные образы исчезли. Теперь я смотрел на него почти с благодарностью, даже его хамство и невоспитанность казались мне теперь чуть ли не симпатичными, как некое проявление индивидуальности.
Он приподнялся: «Дорогие товарищи…», мое зеркальце последовало за ним, секретарь, олицетворявший собой партию, подвел итоги: то было заключительное слово после не имевшей места дискуссии. (Кстати, потом я узнал, что секретарем парткома он избран совсем недавно.) В окно было видно, как подъехал автобус, который будет ждать ровно одиннадцать минут, чтобы потом доставить товарищей из управления и ветеранов в райцентр. Секретарь парткома завершил эту после некоторой заминки все же удачно прошедшую встречу, явившуюся наглядным примером постоянной заботы предприятия, государства и прежде всего партии о ветеранах, старой шахтерской гвардии, хозяевах соли – он процитировал образное сравнение одного писателя. Это было прекрасное заключительное слово, директор делал какие-то пометки, председатель профкома сиял улыбкой, даже подавальщицы перестали зевать, в раздаточном окошке снова появилась голова – послушать прочувствованную речь, но, несмотря на все это, я теперь не мог отделаться от мысли, что секретарю парткома совершенно все равно было, где выступать: на встрече ли с ветеранами, на конференции ли по культурной работе, на совещании ли молодых производственников. Может быть, все это было для него только спектаклем, в котором его интересовало лишь распределение ролей? Нет, к его речи было трудно придраться, но ведь я видел его в зеркале! Если бы не это опоздание, не сказанные им слова! Да только его ли это были слова? Но внизу уже гудел автобус.
Гудел автобус, секретарь парткома закончил выступление: «С шахтерским приветом, товарищи!», все поднялись, подавальщицы убрали пустые кофейники, голова в раздаточном окошке исчезла. Стрелки на часах показывали девять сорок две, я спрятал свое зеркальце и тоже собрался уходить, но тут мне дорогу преградил секретарь парткома. За ним стояли председатель профкома и директор. «Знаю, вы писатель», – сказал мне тот, кто именовал себя партией, и подал мне руку, не представившись. Потом он похвалил меня за то, что я начал знакомство с шахтой именно с этого мероприятия, партком в курсе, администрация составит план – с чем мне еще надо ознакомиться, но то, что я послушался их совета и начал именно с ветеранов, очень хорошо, тут можно найти целые кладовые материала, и какого волнующего. Тут он помахал тому самому старику с кривой шеей, что сидел напротив меня, и он, хромая, подошел к нам. Теперь все мы отражались в большом зеркале между колоннами: зеленая в клетку рубашка, спортивная куртка, шахтерская форма, белый халат и черный костюм. «Вот он, например, столько бы мог рассказать, – продолжал секретарь, – шестьдесят лет под землей, вся жизнь отдана борьбе, один из тех, кто воплощает лучшие черты рабочего класса; когда шахту награждали почетным переходящим знаменем, партия торжественно вручила это знамя именно ему». Старик кивнул своей кривой шеей, на которой я только сейчас разглядел чудовищный шрам, кивнул и профсоюзный деятель, и директор, и я тоже кивнул, а секретарь парткома кивнул на наш кивок, – пять движений головы, пять разных историй, а старик, бережно держа в руках фотографию шахты, сказал, что всю эту встречу вспоминал о той минуте, когда ему вручали знамя, а в это время в зеркале отражалась оборотная сторона фотографии – белая картонка.
Перевод И. Щербаковой
ТРОЕ ГОЛЫХ МУЖЧИНПоявлялись они в сауне, наверное, не больше четырех-пяти раз, но я их очень хорошо запомнил и могу довольно точно описать. Главное, что обращало на себя внимание, – эти трое входили и передвигались всегда в одном и том же порядке, и я убежден, появись они там снова, в их поведении ничего бы не изменилось, я узнал бы их, будь это даже не те самые, а другие трое голых мужчин.
Двум из этой троицы было лет под сорок, рост у первого немного повыше, у второго – немного ниже среднего, вес тоже в норме, только лица казались уже оплывшими – знак того, что скоро им трудно станет быть в форме. Третий – он всегда держался посередине – был попросту толст и ниже обоих на целую голову, но при этом на удивление легко и ловко двигался. Все тело у него с головы до ног было покрыто густыми черными с проседью волосами, и в парилке вся эта растительность начинала отливать серебром. И на голове волосы были густые, тоже с проседью, слегка волнистые и довольно коротко подстриженные, никакого намека на лысину, хотя ему явно было за пятьдесят. Зато на лице никакой растительности, ни бороды, ни усов, и щеки не отливали неприятной синевой, как это бывает у тех, кто часто бреется. Должно быть, у него просто плохо росла борода – частое свойство волосатых людей. На фоне покрытых черным мохом плеч щеки сверкали прямо-таки молочной белизной, шеи не было вовсе; невысокий лоб, кожа гладкая, без морщин, только на подбородке отчетливая, треугольником складка. Маленький рот, маленькие уши, крепкий затылок, о глазах я еще скажу. Руки, несмотря на толстые пальцы, казались даже изящными, ногти (и на ногах тоже) ухоженные, аккуратно подпиленные, нигде никаких мозолей. От него веяло почти стерильной чистотой, сидя неподалеку в сауне, можно было уловить лишь слабый запах одеколона или очень хорошего мыла. Широкая грудь, внушительный живот, но не отвислый, не жирный, а округло выдающийся вперед, короткие ноги. Зубы еще крепкие, хоть и с золотыми коронками, в очках он явно не нуждался. Массивное обручальное кольцо. Не часто можно встретить столь физически крепкого человека в его возрасте.
И, наконец, глаза. Светло-карие, совершенно круглые, когда он говорил, их взгляд, будь он менее спокойным, можно было бы назвать «бегающим». Когда же он разглядывал какой-нибудь объект – но «разглядывал» – это не совсем точное слово, ибо его глаза не скользили по предмету плавно, а как бы прыгали: сначала движение головы, а уж глаза следовали за нею, – это была словно серия моментальных снимков. Если, к примеру, в поле его зрения попадал человек, он начинал с головы, потом быстро переводил взгляд на ноги. Смотрел он на тебя совершенно без всякого стеснения, с такой внутренней уверенностью, будто имеет право решительно на все, что это даже не казалось нахальством. Если ты пытался ответить ему тем же, он все равно никогда не отводил глаз, спокойно продолжая тебя разглядывать. Я ни разу не видел, чтобы кому-нибудь удалось смутить его.
Я все хотел взглянуть на него в одетом виде, но как-то не получалось. Войти в сауну можно было либо с улицы, либо через водолечебницу. Сначала попадаешь в раздевалку – три узких прохода между рядами шкафчиков, потом через стеклянную дверь – в душевую с бассейном, а оттуда дверь направо ведет собственно в сауну, налево – в комнату отдыха. Время сеансов в сауне соблюдается строго, а так как эти трое появлялись всегда чуть позже, а исчезали чуть раньше нас, я видел их уже только в душевой и, разумеется, раздетыми. Входили они всегда в одном и том же порядке, гуськом: первый (тот, что повыше) открывал дверь и держал ее, пропуская волосатого, а второй (что пониже) перехватывал, не давая захлопнуться, – очень сложная процедура, в которой в общем не было ничего примечательного, кроме того, что она повторялась всякий раз, когда этим трем надо было куда-либо войти или выйти: в сауну, из сауны; в комнату отдыха, из комнаты отдыха; и все это три раза за сеанс, а под конец опять в раздевалку. Ни разу волосатому не пришлось самому дотронуться до двери, однако и впечатления, что ее перед ним угодливо распахивали, не возникало. Ни разу он не вошел в помещение первым: его спутник (тот, что повыше), переступив порог, тотчас делал шаг в сторону, в это время второй, завершавший процессию, сокращал дистанцию. Цель и смысл этих действий заключались в том, чтобы всегда, шли они или стояли, сохранять между собой и волосатым расстояние в полшага. Почему-то все эти довольно сложные манипуляции воспринимались как нечто совершенно естественное. Это был ритуал, который не рождается мгновенно, по чьей-то указке, его невозможно отрепетировать, он возникает сам собой, как форма. Он естествен, ибо отражает природу общества. В это время я как раз занимался теоретическим исследованием и обоснованием роли формы и, надо сказать, с интересом наблюдал за тем, что происходило в сауне, ибо это подтверждало мою концепцию. Занимаясь проблемой различия между живой и омертвевшей формами, я взял для сравнения два сонета: один – принадлежавший перу Грифиуса, другой – Эмануэля Гейбеля; что же касается живой формы, то особенно богатый материал давала мне сауна, и в частности поведение этой троицы.
Если бы они входили в парилку долго и торжественно, это непременно вызвало бы возмущение остальных посетителей, ведь тогда дверь оставалась бы открытой долгое время, а это в сауне никому не прощается, тем более что недостаточно мощная печка нагревала парилку лишь до семидесяти пяти градусов, и мы неоднократно резко осаживали нахалов, пытавшихся широко распахнуть двери при входе, но эти трое не давали никакого повода для раздражения. Едва первый приотворял дверь, как волосатый уже оказывался внутри, а второй быстро прикрывал ее. Даже одному человеку трудно было бы войти быстрее. Вообще они очень строго соблюдали правила. Никогда не задерживались после сеанса – об этом я уже говорил, не шумели, не курили, не пили спиртного. Однажды волосатый – это случилось во время первого посещения – захватил с собой в парилку щетку для массажа, однако, увидев запрещающую надпись, не воспользовался ею, хотя рядом с ним никого не было. Он и в бассейн с холодной водой не нырял, если кто-нибудь находился поблизости, чтобы не обрызгать, – а уж это негласное правило нарушается очень многими; всегда перед бассейном принимал душ, что тоже соблюдается далеко не всеми. В бассейн он прыгал как-то по-детски, присев на корточки, подтянув колени и растопырив руки. Пока он плавал в бассейне, его спутники стояли один у одного, другой у противоположного края в такой бдительно-спокойной позе, что, пока он там находился, мы предпочитали держаться подальше. Однажды, правда, я решил спуститься по ступенькам в воду в тот момент, когда там плавал волосатый, и они мне не препятствовали. Дело в том, что он всегда плескался в бассейне довольно долго, дольше многих, потому что большинство, нырнув в обжигающе холодную воду, тотчас выскакивает. Я был, разумеется, далек от того, чтобы провоцировать эту троицу, просто я вышел из парилки, хотел охладиться и знал, что успею сделать это, не помешав волосатому. Поэтому я и спустился к нему. Обычно я всегда жду, пока бассейн освободится, и окунаюсь в воду, стоя на нижней ступеньке и держась за перила. Волосатый всегда оставался в ледяной воде некоторое время: прыгнув, как я уже говорил, с корточек, он несколько секунд находился под водой, потом, оттолкнувшись от дна, выныривал, выбрасывая руки над головой, снова погружался, и так несколько раз, постепенно приближаясь к струе льющейся в бассейн холодной воды, под которой, подставив плечи и спину, пребывал до тех пор, пока его губы не синели, после чего тем же манером, то погружаясь, то снова выныривая, подплывал к лестнице и поднимался наверх, навстречу пушистой махровой простыне, которую уже протягивал ему его первый спутник. Так вот, когда я спустился в бассейн, он как раз стоял под холодной струей и на лице его не было написано никаких чувств, кроме наслаждения; он плескался, как ребенок, и поскольку и я в этот момент испытывал нечто подобное, то на какой-то миг я забыл, кто он такой, и собрался было обратиться к нему. Даже не с разговором, а просто обменяться понимающими улыбками, восклицаниями, чем иногда и ограничивается общение людей, волею случая оказавшихся вместе. Возникает наивное, трудно формулируемое желание поделиться своей радостью с другим. Именно поэтому я, после того как окунулся в холодную воду, не стал сразу же выбираться из бассейна, а повернулся к волосатому и тут почувствовал за спиной такой взгляд, что тотчас оставил это намерение. То был взгляд, который чувствуешь кожей, пробивающий броню любой беспечности. Я обернулся и увидел, что второй его спутник (тот, что поменьше) стоял теперь фактически у меня за спиной в еще более спокойной позе, чем обычно: переместив центр тяжести на левую ногу, а правой упершись в каменную скамью, где посетители обычно оставляют свои купальные принадлежности. Он застыл, заложив руки за спину и выдвинув нижнюю челюсть, но я почти физически ощущал, что от скамьи отделилась невидимая тень и поместилась между мною и волосатым. Вдруг повеяло таким ледяным холодом, что я весь покрылся мурашками, но, вместо того чтобы быстро подняться по лестнице, зачем-то вновь соскочил в бассейн. В это время волосатый очень ловко поднялся наверх, завернулся в махровую простыню, и они в том же порядке – впереди, открывая дверь, тот, что повыше, позади второй, пониже, – направились в комнату отдыха.
Там волосатый обычно, также подчиняясь правилам, целенаправленно расслаблялся, но это уже явно не доставляло ему удовольствия, ибо он, не просто отдыхал, а изо всех сил старался делать это правильно. Через стеклянную дверь хорошо было видно, как он лежал на спине, вытянув ноги, скрестив руки под головой и закрыв глаза. Он старался лежать совершенно неподвижно, но проходило несколько минут, и он начинал разговаривать сам с собой – шевелить губами, морщить лоб; потом ловил себя на этих запрещенных действиях и некоторое время опять лежал спокойно. В комнату отдыха его обычно сопровождал первый, а второй в это время делал то, чего никогда не делали те оба, – мылся под горячим душем с мылом. При этом он явно испытывал такое же наслаждение, как волосатый в бассейне. Сначала он просто несколько минут стоял под горячей водой и только потом начинал намыливаться – от лысины до пяток, смывал пену, повторял ту же операцию второй раз, с той лишь разницей, что сильно растирался мочалкой, а затем в третий раз обрабатывал мылом те части тела, которые, вероятно, казались ему особенно грязными, всякие там закоулки между ног и архитектурные излишества. Этим можно было бы уже и удовлетвориться, но он, присев, повторял эту операцию и в четвертый раз. Душ он пускал такой горячий, какой, наверное, только мог терпеть, сопел от удовольствия, распаренное тело становилось багровым. Едва он выключал душ и прятал розовое мыло в мыльницу, отворялась дверь; из комнаты отдыха появлялись те двое, после чего все шли в парилку.
В тот раз, как я уже говорил, они находились в комнате отдыха втроем. Первый дремал, волосатый изо всех сил старался расслабиться, а второй прилег на лежак, спустив ноги на пол. Когда они вновь появились в душевой, этот второй что-то едва слышно насвистывал.
Но в парилке, куда я вошел следом за этими тремя, произошло нечто совершенно неожиданное. Обычно волосатый, садившийся на верхнюю скамью, через некоторое время жестом подзывал своих, устраивавшихся ниже, спутников. То есть сначала он произносил несколько только им понятных и слышимых слов, и уже одно то, что он к ним обращался, вызывало у этих двоих невероятно горячий отклик. Они отвечали кивками, широкими улыбками, только у первого улыбка была счастливая, а у второго довольная. Такая благосклонность вызывала у них всякий раз восторженное удивление, вероятно сродни восторгу сынов Крайнего Севера, когда они после долгой полярной ночи впервые видят солнце.
Вначале все шло, как обычно: ритуал прохождения в дверь, занятие мест по рангу, милостивое приглашение наверх к себе, принятое с невероятной поспешностью, но волосатый, вместо того чтобы продолжить обычный тихий, недоступный для уха простых смертных разговор, вдруг громко, словно он был таким же, как мы, обычным посетителем, спросил, сколько же тут в парилке градусов. Когда первый, который продолжал говорить очень тихо, сообщил ему, что семьдесят четыре, он, опять-таки не понижая голоса, осведомился, по Реомюру или по Фаренгейту, а потом, обращаясь, конечно, к своим спутникам, но все же явно имея в виду и нас, громко спросил, знают ли они анекдот про то, как отец с сыном ходили в тир.
Это было неслыханно. Я имею в виду, разумеется, не анекдот, а то, что он вдруг обратился и к нам. Ведь прежде он всегда говорил очень тихо, так, чтобы могли расслышать только его спутники, не говорил даже, а вещал, делал большие паузы, иногда сопровождал свои слова еле заметной, улавливаемой лишь посвященными улыбкой. Те же вели себя так, словно он сообщал им нечто в высшей степени важное и значительное, изрекал истину в последней инстанции, и уже не кивали в ответ, а, скорее, кланялись тому, кто был вершителем судеб. Во всяком случае, со стороны все это выглядело именно так. До нас же никогда ничего не долетало – ничего нельзя было ни угадать, ни прочитать на их лицах, все была тайна. А теперь он сам обращается к нам, да еще хочет рассказать анекдот! Конечно, он не ждал от нас ответа на свой вопрос, а, как всякий уважающий себя оратор, уставился в воображаемую точку в пространстве и, чуть подавшись вперед, стал с многозначительными паузами рассказывать свой анекдот.
«Отец с сыном-школьником зашел в тир. Мальчик выстрелил, но промахнулся, и отец сказал ему: „Целься лучше“, а какой-то человек, который стоял поблизости, услышал это, – тут рассказчик поднял голову и повысил голос, – и заявил: „Что вы, Фаренгейт лучше!“»
После этих слов оба его спутника даже не засмеялись, а застонали от смеха, казалось, они просто не в состоянии были справиться с охватившим их безудержным весельем. Волосатый повторил только что сказанное под всхлипыванье своих спутников и, явно ожидая такой же реакции от нас, произнес: «Он подумал, что отец сказал не „целься“, а „Цельсий“». Второй его спутник совсем изнемог, первый забулькал с новой силой, а рассказчик посмотрел на нас с видом победителя и только после этого уже засмеялся сам в унисон своим спутникам. Первый, хлопая себя от восторга по ляжкам, повторял: «Целься-Цельсий, ха-ха-ха!», а второй, прямо-таки задыхаясь от смеха, выдавил: «Ну и тип!» На лице волосатого в ту минуту было написано такое же удовольствие, как в бассейне, он поднял руку, чтобы хлопнуть себя по коленке, он был уверен, что увидит сейчас вокруг себя умирающих от хохота людей, и только тут вдруг понял, что веселье его спутников потонуло в молчании, потому что, кроме них, не смеется никто. Волосатый даже растерялся и как-то беспомощно объяснил: «Это он просто не понял, что произошло».
Он скользнул взглядом по нашим молчаливым лицам и отвернулся. В печке затрещал камень. Мы ведь были в сауне, с ее горячим сухим воздухом и горячим сухим деревом, где все безжалостно раскалено и выжжено, как в Сахаре, где бросается в глаза любой волосок, любая ниточка, даже капля пота. Кто знает, может быть, расскажи он свой анекдот не в сауне, а в бане, где в облаках влажного пара пробуждается добродушие и расцветает фантазия, где не только лица, руки, но и слова погружены в размягчающую дымку, где из всех пор сочится сердечность, которая всех объединяет, – расскажи он его там, может, люди и посмеялись бы вместе с ним. Но он ведь был не в бане, а здесь, в сауне, здесь все иное, все беспощадно и все безжалостно, жар, сушь, тут каждый за себя и каждый сам по себе.
Волосатый растерялся лишь на мгновение. «Вы, должно быть, знали этот анекдот», – произнес он, уже глядя не на нас, а на своих спутников, и так, словно ничего не произошло, а ведь и в самом деле ничего не произошло, стал разговаривать с ними, как разговаривал всегда: очень тихим голосом, с подчеркнуто длинными паузами и уверенными жестами. Потом все-таки еще раз окинул всех нас взглядом – мы вели себя как обычно, говорили о том, о чем обычно говорили в сауне, о всяких пустяках, ерунде, полуфразами, междометиями, – и в этом взгляде было и равнодушие, и неприятие каждого из нас в отдельности и всех вместе. Затем он поднялся, сказал что-то второму своему спутнику и, хотя время его еще не вышло (обычно он оставался в парилке ровно двенадцать минут, что было довольно мучительно для его длинного спутника, который очень быстро начинал потеть, но, разумеется, выдерживал до конца), покинул сауну. Конечно, первый из его спутников, как всегда, проскользнул вперед, буквально в миллиметре от волосатого, и следом, на столь же близком расстоянии, – второй. Выйдя из парилки, волосатый принял душ, затем проделал, беззвучно считая, ровно двадцать приседаний, обдал еще раз ноги холодной водой из шланга, который, едва он протянул руку, тотчас подал ему первый, и направился в раздевалку – за четверть часа до конца сеанса и, как всегда, ни с кем Не попрощавшись.
Почему-то я думал, что он больше не придет, однако на следующей неделе он снова явился в сауну, и, как обычно, немного опоздал. Он быстрее, чем всегда, принял душ, сразу же пошел в парилку, несмотря на то что там как раз было много народу, уселся на свободное место в среднем ряду, а его спутники устроились внизу среди новичков. Почти целую минуту они сидели так совершенно молча, затем волосатый что-то им тихо сказал, второй его спутник тотчас вскочил и поспешил к термометру. Немного нагнувшись, он долго смотрел на ртутный столбик, а потом вернулся на свое место и доложил о результатах. Волосатый очень медленно повернул голову сначала влево, затем вправо, потом, подняв глаза на термометр, зафиксировал неразличимые с его места цифры и произнес отчетливо, так что сидевшие рядом услышали его: «Это слишком мало». Хотя он произнес эту фразу неодобрительным тоном, в нем прозвучало и удовлетворение по поводу того, что его подозрения подтвердились, но одновременно и удивление, что эти цифры роковым образом остались прежними. Следом за ним и все сидящие в сауне взглянули на термометр: он, как всегда, показывал семьдесят четыре градуса. «Это недостаточно для сауны», – снова очень неодобрительно и так, чтобы все слышали, произнес волосатый, тотчас поднялся и вышел в душевую, уже в дверях он отдал второму спутнику какое-то указание (расслышать мы уже ничего не могли), тот ответил энергичным кивком – из-за этой маленькой заминки дверь оставалась открытой чуть дольше обычного. Потом они удалились; сауну на следующий же день закрыли – для утепления, как нам было сказано, а когда через девять недель вновь открыли, дверь была обита кожей и термометр показывал восемьдесят градусов. Вероятно, теперь все с любопытством ожидали появления волосатого, а мне хотелось посмотреть, как он отреагирует на что-нибудь совершенно неожиданное, ну, например, если я возьму и сяду между ним и его спутниками на верхнюю скамью, но он так и не пришел. Надо сказать, что, именно когда он перестал появляться в сауне, я начал придумывать разные способы, как бы я мог спровоцировать его: ну, например, подойду и просто заговорю или, если он, как это часто бывало, снова начнет меня разглядывать, просто спрошу, что ему надо. Но сделать мне этого так и не удалось.
Кстати, недавно я видел его на улице. Я шел на заседание союза любителей эстетических исследований на обсуждение той самой моей статьи в защиту формы (где я, к своему изумлению, был подвергнут совершенно разгромной критике за порочную концепцию поэзии немецкого барокко), и тут он как раз проехал мимо в черном лимузине. Я сразу его узнал. Тот, что повыше, сидел за рулем, тот, что пониже, – рядом на переднем сиденье, волосатый – сзади. Его круглые, как бусинки, глаза обшаривали улицу, взгляд упал на меня, и, мне кажется, он узнал меня, потому что губы его тронула еле уловимая улыбка. Мне даже показалось, что он кивнул, но в этот момент машина, внезапно оторвавшись от мостовой, медленно и плавно взмыла вверх и, постепенно набирая высоту, устремилась в тотчас распахнувшееся окно на пятом или шестом этаже массивного здания, а затем створки окна вновь закрылись – легко и бесшумно, как крылья бабочки.
Перевод И. Щербаковой








