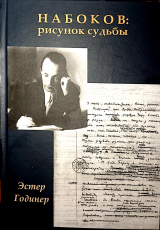
Текст книги "Набоков: рисунок судьбы"
Автор книги: Эстер Годинер
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 45 страниц)
Перечитывая сохранённые им на дне чемодана письма Машеньки, полученные ещё в Крыму, шесть лет назад, он повторяет: «Счастье… Да, вот это – счастье. Через двенадцать часов мы встретимся… Он не сомневался в том, что Машенька и теперь его любит».2351 Расплатившись с хозяйкой и идя по коридору, он поглощён теми же мыслями: «А завтра приезжает Машенька, – воскликнул он про себя, обведя блаженными, слегка испуганными глазами потолок, стены, пол. – Завтра же я увезу её, – подумал он с тем же глубоким мысленным трепетом, с тем же роскошным вздохом всего существа».2362
Тогда, в Крыму, получив её первое письмо, пересланное из Петербурга в Ялту, – «спустя два года с лишком после той счастливейшей осени», – «он полон был дрожащего счастья. Ему непонятно было, как он мог расстаться с Машенькой. Он только помнил их первую осень, – всё остальное казалось таким неважным, бледным – эти мученья, размолвки».2373 Иногда, «минутами», Ганин даже «…решал всё бросить, поехать искать Машеньку по малороссийским хуторкам», но: «Долг удерживал его в Ялте, – готовилась военная борьба».2384 Сюжетно, кроме некоторых деталей, это документально совпадает с биографией Набокова: в январе 1918 года, в Крыму, неожиданно получив письмо от Валентины Шульгиной, он всё лето переписывался с ней. И он тоже «мечтал, что к зиме, когда покончу с энтомологическими прогулками, поступлю в Деникинскую армию и доберусь до Тамариного хуторка; но зима прошла – и я всё ещё собирался, а в марте … началась эвакуация».2395
Валентину Шульгину Набоков вспоминал как «на самом деле … и тоньше, и лучше, и умнее меня».2406 Жизнь без неё «казалась мне физической невозможностью, но когда я говорил ей, что мы женимся, как только я кончу гимназию, она твердила, что я очень ошибаюсь или нарочно говорю глупости».2417 Вот это было свойственно ей: удивительная для её возраста трезвость и мудрость – она прекрасно понимала, что у их отношений нет будущего. Он «не переставал писать стихи к ней, для неё, о ней … и был поражён, когда она мне указала, что большинство этих стихотворений – о разлуках и утратах...».2428 Вместе с тем – и не менее удивительно – Люся (так звали её дома) была наделена покоряющим жизнелюбием и безоглядной душевной щедростью.
Такой она и предстаёт в письмах Машеньки Ганину: «Скажите, Лёва, ведь смешно вам теперь вспоминать ваши слова, что любовь ко мне – ваша жизнь, и если не будет любви – не будет и жизни… Да… Как всё проходит, как меняется. Хотели бы вы вернуть всё, что было? Мне сегодня как-то слишком тоскливо… Я не знаю, как попрощаться с вами. Быть может, я поцеловала вас. Да, должно быть…». Получив на это прощальное письмо, видимо, очень обнадёживающий ответ, – показательно, как она реагирует: «Да, нельзя забыть того, что мы любили друг друга, так много и светло. Вы пишете, что за миг отдали бы грядущую жизнь, – но лучше встретиться и проверить себя».2431 Очень разумное и совершенно в характере Люси Шульгиной предложение. Понятно, что если бы не обстоятельства, то Ганину, боевому кадровому офицеру (в каковые намеренно, в своих интересах и для своих целей произвёл его автор), человеку чести и долга, пристало бы, было бы логично найти способ с Машенькой встретиться. Но сначала обязанности не позволяли ему покинуть Ялту, а затем он «дрался на севере Крыма» и, «контуженный в голову … через неделю, больной и равнодушный … попал поневоле в безумный и сонный поток гражданской эвакуации».2442 Только в Стамбуле, выйдя на берег, «только тогда он ощутил пронзительно и ясно, как далеко от него тёплая громада родины и та Машенька, которую он полюбил навсегда».2453
«Насколько прекраснее, – вспоминает Набоков, – были её [Люси] удивительные письма витиеватых и банальных стишков, которые я когда-то ей посвящал: с какой силой и яркостью воскрешала она северную деревню! Слова её были бедны, слог был обычным для восемнадцатилетней барышни, но интонация … интонация была исключительно чистая и таинственным образом превращала её мысли в особенную музыку. “Боже, где оно – всё это далёкое, светлое, милое!” Вот этот звук дословно помню из одного её письма, – и никогда впоследствии не удалось мне лучше неё выразить тоску по прошлому… Она впилась, эта тоска, в один небольшой уголок земли, и оторвать её можно только с жизнью».2464
Тем хуже для Машеньки – вот она, истинная причина, по которой Ганину было поручено расстаться с ней, – автору казалось, что, разорвав ассоциативную связь его первой любви с утратой родины, можно избавиться от ностальгии или, по крайней мере, унять, заговорить эту непреходящую боль. Средство же избавления – подспудная, почти интуитивная дискредитация, обесценивающая значимость этой любви, благо предметом её была юная «мещаночка», с точки зрения аристократа весьма уязвимая по части эстетического вкуса, – вот, пожалуйста, какие стишки щедро цитируются автором из её писем Ганину (кстати, в том числе и Подтягина, которого он, под стать, видимо, Сирину, поэтом полагает из весьма второстепенных).2475
И не случайно ещё в среду, за общим столом, уже «озарённый» мечтой Ганин «подивился, как Машенька могла выйти за этого человека…» – Алфёрова.2481 Он появится, Алфёров, а заодно и ответ на этот вопрос – в одном из её писем: «Очень смешной господин с жёлтой бородкой за мной ухаживал и называл “королевой бала”. Сегодня же так скучно, скучно. Обидно, что дни уходят, и так бесцельно, глупо, – а ведь это самые хорошие, лучшие годы». И вслед она приводит пародийной пошлости четверостишие, в котором сулит себе, с отчаяния, чтобы не превратиться в «ханжу», сбросить «оковы любви … забыться … упиться», – весь пассаж заключив своим обычным: «Вот мило-то!».2492
Последнее письмо от Машеньки Ганин получил накануне отъезда на фронт: «Неужели я жила эти три года без тебя, и было чем жить и для чего жить? ... Боже мой, где оно – всё это далёкое, светлое, милое… Я чувствую, так же, как и ты, что мы ещё увидимся, но когда, когда? Я люблю тебя. Приезжай. Твоё письмо так обрадовало меня, что я до сих пор не могу прийти в себя от счастья…». Непосредственная реакция Ганина на эти строки: «Счастье... – Да, вот это – счастье. Через двенадцать часов мы встретимся. Он замер, занятый тихими и дивными мыслями. Он не сомневался в том, что Машенька и теперь его любит. Её пять писем лежали у него на ладони».2503 Из этого блаженного состояния лукавый и жестокий автор выводит его действием, прогнозирующим финал: к Ганину неожиданно врывается Алфёров, которому приспичило отодвинуть шкаф, закрывающий дверь между двумя смежными комнатами – его и Ганина, обещавшего уехать, освободив её, тем самым, для Машеньки. Алфёрову шкаф не поддался. И Ганин, на этот раз нисколько не сердясь, а напротив, весело, засунув чёрный бумажник с письмами в карман, «плюнул себе в руки» и шкаф отодвинул.2514 Таким образом, начавшись для Ганина со сборов в дорогу, чтобы встретить Машеньку, глава 13-я заканчивается освобождением для неё комнаты в пансионе.
И на вечеринке, накануне её приезда, Ганин думает о том же: «Какое счастье. Это будет завтра, нет, уже сегодня, ведь уже за полночь. Машенька не могла измениться за эти годы, всё так же горят и посмеиваются татарские глаза. Он увезёт её подальше, будет работать без устали для неё. Завтра приезжает вся его юность, его Россия… Всего шесть часов осталось… В действиях судьбы есть иногда нечто гениальное».2525
Так почему же Ганин, из «тени» возродившийся к жизни, полный энергии, готовый для Машеньки «работать без устали», все эти дни считавший часы до её приезда, уверенный, что она не могла измениться и что она его любит, – почему он, в последнюю, пятничную ночь, споив Алфёрова, и утром, за час до прибытия поезда ожидая Машеньку на вокзале, – в последний момент меняет решение? Он, которому автор изначально дал рекомендацию человека, в высшей степени способного «добиваться, достигать, настигать», но непригодного к отречению и бегству. Ничем иным, кроме отречения и бегства такой финал назвать нельзя.
Если неспособность порвать с Людмилой, всего три месяца бывшей его случайной любовницей, повергла Ганина в такую депрессию, то что будет с ним, пережившим потрясение в связи со всей этой историей с Машенькой? Что побудило его к бегству? Почему он хотя бы не попробовал испытать эти свои замечательные качества – такие убедительные в тройном, намеренно эмфатическом повторении – «добиваться, достигать, настигать»? Ведь он «умел не только управлять, но и играть силой своей воли».2531 Ганин – убеждает нас автор – человек смелый и склонный к риску: у него два паспорта, и он живёт по поддельному, польскому, находя, что это «забавно и удобно» – три года назад он был в Польше, в партизанском отряде; он даже думал когда-то: «…проберусь в Петербург, подниму восстание» (?!).2542 «А вот – будущий спаситель России», – с наигранным пафосом благодушествует Подтягин.2553 И, наконец, на последних страницах романа, в сценах с умирающим Подтягиным Ганин предстаёт человеком не только благородным и мужественным, но и обладающим лидерскими качествами, способным в критический момент взять на себя ответственность и принимать правильные решения. В какой-то момент Набоков как бы предлагает читателю увидеть Ганина в образе героя, достойного скульптурного запечатления: «…профиль Ганина, пристально глядевшего на кровать, казался высеченным из бледно-голубого камня» – по контрасту с лицами двух его соседей-танцоров, – они были «как два бледных пятна».2564
Такова убедительная характеристика персонажа, в последний момент крайне неубедительно сбежавшего. Да его просто видишь – решительно подходящим к перрону, к вагону… «О, как это будет просто: завтра, – нет, сегодня, – он увидит её: только бы совсем надрызгался Алфёров. Всего шесть часов осталось».2575
Много лет спустя, в мемуарах, Набоков объяснял, что не осуществил свою мечту, потому что как-то «истратился», «промотал» её.2586 Это бывает, когда либо нет достаточной мотивации, либо есть другая, противоборствующая. В программном стихотворении «Поэт» (подробно о нём уже говорилось выше), написанном в Крыму 23 октября 1918 г., то есть как раз «к зиме», когда он собирался в армию и к «Тамаре»,2591 Набоков демонстративно дистанцируется от всего, происходящего вокруг: «Я в стороне». Он – поэт, и влеком исключительно «моею музою незримой»; ему доступно «иное счастье» – творчество, а оно – о вечном, непреходящем. Он безраздельно принадлежит своему призванию, и поэтому, несмотря ни на что, «полон жизни, полон сил», а всё остальное для него – где-то «там», «где-то вдалеке».2602
Это – позиция, самоопределение, это, в каком-то смысле, для самого Набокова, может быть, даже и алиби, но ведь не всякий поймёт: случались поэты – например, Байрон, или любимый Набоковым в Кембридже Руперт Брук, – которым поэтическое призвание не мешало стремиться к ратным подвигам. Значит, дело не в самой поэзии, а в личности поэта, в данном случае – выраженного эгоцентрика, жизнерадостного гипертимика, для которого всё, кроме творческого самоосуществления, и в том числе «военная борьба» и Машенька, за которую, как он уверяет, готов отдать «грядущую жизнь», оказываются где-то «там», вдалеке, в стороне.
При этом, однако, ему почему-то требуется непременное, неукоснительное алиби. А поскольку своего, в общеупотребительном виде, нет – он занимает его у Ганина. И крымский Ганин неожиданно и с готовностью предстаёт перед читателем как новоявленный бравый кадровый офицер. Как говорится, ничто не предвещало… С трудом, туда-сюда листая роман, обнаруживаешь, наконец, четыре слова, с предельной скупостью объясняющие эту внезапную ипостась ещё совсем недавно юного, романтичного Лёвушки: оказывается, он «поступил в Михайловское юнкерское училище».2613 Причём это произошло в 1916 г., за год до революции и Гражданской войны, а значит – без срочной нужды идти сражаться с большевиками, просто по выбору военной профессии. Ни словом, ни намёком не потрудился больше Набоков дать понять, почему был сделан такой выбор – ну пусть бы он хоть в детстве в солдатики поиграл, что ли… В «Балашовском» (Тенишевском) училище учился «так себе … в футбол лупили».2624
Ну и, наконец: «Девять лет тому назад… Лето, усадьба, тиф… Лежишь, словно на волне воздуха»2635 – здесь, в совершенно упоительном, на две страницы описании, Набоков откровенно уподобляет Ганина себе: это его неповторимое, узнаваемое воображение, его пристальная память. И читатель, того гляди, вместе с выздоравливающим Лёвушкой «тронется, поплывёт через всю комнату в окно, в глубокое июльское небо».2641 И только потом появляется чувство, что чего-то в нём, в Лёвушке, не хватает. Кроме велосипеда и рюх, за ним не числится никаких талантов, увлечений, интересов, занятий. Лишив его своих, Набоков не позаботился наделить его какими-то другими, ему свойственными, и рядом с Машенькой, – а она-то живая, во всей своей красе, с её стишками, прибаутками, словечками, – Ганин безлик, нем (стихов он не пишет), он некий условный барчук, непонятно каким образом умудряющийся, подобно своему создателю, воспарять до поэтических высот восприятия окружающего мира. По отношению к Набокову, усадебный Ганин – нечто вроде улыбки чеширского кота: лишённый какого бы то ни было содержательного «я», он, тем не менее, умеет галлюцинировать на манер автора.
В воспоминаниях Набоков пишет, что после первого их, 1915 года, лета, «Тамара и я всю зиму мечтали об этом возвращении» – на следующее лето в Выру, «но только в конце мая … мать Тамары наконец поддалась на её уговоры и сняла опять дачку в наших краях, и при этом, помнится, было поставлено дочери одно условие, которое та приняла с кроткой твёрдостью андерсеновской русалочки».2652 Условием было – отработать осенью затраченные на съём дачи деньги. Они «клялись в вечной любви ... и в конце лета она вернулась в Петербург, чтобы поступить на службу…»; он же: «…будучи поглощён по душевной нерасторопности и сердечной бездарности разнообразными похождениями, которыми, я считал, молодой литератор должен заниматься для приобретения опыта», несколько месяцев её не видел и не помнит, «как и где мы с Тамарой расстались».2663
В «Машеньке» Набоков лишает влюблённых этого второго лета. Вместо этого он вводит придуманный эпизод, в котором Машенька звонит Ганину и сообщает, что отец ни за что не хотел в этом году снимать дачу в прежнем месте, и она находится в каком-то другом дачном городке, и Ганин (герой!) едет к ней на велосипеде за пятьдесят вёрст. И там, «в липовом сумраке широкого городского парка, на каменной плите, вбитой в мох, Ганин, за один недолгий час, полюбил её острее прежнего и разлюбил как будто навсегда».2674 На этом автор не останавливается, а продолжает, чтобы было совсем понятно: «– Я твоя, – сказала она. Делай со мной, что хочешь… Но в парке были странные шорохи … – Мне всё кажется, что кто-то идёт, – сказал он и поднялся».2685 Ганин «думал о том, что всё кончено, Машеньку он разлюбил ... знал, что больше к ней не приедет».2696
Второй эпизод действительно был, и описан Набоковым в «Других берегах». Это происходит в начале лета 1917 года: «После целой зимы необъяснимой разлуки, вдруг, в дачном поезде, я опять увидел Тамару. Всего несколько минут, между двумя станциями, мы простояли с ней рядом в тамбуре грохочущего вагона. Я был в состоянии никогда прежде не испытанного смятения; меня душила смесь мучительной к ней любви, сожаления, удивления, стыда, и я нёс фантастический вздор; она же спокойно ела шоколад ,.. и рассказывала про контору, где работала…». А на следующей станции, «…отвернувшись, Тамара опустила голову и сошла по ступеням вагона в жасмином насыщенную тьму».2701
В романе, в этой же сцене, «Ганину было страшно грустно смотреть на неё, – что-то робкое, чужое было во всём её облике, посмеивалась она реже, всё отворачивала лицо. И на нежной шее были лиловатые кровоподтёки, теневое ожерелье, очень шедшее к ней»2712 (курсив мой – Э.Г.). Вернёмся из 9-й главы в 8-ю: «Они так много целовались в эти первые дни их любви, – вспоминает Ганин, – что у Машеньки распухли губы и на шее … появлялись нежные подтёки»2723 (курсив мой – Э.Г.).
Вариант 9-й главы – это даже не параллель, а – демонстративно, прямо указующий перст, обвиняющий Машеньку в неверности, в измене. Признания же Ганина в собственных случайных приключениях, мимоходом, как бы между прочим упомянутые в тексте, отнюдь не производят впечатления тяжело пережитых драм, а напротив, представляются им как естественные, простительные по молодости.2734
Так какое же дикое воображение водило рукой автора, рисующей на шее Машеньки – и не в чаще заповедных лесов Выры, а всем напоказ, посреди летней суеты столичного вокзала и в тамбуре вагона дачного поезда – «очень шедшее к ней» ожерелье из «лиловатых кровоподтёков»?! И это ещё не всё – указующий перст на этом не успокоится. «Она слезла на первой станции ... и чем дальше она отходила, тем яснее ему становилось, что он никогда не разлюбил её. Она не оглянулась. Из сумерек тяжело и пушисто пахло черёмухой… Больше он не видался с Машенькой».2745
Это последние фразы 9-й главы, а 10-я начинается с того, что в четверг, под вечер, «к Ганину зашла, ужасно волнуясь, Клара – передать ему Людмилины слова…», и реакция Ганина: «Очень всё это скучно»2756 не может не напомнить читателю о том эпизоде в его отношениях с Людмилой – «…ночью на тряском полу тёмного таксомотора», – когда ему «сразу всё стало очень скучным…». Похоже, для того и понадобилась Ганину сцена с Машенькой на совершенно невозможной, в парке, кладбищенского назначения «каменной плите, вбитой в мох», чтобы сопоставить её с Людмилой. Подобным же образом, «лиловатые кровоподтёки» на нежной шее Машеньки не могут не ассоциироваться с тем, что Ганину, после того же эпизода с таксомотором, «теперь всё было противно в Людмиле … а главное, губы, накрашенные до лилового лоску»2761 (курсив мой – Э.Г.).
В корчах души, породивших эти нелепые и чудовищные образы, – разбираться психологам. Читатель же не может не заметить здесь прямого умысла: крайне неуклюжего, но пугающе целеустремлённого осквернения образа Машеньки. Это и само по себе приводит в недоумение и коробит – несносно, неправдоподобно вульгарными приёмами автора, а по нахождении конкретных привязок поражает вопиющим кощунством.
Создаётся стойкое впечатление, что Людмила – персонаж, воплощающий эталонную пошлость – введён в роман с единственной целью: отбрасывать соответствующую тень на образ Машеньки. Это – тяжеловесного смысла заготовка для загодя поставленной автором задачи: подготовить «прозрение» Ганина и оправдать его бегство – бегство человека, как мы помним, «из породы людей, которые … совершенно не способны ни к отречению, ни к бегству».
Ту же самую функцию выполняет «очень смешной господин с жёлтой бородкой», в котором легко угадывается Алфёров, упоминаемый в четвёртом, предпоследнем из «крымских» писем Машеньки.
Так появляется в романе второй (если не считать автора) агент, вселяющий сомнения в чистоту образа Машеньки. В Берлине, в пансионе, слушая болтовню Алфёрова и ещё не зная, что его жена – Машенька, Ганин подумал: «Экий пошляк ... а жена у него, верно, шустрая… Такому не изменять – грех».2772 Через день, в среду – накануне расставшись наконец с Людмилой и с нетерпением ожидая встречи с Машенькой, Ганин с ужасом и стыдом вспоминает, как вместе с другими потешался над Алфёровым и его женой, и в то же время дивится, «как Машенька могла выйти замуж за этого человека».2783 При этом Алфёров, отметив, что жена у него «расторопная», дважды повторяет: «В обиду себя не даст. Не даст себя в обиду моя жёнка».2794 Набоков здесь, очевидно, хочет довести до сведения Ганина (и читателя) важную мысль, что Машенька – не жертва Алфёрова, что она с ним – по собственному выбору и доброй воле и, следовательно, в Ганине не нуждается. Да и достойна ли она его – впору задать и такой вопрос. Впрямую он не задаётся, но исподволь, как бы в дрейфе, плавающем состоянии между Ганиным и Алфёровым, Машенька всё больше отступает в тень Алфёрова. Машенька, которая на фотографии так же улыбается Алфёрову, как она когда-то улыбалась Ганину, – это, надо думать, уже не та Машенька.
Очень осторожно и постепенно, так, чтобы главный герой этого не заметил и не понял до последнего момента, Набоков двигает его к нужному ему финалу. На вечеринке с пятницы на субботу, перед приездом героини, автор прицельно занимается поляризацией образов соперников: Алфёрова и Ганина. Алфёров, поначалу маленький, смешной и жалкий человечек, пошловатый, но, в сущности, добродушный и даже трогательный в своей привязанности к жене, – по мере спаивания его Ганиным превращается даже не в чудовище, а просто в какое-то чучело, пугало, нарочито карикатурного, беспомощного, нелепого и злобного урода, способного внушать только брезгливость и отвращение. Набоков, как настырный учитель тупым ученикам, буквально вдалбливает читателю и без того понятный образ, оснащая его отвратительными натуралистическими подробностями и переходя границы сколько-нибудь допустимого вкуса. Эти топорные, грубого ремесла приёмы слишком выдают заинтересованность (и неумелость) автора выставить свой персонаж в нужном ему свете и потому оставляют чувство неловкости и фальши.
Ганин же, напротив, из вялого и раздражительного неврастеника, из-за случайного романа с никчёмной и ненужной ему женщиной впадшего в тяжёлую депрессию, моментально преображается и за несколько дней переживает настоящую психодраму, восстановив в памяти историю своей первой любви. Решение его, несмотря на омрачающие образ возлюбленной подсказки автора, неукоснительно; процитируем ещё раз: «О, как это будет просто: завтра, – нет, сегодня, – он увидит её: только бы совсем надрызгался Алфёров».2801 А в апогее преображения, в ту же ночь перед встречей, Ганин предстаёт уже чуть ли не героем с медальным профилем на барельефе из «бледно-голубого камня».
Чтобы подчеркнуть контраст между персонажами на пике их подлинного самовыражения, они подробнейшим образом, как на театральной сцене, показываются в ключевых, завершающих эпизодах ночной пирушки: Ганин специально возвращается в комнату, где сидит пьяный Алфёров, который снова, уж в который раз, описывается в крайне неприглядном виде: «Ганин сел подле него и долго глядел на его пьяную дремоту», а затем, поняв бесполезность попыток найти с ним какой-то контакт, «Ганин … пристально глянул Алфёрову в лицо, – всё вобрал сразу: полуоткрытый, мокрый рот, бородку цвета навозца, мигающие водянистые глаза».2812 Весь этот пассаж явно взывает и к читателю, чтобы он тоже «всё вобрал сразу», – да полно, какой же должна быть Машенька при таком-то муже? И улыбается ему так же, как когда-то Ганину?
Однако Ганин, как бы не видя, не чувствуя намёков и предостережений автора, решительно ставит будильник Алфёрова на десять – нет, переставляет на одиннадцать часов утра и отправляется на вокзал встречать Машеньку – к поезду, прибывающему в 8.05. Много ли смотрит по сторонам человек, который несёт «чемоданы, как вёдра», после бессонной, с драматическими перипетиями ночи – с умирающим Подтягиным, с пьяным Алфёровым, – идя по знакомому маршруту и к ясно намеченной цели: встретить первую и незабвенную свою любовь? Но Ганин – не человек, а всего лишь персонаж, «раб на галере», послушный своему «антропоморфному божеству», и Набоков снова (как юному Лёвушке, как бродившему по улицам Берлина в гипнозе воспоминаний недавнему Ганину), теперешнему, решительному и целеустремлённому герою ниспосылает, для своих нужд, зрение художника и воображение поэта и философа. И по мере того, как «солнце постепенно поднималось выше и тени расходились по своим обычным местам, – точно так же, при этом трезвом свете, та жизнь воспоминаний, которой жил Ганин, становилась тем, чем она вправду была, – далёким прошлым».2821 Тонкими штрихами обозначает автор сопутствующую состоянию героя «прекрасную таинственность» окружающего его мира – его утреннее, после ночи, возрождение, что, понятно, символизирует приближение нового этапа жизни Ганина: ещё видимый, в конце улицы, освещённый солнцем угол только что покинутого дома, неожиданное для глаза расположение рассветных теней… И Ганин «думал о том, что давно не чувствовал себя таким здоровым, сильным, готовым на всякую борьбу. И то, что он всё замечал с какой-то свежей любовью... – поясняет автор, – это и было тайным поворотом, пробужденьем его».2832
Поворот пока тайный; и пока что, сидя на той же скамейке в скверике у вокзала, где он «ещё так недавно вспоминал тиф, усадьбу, предчувствие Машеньки», Ганин как будто бы по-прежнему пребывает в уверенности, что: «Через час она приедет, её муж спит мёртвым сном, и он, Ганин, собирается её встретить».2843 Вот бы и встретил… Ведь он, по настойчивому определению автора, из породы людей, которым свойственно «добиваться, достигать, настигать»… Да, многое пережито героями за эти годы, и прошлое, скорее всего, не вернуть… хотя, бывает, что и такое случается… Но дело уже не в этом. В тот момент, когда Ганин, споив Алфёрова, лишил его возможности встретить Машеньку, он отрезал себе путь к отступлению: встретить её, безотносительно ко всему последующему, он должен – это вопрос чести дворянина, благородного человека. Неужели же автор сподобится толкнуть Ганина на совершеннейшее бесчестие?!
Времени остаётся мало, поезд скоро прибывает, автору некогда, и он даёт Ганину подсказку – сразу после слов «собирается её встретить», но с нового абзаца: «Почему-то он вспомнил вдруг, как пошёл проститься с Людмилой, как выходил из её комнаты».2851 Это для Ганина «почему-то» и «вдруг» – автор же этот укол в подсознание готовил давно, вышеописанными безобразными, надуманными эпизодами и сопоставлениями Машеньки с Людмилой.
Разумеется, никаких прямых комментариев мы по этому поводу не найдем. Зато – начинается здесь новый пассаж, с нового абзаца и почти до самого конца этой, последней страницы романа, долженствующий – посредством развёрнутой и впечатляющей ассоциации – срочно произвести катарсис, тайный поворот преобразующий в явный. «А за садиком строился дом. Он видел жёлтый, деревянный переплёт – скелет крыши, – кое-где уже заполненный черепицей».2862 Применив приём переключения внимания, автор далее подкрепляет его подробным, последовательным рассказом, наглядно и убедительно подсказывающим герою перспективы его светлого будущего: «Работа, несмотря на ранний час, уже шла. На лёгком переплёте в утреннем небе синели фигуры рабочих. Один двигался по самому хребту, легко и вольно, как будто собирался улететь».2873
Подсказки работают и ведут к заключительной каденции: «…этот жёлтый блеск свежего дерева был живее самой живой мечты о минувшем. Ганин глядел на лёгкое небо, на сквозную крышу – и уже чувствовал с беспощадной ясностью, что роман его с Машенькой кончился навсегда. Он длился всего четыре дня, – эти четыре дня были, быть может, счастливейшей порой его жизни. Но теперь он до конца исчерпал своё воспоминанье, до конца насытился им, и образ Машеньки остался вместе с умирающим старым поэтом там, в доме теней, который сам уже стал воспоминаньем. И, кроме этого образа, другой Машеньки нет и быть не может».2884 Последняя фраза, как судебный приговор, вынесена в самостоятельный абзац.
Ключевые слова в процитированном отрывке – исчерпал и насытился, то есть, надо понимать, утолил (томление) и избавился (от самого себя), как, спустя четверть века, объяснял Набоков замысел первого своего романа.2895 И Ганин, повинуясь воле автора, «дождался той минуты», когда прибывающий экспресс на его глазах «скрылся за фасадом вокзала» – и повернул на другой, «с приятным волнением» предвкушая, «как без всяких виз проберётся через границу, – а там Франция, Прованс, а дальше – море. И когда поезд тронулся, он задремал»,2906 – видимо, тем самым давая понять читателю, что решение было правильным, успокоительным, чести и совести не затронувшим.
Дочитав роман, можно, конечно, развести руками, ссылаясь на общепонятное: коллизии логики в отношениях между персонажами художественного произведения – дело и право автора, и обсуждать их бессмысленно. И всё же… Поскольку прототипы двух основных героев – реальные люди – Владимир Набоков и Валентина-Люся Шульгина, – простор для маневра в обращении с центральными образами романа – Ганиным и Машенькой – не может не быть сопряжён с определёнными, обязующими автора, границами моральной ответственности.
Начать с того, что для безукоризненного, «железного» крымского алиби Ганина (взятого Набоковым «напрокат», за отсутствием той же категории собственного), автор облачает своего представителя в форму кадрового офицера (Набоков в ней – непредставим!) и наделяет его, в превосходной степени, чувством долга и чести – ни к отречению, ни к бегству такой Ганин, по настойчивым уверениям Набокова, совершенно не способен, хотя до того – он, юный, никак не производил впечатления подобного типа характера, скорее наоборот. Но если уж он обрёл, по воле автора, такие черты, то, видимо, для того, чтобы не «истратиться» и не «промотать» свою мечту о встрече с Машенькой, – разве что «контузия в голову» помешает. Изобразив Ганина, в этом отношении, своим антиподом, Набоков, по молодости и неопытности, оказался в ловушке – те самые качества, которые необходимы были Ганину в Крыму, в Берлине оказались помехой. Даже с опостылевшей ему Людмилой жалость и чувство чести – «вот это движение – повернуться, уйти – казалось немыслимым»,2911 и только предстоящая встреча с Машенькой подвигла его на этот шаг. Но Ганин, изначально, как мавр, был обречён автором сделать своё дело и уйти, то есть всё-таки исчерпать воспоминание, насытиться им, и утолив, тем самым, томление (автора), помочь ему избавиться – но не от себя (этого Набоков не умел), – а от неё, Машеньки, коль скоро она «Тамаре» (Люсе), по собственному его признанию, «сестра-близнец».2922 И чем дальше, тем больше эта фальшь, эта искусственная роль, навязанная Ганину – «оловянному солдатику», подневольному порученцу, досадно отравляет все красоты воображения и стиля, коим уже отличился в этом произведении совсем ещё начинающий романист.
Какую же управу пришлось искать автору на им же внушённую, экстатическую мотивацию своего героя увезти Машеньку куда-нибудь подальше и работать там для неё «без устали»? Единственный способ, который придумал Набоков, чтобы переубедить Ганина, – Машеньку подретушировать, подпортить ей репутацию, чтобы Ганин понял: Машенька его памяти осталась в прошлом, а та, которая приезжает, – совсем не та. Над этой лоботомией работали трое: Людмила, Алфёров и Сирин, начинающий, талантливый, но неопытный ещё прозаик, взявшийся руководить сложной хирургической операцией без надлежащих навыков и потому оставившей по себе грубые швы. Оба персонажа, рекрутированные автором на подмогу, – и только для этого они и допущены в роман, – настолько не вяжутся с образом Машеньки, что кажутся кое-как сработанными марионетками, неуклюже выполняющими какие-то непристойные пассы по наущению автора, мнящего себя «антропоморфным божеством», пока ещё, однако, – очень антропоморфного, но далеко не божества.








