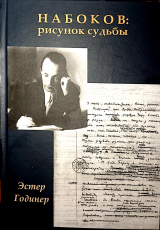
Текст книги "Набоков: рисунок судьбы"
Автор книги: Эстер Годинер
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 45 страниц)
Отнюдь не «лапа забвения», а, напротив, героизация образа Чернышевского, «скованного Прометея»», нуждающегося в срочном спасении, тяжело осложнила его реальное бытие. «В ссылке, – сообщает Стеклов, – Чернышевский неоднократно заявлял устно и письменно, что не имеет ни желания, ни физических сил бежать из Сибири», и Годунов-Чердынцев, следуя этим источникам, также полагает подобные авантюры «вовсе уже пагубными» и «бессмысленными», оговаривая, однако, что таковыми они являлись для «настоящего» Чернышевского, образу воображаемого «скованного великана» (может быть, и решившегося бы на такой рискованный шаг?) не отвечающего.17914
Так или иначе, но на фоне повторяющихся слухов и действительных попыток организовать Чернышевскому побег, в конечном итоге было решено упрятать невольного носителя провокативного символа сопротивления режиму подальше и понадёжнее. Что и произошло: но не 2 декабря 1870 года, как ошибочно указано в тексте, а гораздо позже, после долгих проволочек правительства, опасавшегося ослабить прежний «строгий надзор» и искавшего, как устроить новый, заведомо «неослабный». Лишь 11 января 1872 года Чернышевского, наконец, переправили в Вилюйск, «в место, – как справедливо отмечает Набоков, – оказавшееся гораздо хуже каторги».17925
Поселили Чернышевского в тюрьме, в самом остроге, который он, в письме к жене, назвал «лучшим домом в городе», в сырой камере. Единственный политический ссыльный в посёлке, где «обитатели (500 душ) были казаки, полудикие якуты и небольшое число мещан», он был обречён на одиночество, которое – и здесь не приходится ждать разногласий в мнениях – было «ужаснее всего» и «едва не свело его с ума».17931 «Чернышевский протестовал против того, что двери острога запирали на замок в ночное время, хотя он не был арестантом и должен был по закону иметь полную свободу передвижения», – настаивает Стеклов, – и, видимо, это обстоятельство и послужило последней каплей терпения и привело к нервному срыву: «Под утро 10 июля 72 года он вдруг стал ломать железными щипцами замок входной двери, весь трясясь, бормоча и вскрикивая: “Не приехал ли государь или министр, что урядник осмеливается запирать ночью двери?”».17942 «…И тут, – в самый драматический момент, грозящий его герою клиническим безумием, – «…попадается нам одно из тех редких сочетаний, которые составляют гордость исследователя».17953
Редкое сочетание, принёсшее страдальцу оздоровительный катарсис, исследователь усмотрел в когда-то данном отцом Чернышевского совете. В письме от 30 октября 1853 года добрый протоиерей советовал сыну «(по поводу его “Опыта словаря Ипатьевской летописи”): “…лучше бы написал какую-нибудь сказочку … сказочка ещё ныне в моде бонтонного мира”».17964 И вот, «через много лет», совет пригодился: в письме от 10 марта 1883 года Чернышевский сообщает жене, что он «хочет написать “учёную сказочку”, задуманную в остроге, в которой её изобразит в виде двух девушек… “Если б ты знала, сколько я хохотал сам с собой… Сколько плакал от умиления...”. То-то его тюремщики доносили, что он «по ночам то поёт, то танцует, то плачет».17975 Можно, конечно, порадоваться, что, подобно Цинциннату Ц. в «Приглашении на казнь», Чернышевского спасает от отчаяния … воображение. Но если посчитать – сколько это, «через много лет», – то найденное здесь «редкое сочетание» очень запоздалого отклика сына на тридцатилетней давности предложение отца и гордость исследователя этим открытием могут показаться несколько натянутыми, подчинёнными модели заданного «рисунка судьбы», в котором автор ищет обязательный для этой модели и соответствующий характеру героя завиток.
Далее, как всегда, тщательно и детально, автором перечисляются все основные обстоятельства жизни в глуши, труднодоступной для удовлетворения элементарных человеческих потребностей, не рождённого здесь якутом, казаком или местным неприхотливым старожилом. Редкая почта, отсутствие медицинской помощи – лечиться приходилось самостоятельно, по учебнику, пища – отвратительная. Пресыщение тем, что раньше его так занимало: «Меня тошнит от “крестьян” и от “крестьянского землевладения”, – писал он сыну».17981
И всё же, какая ни на есть, жизнь брала своё: понемножку осваивал близлежащие окрестности, бродил по мелководью реки, по лесным дорожкам – с корзиной для грибов, собирал и посылал в письмах родным нехитрый гербарий. «Жажду просветительства» пытался, впрочем безуспешно, удовлетворить, домогаясь хоть в чём-то немного цивилизовать якутов. Тоске по общественной деятельности нашёл применение, сочувствуя и пытаясь помочь ссыльным староверам: чуть ли не запросто, со свойственной ему мегаломанией, отправив напрямую Александру II записку с просьбой об их помиловании, поскольку они «почитают Ваше величество святым человеком», – чем только усугубил их положение. Ответа не последовало, но подзащитные были отправлены «в ещё более глухие места».17992 Поистине – к чему бы, хоть как-то касающемуся общественных вопросов, ни прикоснулся Чернышевский, – даже из своей непомерной по расстоянию дали, – сверхчувствительная, неадекватная, близкая к своего рода идиосинкразии, негативная реакция властей свидетельствовала о чуть ли не суеверном страхе перед ним. Нет, и в сибирской глуши не грозила ему лапа забвения, и на этой чудовищной дистанции от Петербурга чувствовалось в нём «что-то», что чиновное сознание отторгало как инородное, нестерпимое и подлежащее по возможности немедленной нейтрализации.
Удерживаясь в основном в рамках объективного описания обстоятельств жизни Чернышевского ссыльного периода, даже и с проявлениями человеческого к нему сочувствия, автор, однако, не мог не поддаться соблазну иронии: «Однажды у него на дворе появился орёл … “прилетевший клевать его печень, – замечает Страннолюбский, – но не признавший в нём Прометея”».18003 Этот реальный случай – «слыханное ли у натуралистов дело?», – упомянутый Чернышевским в письме жене от 18 августа 1874 года, стал поводом для еще большего тиражирования образа «великого революционера» как прикованного к скале Прометея: «Это сравнение стало общим местом в литературе о Чернышевском 1910-1920-х годов», – заключает Долинин и называет, в ряду имён, его использовавших, такие известные, как Плеханов и Стеклов.18014 Понятно, что Страннолюбский, как доверенное лицо стоящего за ним подлинного биографа, просто обязан был ответить на этот вызов народовольческого и советского славословия Чернышевскому, высмеяв раздражающее его своей пафосной неадекватностью клише.
Приступая к характеристике письменной продукции, производимой Чернышевским в эти годы, автор резко меняет тон и подход: это его сфера, фокус его внимания, – и здесь он неумолим в оценках: «…труды эти – пепел, мираж. Из всей груды беллетристики, которую он в Сибири произвёл, сохранились, кроме “Пролога”, две-три повести, какой-то “цикл” недописанных “новелл”. Сочинял он и стихи…». Впрочем, почти всё, что он писал в Вилюе, он сжёг.18021 «Староперсидская поэма», судя по одному только восклицанию Набокова, – «страшная вещь!», – и, заодно с ней, цикл новелл «Вечера у княгини Старобельской», – и то, и другое «носят явные признаки графомании, – отмечает Долинин, – и потому при жизни Чернышевского напечатаны не были».18032 Несмотря на чинимые ему препятствия и отказы в публикациях, Чернышевский был буквально обуян страстью сочинения рассказов, как ему казалось, «высоко литературного достоинства» о некоей «Академии Лазурных Гор». Снабдив псевдонимом «будто бы с английского», он посылает их, один за другим, редактору «Вестника Европы», напрасно надеясь на публикацию.
Ещё одной своей мании, отмечает биограф, «страсти к наставлению, Чернышевский «тем давал исход», что членам своего семейства писал «о Фермате … о борьбе пап с императорами … о медицине, Карлсбаде, Италии… Кончилось тем, чем и должно было кончиться: ему предложили прекратить писание “учёных писем”. Это его так оскорбило и потрясло, что больше полугода он не писал писем вовсе».18043 Здесь, опять-таки, возникает тема чиновной тупости и зряшных страхов. Чем могла так уж помешать якутскому губернатору подобная «обширность» писем Чернышевского? Нарушением запрета писать о «предметах посторонних»? Но среди перечисленных нет ни одного, который мог бы возбудить подозрение: старший сын, Миша, получает «наставления» по высшей математике, младший – о борьбе пап с императорами, жена – о её здоровье с рекомендациями о том, как и где она могла бы подлечиться. Однако губернатор счёл необходимым напомнить исправнику, что его подопечный «имеет право» лишь «извещать о своём положении в приличных формах и выражениях» – и ничего сверх того.18054 Совершенно очевидно, что возможность более или менее нормальной, содержательной переписки между ссыльным и членами его семьи оздоровила бы и состояние сидельца, и его отношения с администрацией, никакого особенного «революционного» вреда не принеся. Но такова была инертность бюрократии, внесшей свою, и немалую, лепту в бессмысленные запреты «свободы речи», что только разжигало у последователей Чернышевского протестный импульс и уводило его в русло насилия.
Отсюда и поразительный контраст: автор, именуя Чернышевского «призраком», то есть фигурой, личностью, за годы ссылки потерявшей какую бы то ни было общественную значимость, то самое харизматическое «что-то», что было прежде, – в то же время приводит свидетельства о таком невероятном рейтинге этого «призрака», что дело дошло до «торговли» им. Подумать только! – через год после убийства Александра II исполкому террористической «Народной Воли» было предложено освобождение Чернышевского в обмен на гарантию благополучного исхода коронации наследника престола – Александра III: «…так меняли его на царей и обратно (что получило впоследствии своё вещественное увенчание, когда его памятником советская власть заместила в Саратове памятник Александра Второго)».18061 Бюст Чернышевского был установлен в 1918 году в Саратове на пьедестале снесённого памятника Александру II. Марксистом Стекловым эта замена названа «историческим символом».18072 «Символ» и стал единицей обменного курса, заменившей реального Чернышевского, – каким бы он ни был до или после ссылки. Чернышевский оказался востребован временем как символ освободительного демократического движе6ния и жертва жестокого произвола властей, и в этом, видимо, секрет устойчивости его авторитета.
Прошению о помиловании отца, поданному его сыновьями, был дан ход; 6 июля 1883 года министр юстиции Д.Н. Набоков сделал по этому поводу в окончательном виде доклад, и «Государь соизволил перемещение Чернышевского в Астрахань».18083 24 августа (в тексте – в исходе февраля 83 года, но это ошибочная датировка) иркутские жандармы приехали за Чернышевским в Вилюйск, не известив его о причине и назначении этой внезапной полицейской акции; и только в Иркутске, куда его доставили ночью 28 сентября, начальник иркутского жандармского управления В.В. Келлер на следующий день утром сообщил: «Государь вас помиловал».18094 Биограф очень чуток, описывая перепады эмоционального состояния Чернышевского в течение и после месячного путешествия по Лене, когда он, по свидетельствам сопровождавших его жандармов, сначала, будучи рад покинуть Вилюйск, «несколько раз принимался плясать и петь», но прибыв в Иркутск, который показался ему «всё тем же казематом в сугубо уездной глуши», – судя по заторможенной реакции, не сразу понял сказанное Келлером. Нельзя не привести эту фразу: «“Меня?” – вдруг переспросил старик, встал со стула, положил руки вестнику на плечи и, тряся головой, зарыдал».18105 И как же он ожил, вечером, за чаем у Келлера, без умолку говорил и рассказывал его детям «более или менее персидские сказки, «чувствуя себя как бы выздоравливающим после долгой болезни». Символика, которую привносит автор, – «сказки – об ослах, розах, разбойниках…», – намекает на судьбу героя «Золотого осла» Апулея, похищенного разбойниками, но имеющего ещё шанс снова стать человеком, – надо только съесть лепестки роз, – однако он долгое время не может найти цветы.
Отслеживая весь маршрут, с мимолётным нечаянным свиданием в Саратове с Ольгой Сократовной, биограф с полным основанием отдаёт должное своему повествователю-двойнику: «С большим мастерством, с живостью изложения необыкновенной (её можно почти принять за сострадание), Страннолюбский описывает его водворение на жительство в Астрахани».18111
Астрахань, однако, роковым образом оказалась диагностической проверкой на востребованность – на этот раз не «символа», а живого Николая Гавриловича Чернышевского, – и не ссыльного, а вольноотпущенного. Именно это последнее обстоятельство в сочетании с отдалённостью Астрахани от политических и культурных центров России – тихо, без пафоса утопило потребность в патетических протестах его сторонников и последователей и предоставило «громадным замыслам», чаемым в ссылке, за ненадобностью остаться нереализованными. «Символ» мог работать либо в столице, либо в экстремальных условиях заключения или ссылки, – в провинциальной Астрахани он потерял актуальность, а без него остался без внимания и его живой носитель. Астрахань губила Чернышевского – физически, морально, интеллектуально. Занявшись там, «с постоянством машины», переводом, том за томом, «Всеобщей истории Георга Вебера», он лишь сублимировал потребность в осуществлении «громадных замыслов». Будучи в состоянии, близком к нервному истощению, к тому же подгоняемый мотовством Ольги Сократовны, он, то «движимый давней неудержимой потребностью высказаться», пытался в предисловии «распространяться о достоинствах и недостатках Вебера», то восставал против критики своего слога, утверждая, что «в России нет человека, который знал бы русский литературный язык так хорошо, как я»,18122 то принимался, по давней привычке, кого-нибудь – корректора, издателя – «ломать», тратя на всё это убывающие силы.
«Тут-то (в конце 88 года) и подоспела ещё одна небольшая рецензия – уже на десятый том Вебера», «отзыв несочувственный и с шуточками», как сообщил Чернышевскому А.Н. Пыпин в письме от 24 ноября 1888 года о рецензии в «Вестнике Европы».18133 В этом «небрежном пинке» Страннолюбский, верный авторскому отслеживанию неминуемого «рисунка судьбы», усмотрел завершающую деталь в «цепи возмездий», уготованных Чернышевскому. Но это, упреждает он читателя, ещё не всё: «Нам остаётся на рассмотр ещё одна – самая страшная, и самая совершенная, и самая последняя казнь».18141 Имеются в виду тяжелейшие испытания, которые постигли Чернышевского в его отношениях со старшим сыном, Сашей, небесталанным, но душевнобольным.
И так сошлось, что уже в Саратове, куда благодаря стараниям младшего, Миши, он получил вид на жительство летом 1889 года (чему несказанно радовался), – осенью, 11 октября, идя на почту с письмом для старшего, он простудился, слёг, а через два дня начался бред: «…бредил долго, от воображаемого Вебера перескакивая на какие-то воображаемые свои мемуары, кропотливо рассуждая о том, что “самая маленькая судьба этого человека решена, ему нет спасения… В его крови найдена хоть микроскопическая частичка гноя, судьба его решена…” О себе ли он говорил, в себе ли почувствовал эту частичку, тайно испортившую всё то, что он за жизнь свою сделал и испытал?».18152 Вопрос звучит риторически, но ответ обозначен метафорой. Автор, под занавес, не жалеет для своего горемычного героя традиционного набора определений и горькой иронии: «Мыслитель, труженик, светлый ум, населивший свои утопии армией стенографистов, – он теперь дождался того, что его б р е д [разрядка в тексте – Э.Г.] записал секретарь. В ночь на 17-е с ним был удар, <…> после чего вскоре скончался. Последними его словами (в 3 часа утра, 16-го) было: “Странное дело: в этой книге ни разу не упоминается о Боге”. Жаль, что мы не знаем, к а к у ю [разрядка в тексте – Э.Г.] именно книгу он про себя читал».18163
И далее, – предлагая читателю как бы мгновенный обзор, с рождения и до смерти, жизни своего героя, биограф создаёт для выполнения этой цели воображаемый тройственный союз в составе: Фёд. Стеф. Вязовского, протоиерея, который 13 июля 1828 года крестил Николая, родившегося накануне, «июля 12-го дня поутру в 3-м часу»; ту же фамилию носит второй член комиссии: герой-рассказчик сибирских новелл Чернышевского; и, наконец, «по странному совпадению, так или почти так (Ф. В……..ский) подписался неизвестный поэт, поместивший в журнале “Век” (1909 год, ноябрь) стихи, посвящённые, по имеющимся у нас сведениям, памяти Н.Г. Чернышевского, – скверный, но любопытный сонет, который мы тут приводим полностью».18174
Как же, через этих троих, сведённых воедино, одноимённых свидетелей рождения, жизни и смерти героя, высвечивается его судьба? Вот здесь-то читателя – совершенно неожиданно – и ждёт главный сюрприз: этот, как сказано, неизвестный и указанный в скобках поэт, по странному совпадению подписавшийся так или почти так, как двое предыдущих его якобы однофамильцев, в скверном, но любопытном сонете, помещённом в вымышленном журнале с претенциозным названием «Век», понаставил в двух четверостишиях сплошные знаки вопроса – как относительно земной юдоли упокоившегося героя («Что жизнь твоя была ужасна? Что другая могла бы счастьем быть? Что ты не ждал другой? Что подвиг твой не зря свершался, – труд сухой в поэзию добра попутно обращая…»), так и в дальней перспективе («Что скажет о тебе далёкий правнук твой, то славя прошлое, то запросто ругая?»).18181
И этим завершается глава? – после всех усилий представить судьбу Чернышевского лишь как череду тщетных потуг и напрасных жертвенных порывов, оборачивающихся неизменными поражениями из-за безнадёжной личной бездарности и фантомных, мнимых целей: и «книжонка» его, написанная в крепости, – «мёртвая»; и все труды – одна сплошная, никому не нужная, беспомощная графомания; и двадцать пять лет, проведённых в ссылке, – бессмысленны; и, наконец, прозрение и признание в бреду, – в «частичке гноя», заразившей кровь и достаточной, чтобы решить судьбу и самому себе отказать в спасении…
Стоит ли, следуя тирании автора, мудрствовать лукаво, настаивая на том, что эта, начальная часть сонета, намеренно поставлена в конце главы, дабы подчеркнуть некую, порочно замкнутую на самоё себя, – подобно змее, кусающей себя за хвост, – «кольцевую форму» жизни и деятельности Чернышевского.18192 Как ни парадоксально, но именно эти восемь начальных сонетных строк как нельзя лучше высвечивают порой подспудную, порой выходящую на поверхность (даже и в совершенно извращённом, вывернутом на угодливо лояльный к властям вид!), но до сих пор непреходящую релевантность наследия Чернышевского. Оно будет актуальным до тех пор, пока в российской «дуре-истории» будет продолжаться евразийская болтанка между приоткрытым окном в Европу и восточной деспотией, силовыми приёмами пресекающей нежелательный дискурс.
Создаётся впечатление, что Сирин, наскоро и сгоряча удовлетворив свою потребность «отстреляться», в завершающем скандальную главу сонете (сознательно или невольно) оставил себе некую лазейку для отступления. И оказался как нельзя дальновиден: эти строки, оставляющие открытым вопрос о долгосрочном последействии идей Чернышевского, ещё докажут себя пророческими! Впоследствии, в Америке, снова став Набоковым, – и теперь уже гораздо более зрелым и осторожным, он сознательно и предусмотрительно отмежевался от непосредственного авторства всей четвёртой главы. Готовя к печати английский перевод «Дара», он в письме редактору издательства специально оговорил, что из пяти глав четыре написаны им, а одна – о Чернышевском – выдана за сочинение главного героя, Фёдора Годунова-Чердынцева.18201
Модель шахматной задачи, положенная в основу структуры биографии Чернышевского, и как таковая, имеющая изначально заложенное в ней решение, вполне сработала для цели ближней и непосредственной: «упражнения в стрельбе». Но она заведомо непригодна для пролонгированного прогнозирования судьбы наследия «мыслителя и революционера», коль скоро проблемы социального общежития, которых он касался и на свой лад пытался решать, относятся к другому жанру – прихотливых игр российской «дуры-истории» и её переписывателей, которые и по сей день, не брезгуя логическими нелепостями и косноязычием давно покойного «властителя дум», подчас упражняются на его поле, выворачивая смыслы чуть ли не наизнанку, но аккуратно припадая к легитимному до сих пор его авторитету.
Метод шахматной задачи позволил эмигрантскому писателю Сирину «отстреляться» от тяжелейших, но, как он верил, преходящих испытаний и перипетий, переживаемых им в середине 1930-х годов из-за разного рода временщиков, оседлавших «дуру-историю» бредовыми идеями: то ли, на манер Чернышевского, о «победе социализма в одной, отдельно взятой стране», то ли – о «высшей расе», обрядившейся в «тошнотворную диктатуру» Гитлера, – а тут ещё, под боком, были кладбищенские заклинания любителей «парижской ноты», по Чернышевскому взывающие к косноязычному отрицанию искусства. Четвёртая глава дала Сирину силы для пятой: настоять на том, что для настоящего ДАРА «не кончается строка», что настоящее искусство вечно.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Приняться за пятую, завершающую главу «Дара» Набоков смог, дописав пьесу «Событие», только в середине декабря 1937 года, а в январе 1938-го он её закончил «после пяти лет исследовательской и творческой работы, после перерывов, во время которых были написаны один роман, одна пьеса, одиннадцать рассказов и небольшая автобиография и сделаны два перевода».18212 В журнальной публикации четвёртой главы редакцией «Современных записок» было отказано, но коль скоро Фёдору, в отличие от его сочинителя, с издателем повезло, то: «Спустя две недели после выхода “Жизни Чернышевского” отозвалось первое, бесхитростное эхо».18223 И тут начинается самое интересное. Забраковав главу четвёртую, редакция почему-то позволила автору в главе пятой – сходу, вдогонку – задать ей же, редакции, а заодно и читателям на этот предмет классический в русской литературе вопрос: «А судьи кто?».
Незамедлительным ответом, с самого начала пятой главы, было: череда остро пародийного жанра критиков (впрочем, вполне узнаваемых в их реальных прототипах), призванных дезавуировать заведомо возмутительный, хотя и не опубликованный опус. Парадоксальным, однако, образом эффект оказался обратным: читатель не мог не впечатлиться дискредитацией, каковую причиняли сами себе оные критики, себя же на посмешище и выставляя. В довершение, в качестве вишенки на этом слоёном торте, последовала неприлично похвальная, до «жара лица» лестная, рецензия соперника-союзника Фёдора – поэта Кончеева. Всё остальное, как говорится, детали, – но детали настолько содержательные и красноречивые, что они заслуживают отдельного анализа и оценки для подведения общего итога: каким счётом завершилось противостояние Набокова цензуре бывших эсеров из «Современных записок».
Первой и самой лёгкой жертвой явился персонаж по имени Валентин Линёв (Варшава), в котором прозрачно узнавался рижский критик старшего поколения П.М. Пильский, называвший Сирина «литературным фокусником» и «чучельщиком» и известный тем, что в рецензиях на его произведения, «увлекаясь собственным пересказом, неоднократно допускал чудовищные ляпсусы».18231 На этот раз, превзойдя самого себя (и в каждой из предыдущих глав уже изрядно осмеянный), он нагромоздил такую какофонию путаницы во всём и вся, рецензируя «новую книгу Бориса Чердынцева», что не оставил себе ни малейшего шанса быть принятым хоть сколько-нибудь всерьёз.18242
Гораздо весомее этой «увеселительной рецензии» было значение поединка Набокова с главным его противником в литературной критике – Г. Адамовичем (вкупе с Зинаидой Гиппиус), собирательно прозванным в «Даре» Христофором Мортусом. Высмеянный ещё в третьей главе и тогда же узнанный своим прототипом, Мортус побудил Адамовича в последующих обзорах журнала почти не касаться «Дара», ограничиваясь лишь одной-двумя уклончивыми и лаконичными фразами. Его восторженные отзывы о второй главе и признание, при всех разногласиях с Сириным, его выдающегося таланта, – что могло быть, при желании, понято как расположенность к смягчению давней вражды, – встречной готовности не обнаружили (слишком долгой и убедительной была травля одиночки-«берлинца» Набокова всей когортой «парижан» из «Чисел»). Писатель не простил и, фактически, в одиночку заботясь о будущности русской литературы, направляемой болезнями «парижской ноты» на бесплодный и гибельный путь, увековечил давнего врага.
Для наглядности читатель допускается в рабочую лабораторию Мортуса, который, «говоря о новом молодом авторе», с подкупающей доверительностью признаётся в «некоторой неловкости» – «не собьёшь ли его, не повредишь ли ему слишком “скользящим” замечанием?».18251 Не только писателя Сирина, приближающегося в 1938 году к своему сорокалетию, но и его протагониста, на десять лет моложе, – ни молодыми, ни новыми авторами назвать никак нельзя, и за этой смехотворной игрой в заботливого опекуна, пекущегося о каких-то несмышлёнышах, легко угадывается и повод лишний раз задеть самолюбие заносчивого, независимого аристократа Сирина, и присущая Адамовичу поза мэтра, многоопытного, покровительствующего молодым учителя, в чём-то пародийно похожего на другого наставника по призванию – почитаемого им Чернышевского. Но нет, – показной чуткостью проверяет себя на людях Мортус, – кажется, «бояться этого нет оснований»: Годунов-Чердынцев, хоть и «новичок», но «новичок» крайне самоуверенный, и сбить его, вероятно, нелегко».18262 «Сбить» очень похоже на «ломать» – излюбленный глагол Чернышевского, именно так, «ломая», пытавшегося переубеждать своих противников. Кислый вывод Мортуса говорит сам за себя: «Не знаю, предвещает ли какие-либо дальнейшие “достижения” только что вышедшая книга, но если это начало, то его нельзя признать особенно утешительным».18273 Таков приговор биографии Чернышевского и её молодому, но самоуверенному автору.
Краткий отзыв завершён, но родственной с «властителем дум» страсти Мортуса к поучениям он не удовлетворил. Поэтому, прибегая к типичному для него обороту «оговорюсь», он удерживает внимание читателя, – и далее следует снисходительно меланхолическое объяснение, почему, собственно, «совершенно неважно, удачно или нет произведение Годунова-Чердынцева. Один пишет лучше, другой хуже, и всякого в конце пути поджидает Тема, которой “не избежит никто”».18284 Так, рисуясь позой уставшего объяснять элементарные истины маститого авторитета, Адамович-Мортус очередной раз даёт понять, что даже (небезызвестные в данном случае эмигрантскому читателю) талант и мастерство Сирина перед лицом всемогущей «Темы» ничего не значат, кроме того, что и они – тлен и суета сует. Просто безвозвратно прошло «золотое» (читай, пушкинское) время, когда это кого бы то ни было могло интересовать. В «Числах» (1930-1934, №1-10. Кн.1-8) подобная трактовка темы смерти была центральной, и её неприятие Набоковым было хорошо известно. Мортус же, – с язвительной пародийной подсказки непокорного оппонента, – снова, в который раз, заученно повторяет те же азы: о якобы «настоящей, “несомненной” литературе, – люди с безошибочным вкусом меня поймут, – литература сделалась проще, серьёзнее, суше, – за счёт искусства, может быть, но зато … зазвучала такой печалью, такой музыкой, таким “безнадёжным” небесным очарованием, что, право же, не стоит жалеть о “скучных песнях земли”».18291
В свойственной ему манере, безукоризненно точно и артистично передаваемой Набоковым, Мортус подбирается к главному в своём критическом опусе исподволь, крадучись, изображая этакую святую невинность непредвзятого, ко всему привычного и не слишком требовательного рецензента: «…ничего предосудительного… Ну, написал, ну, вышла в свет… никто не может запретить…» и т.д., – чтобы затем, после всех экивоков и оговорок, долженствующих создать впечатление его снисходительного отношения к не столь уж и заслуживающему внимания произведению, он вдруг делает большие глаза: «Но общее настроение автора … странные и неприятные опасения … насколько своевременно или нет…» – и, наконец, ничего по существу еще не сказав, ни одного аргумента не приведя, Адамович-Мортус выносит категорический вердикт. «Но мне кажется, – и не я один так чувствую, – спрятаться за неким «общим» мнением Мортус не пренебрегает, – что в основе произведения Годунова-Чердынцева лежит нечто, по существу глубоко бестактное, нечто режущее и оскорбительное…».18302 Жало выпущено – и, опять-таки, с непременными экивоками, реверансами и расшаркиваниями, оставляющими впечатление несносной, приторной фальши, запускается яд: «…“разоблачая” их (имеются в виду – «шестидесятников»), – он во всяком чутком читателе не может не возбудить удивления и отвращения. Как это всё некстати! Как это невпопад! ... именно сейчас, именно сегодня … безвкусная операция, тем самым задевается то значительное, горькое, трепетное, что зреет в катакомбах нашей эпохи».18313 «Эпоха» упомянута здесь не случайно: агрессивный антиисторизм Сирина отвергал само это понятие как искусственное и неправомерное, но не будем отвлекаться на излишнюю здесь разборку отношений писателя с «дурой-историей». Пафос Мортуса и его сторонников в качестве защитников Чернышевского и без того анекдотичен.
Чернышевский, при всей нелепой трагикомедии его личной судьбы, был прежде всего, по природной своей натуре, борцом, всю жизнь и всеми средствами – в том числе и неуклюжими утопическими фантазиями на литературном поприще – противостоявшим существующему порядку вещей. В собственно литературе, как, впрочем, и во всех остальных областях гуманитарного знания, он проявлял себя как разночинец-первопроходец, то есть полуграмотно и эклектично, страдая к тому же непреодолимым косноязычием. Его использовали, в своих целях, авантюристы-политиканы, захватившие в России власть и превратившие его в фигуру каноническую. Но вряд ли Чернышевский был бы рад увидеть в своих последователях и почитателях жалких, ноющих тремпистов, хватающих его за полы, поклоняющихся культу смерти и спустя несколько, после него, поколений, возведших в принцип то, что не давалось ему, «семинаристу», по недостатку таланта и образования. Вряд ли он, великий труженик, был бы союзник попустительству, готовому выдавать необработанный «человеческий документ» за произведение искусства, оправдывая это ссылками на озабоченность мировой скорбью по поводу несовершенного мироустройства и неизбежности для всех и каждого «Темы».








