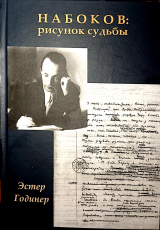
Текст книги "Набоков: рисунок судьбы"
Автор книги: Эстер Годинер
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 45 страниц)
Если не подсмотреть у филологов трактовок соответствующих аллюзий (в приведённой цитате, например, – на Лермонтова), придающих скептический, даже и с издевательским оттенком, смысл подтекстам автора в оценке им неоправданно оптимистических надежд Цинцинната,9986 то можно их наивно (и наивно ли – где доказательства?) принять за невероятной силы жизнеутверждающее начало. И точно так же располагает к этому абсурдный головоломный эпиграф ко всему роману: «Как безумец полагает, что он Бог, так мы полагаем, что мы смертны», – автором которого Набоков назначил французского философа, «меланхолического и чудаковатого умницу, острослова, кудесника, и просто обаятельного Пьера Делаланда, которого я выдумал».9991
И вот, в каталоге, принесённом ему библиотекарем, Цинциннат обнаруживает, что «на белом обороте одной из первых страниц детская рука сделала карандашом серию рисунков, смысл коих Цинциннат не сразу разгадал».10002
V
.
Утром директор торжественно сообщает Цинциннату, что «у вас есть отныне сосед ... теперь, с наперсником … вам не будет так скучно»; он же («кукла, кучер, крашеная сволочь», – как называет про себя директора Цинциннат) «строго между нами» извещает Цинцинната о разрешении, назавтра, свидания с супругой.10013 Доведённому до обморока узнику директор, а по случаю также и врач, оказывает посильную помощь. В качестве особой услуги, Цинцинната, под руководством «лаборанта» – того же Родиона-ключника, ведут посмотреть в глазок камеры на долгожданного соседа. Короче, подводит итог прошедшего дня Цинциннат, «всё было как всегда» – мнение, подтверждающее совет Набокова, данный им матери, – воспринимать описываемое в романе как обычную повседневную реальность.
«Нет, не всё, – завтра ты приедешь, – вслух произнёс Цинциннат, ещё дрожа после давешней дурноты».10024 Это он о Марфиньке, о предстоящем свидании с ней, – он любит её наперекор всему и верит, что будет любить всегда – и «даже тогда», на плахе. «И после, – может быть, больше всего именно после…» Цинциннат надеется, что «когда-нибудь», пусть за пределами жизни, состоится «истинное, исчерпывающее объяснение», из которого «уж как-нибудь», но «получится из тебя и меня тот единственный наш узор, по которому я тоскую».10035
Чтобы занять себя, Цинциннат начал рассматривать «ряд картиночек, составлявших (как вчера Цинциннату казалось) связный рассказ, обещание, образчик мечты», но в конце концов пришёл к выводу, что это «вздор, не будем больше об этом».10046
Всё ещё «вялое время» возвращает Цинцинната к столу, за которым он, теперь уже письменно, и в предвидении предстоящего свидания, возвращается к мыслям о Марфиньке, заново переживая перипетии общения с её «миром» – миром её личности, её души, которого «простейший рецепт поваренной книги сложнее»; вспоминал многочисленные её измены – «сколько было у неё…». И всё-таки Цинциннат её любит: «…безысходно, гибельно, непоправимо».10051 Ненаблюдательная, Марфинька до поры до времени не видела, что Цинциннат не такой, как все, и ему легко было скрывать это. Потом же, когда ей объяснили, умоляла его исправиться, так и не поняв, что именно и как рекомендовано ему исправлять в себе. Тем не менее, он продолжает любить её несмотря на то, что на суде она впрямую его предала: бросила свою бумажку в шляпу судебного пристава, вместе со всеми его осудив, согласившись на его казнь.
Наконец, на закате, Цинциннат, «такой маленький и узкий, что ему удалось целиком поместиться в лохани», принесённой – с горячей водой – ключником Родионом, и сначала «качающейся у пристани», а затем, с ним, куда-то плывущей. Куда? – куда он «тихо плыл», если сидел в ней, “как в душегубке”, а «красноватый вечерний луч, мешаясь с паром, возбуждал в небольшом мире каменной камеры разноцветный трепет».10062 Что предвещает этот, в красноречивых апокалиптических тонах набросок? Уж не репетиция ли это – переправки через Харон?
«Доплыв, Цинциннат встал и вышел на сушу», где ему пришлось бороться «с головокружением, с сердечной истомой». При этом автором специально отмечается, что «самое строение его грудной клетки казалось успехом мимикрии, ибо оно выражало решётчатую сущность его среды, его темницы».10073 Мимикрия для энтомолога Набокова слишком значащий термин, чтобы употреблять его просто так, всуе – использование его означает, что он видит своего героя на некоей стадии метаморфозы, когда душа заключена ещё в темницу бренного тела. «Бедненький мой Цинциннат», – не очень понятно, сам себя или автор его жалеет, но зато ясно, что никто из них совсем не радуется, «что скоро его раскупорят и всё это выльется». Когда Цинциннат разглядывает «все свои жилки», когда «выжидательно, с младенческим вниманием, снизу вверх взирали на него кроткие ногти на ногах (вы-то милые, вы-то невинные, – и когда он так сидел на койке – голый, всю тощую спину от куприка до шейных позвонков показывая наблюдателям за дверью … Цинциннат мог сойти за болезненного отрока, – даже его затылок, с длинной выемкой и хвостиком мокрых волос, был мальчишеский – и на редкость сподручный»,10084 – кому, какому специалисту может быть «сподручно» осмыслить это описание по канонам давно износившихся мудрствований?
И автор, и его герой очередной раз взывают к жалости и сочувствию, – и, несомненно, оба они совсем не расположены к идее добровольного отказа от земной жизни – какой бы она ни была (что и любому «простому» читателю тоже ясно).
Стемнело… В приоткрытую дверь – показалось, приснилось? – «мелькнуло что-то … на миг свесились витые концы бледных локонов и исчезли...», позднее красно-синий резиновый мяч закатился под койку Цинцинната и, не замеченный Родионом, укатился снова назад, за дверь. Цинциннат долго не спал, гадая, что будет завтра – казнь или свидание.
VI
.
По пробуждении «первым выбежало … обливающее горячим сердце: Марфинька нынче придёт!». Но: «Тут на подносе, как в театре, Родион принёс лиловую записку», а в ней: «Миллион извинений!» – в соответствии со статьёй закона, свидание может состояться только завтра, и – «Будьте здоровеньки».10091 Театрализованное, с неумелыми кривляниями представление, даже для издевательских его целей слишком бездарно поставленное, помогает Цинциннату справиться с «другим» своим «я» («поменьше», который мысленно «плакал, свернувшись калачиком») и сохранить самообладание, здравый смысл и достоинство, задавая директору вопросы, на которые тот не в состоянии ответить, поскольку принадлежит к тутошнему, «мнимому миру», в котором «даже самая идея гарантии неизвестна тут»10102 (курсив мой – Э.Г.). И, заметим, на этот раз, на лицемерно сладкую, но на самом деле садистскую игру ухода от ответа Цинциннат реагирует прямым выпадом: «…мне с вами стесняться нечего. По крайней мере, проверю на опыте всю несостоятельность данного мира». Словно в подтверждение этой идеи (которая постепенно вырабатывает кумулятивный эффект отказа героя от этого мира), директор с Родионом вдруг начинают попеременно превращаться друг в друга, и Родион, на своём, нарочито «простецком» языке, предлагает Цинциннату «прогуляться маленько, по колидорам-то».10113
И – о, чудо! – совет тюремщика оказался парадоксально эффективным: нескольких шагов по коридору, даже шагов «слабых, невесомых, смиренных», хватило Цинциннату, чтобы почувствовать такую «струю свободы», что, мобилизовав всю силу воли, он «во весь рост» представил себе свою жизнь и смог «с предельной точностью уяснить своё положение»: обвинённого в «страшнейшем из преступлений, в гносеологической гнусности», и приговорённого к смертной казни, которую он предощущает «как выверт, рывок и хруст чудовищного зуба, причём всё его тело было воспалённой десной, а голова этим зубом»,10124 – то есть как чудовищное варварство, никакими перспективами прекраснодушных фантазий о «загробном» не оправданное.
VII
.
Вместо обещанного свидания с Марфинькой директор с торжественным видом разыгрывает в камере Цинцинната издевательский фарс его знакомства с «соседом», новым «арестантиком», а на самом деле – палачом м-сье Пьером.10131 Всячески заискивая перед гостем, он пытается склонить Цинцинната к «сотрудничеству» с «коллегой» м-сье Пьером. «Недвижно и безмолвно»10142 реагирует Цинциннат на бесовские пляски вокруг него, – только так и может он демонстрировать свой отказ играть в этом спектакле предусмотренную для него роль. Наконец на помощь ему автором посылается «мрачный, длинный библиотекарь с кипой книг под мышкой. Горло у него было обмотано шерстяным шарфом», – учитывая присутствие в этой сцене палача, символика вполне понятная. На предложение поучаствовать в фокусе с картами, библиотекарь отвечает лаконичным «нет» и удаляется. Взбешенный директор кидается за ним и возвращается с шарфом в руке и полусорванным ногтем на большом пальце. Шарф он отдаёт м-сье Пьеру – может быть, ему пригодится.10153
Цинциннат тем временем делал вид, что читает книжку. На грани срыва, не скрывая уже своего раздражения, директор тщетно пытается пристыдить Цинцинната за негостеприимное поведение, между тем как м-сье Пьер явно превосходит своего партнёра в умении до конца разыгрывать роль любезного и довольного соседа, уверенного в безнаказанности низкопробного глума. Наконец, в ярости (и прихватив с собой хрустальную вазу с пионами – символ предполагавшегося идиллическим, но скандально сорванного спектакля) провальный режиссёр-директор покинул камеру несговорчивого узника.
«Цинциннат всё смотрел в книгу. На страницу попала капля. Несколько букв сквозь каплю из петита обратились в цицеро, вспухнув, как под лежачей лупой».10164 «Лупа» не может быть словом, случайным у энтомолога Набокова, – тем более, если ею послужила слеза противостоящего изуверам героя, обладающая, как оказалось, волшебным свойством: превращать буквы, написанные самым мелким шрифтом, – в самый крупный.
Повествование героя в следующей, восьмой главе, внезапностью своей не может не ошарашить: из прежних рассказов о страданиях и муках противостояния им, – оно вдруг взмывает на высоту потрясающей силы вдохновенного откровения, производящего впечатление абсолютной стихийности, не поддающейся никакой систематизации, никаким логическим «рамкам», никакому «конспекту», и вообще – сколько-нибудь адекватному изложению, как нельзя описать «своими словами» сочинённое, на одном запредельном дыхании, произведение гения (за дефекты нижеследующей, поневоле, таковой попытки заранее приносим извинения).
VIII
.
Вся глава написана от первого лица – «я» Цинцинната, – и определяется, по его собственным словам, «ритмом повторных заклинаний», каждый раз, снова и снова, по нарастающей, набирающих «новый разгон».10171 Поток текста идёт без единого абзаца, что ещё более нагнетает ощущение предельного, почти молитвенного напряжения. Постоянный, ключевой рефрен: «Повторяю … повторяю: кое-что знаю, кое-что знаю, кое-что…».10182 Это «кое-что» герой хочет непременно высказать, изложить письменно, – вопрос только в том, хватит ли ему на это времени и сил и будет ли результат достоин замысла, то есть имеющим непреходящую ценность.10193
Начинает Цинциннат, однако, с напоминания себе же того простого факта, что он ещё жив, «то есть собою обло ограничен и затмён», и, в сущности (пытается он нехитрой философской спекуляцией утешить себя), – в этом отношении он ничем не отличается от любого смертного, предела своей жизни не ведающего; разница только в том, что он располагает «очень небольшими цифрами, – но ничего, я жив».10204
После этой психотерапии Цинциннат приступает к осмыслению того «особенного», что случилось с ним этой ночью, – и случается уже не в первый раз: «…я снимаю с себя оболочку за оболочкой, и наконец … я дохожу … до последней, неделимой, твёрдой, сияющей точки, и эта точка говорит: я есмь! – как перстень с перлом в кровавом жиру акулы, – о моё верное, моё вечное … и мне довольно этой точки, – собственно, больше ничего не надо».10215
Здесь можно было бы, разумеется, воспользоваться отсылками специалистов на разного рода источники этих «я есмь!» и «перстня с перлом»; но для читателя, если он не профессиональный филолог, особой нужды в этом нет, – более того, даже и свежее и непосредственнее, объёмней и богаче будет восприятие этого вдохновенного текста, с неимоверной силой пытающегося объяснить – чего ради необходимо Цинциннату это очередное «разоблачение». После ламентаций (таких понятных, вызывающих такое сочувствие, такое нестерпимое сострадание!), что он, Цинциннат, горько сожалеет, что он, быть может, «поторопившийся гость» в этом мире, что, может быть, как «гражданин столетия грядущего» (и в этом есть надежда и упование оптимиста) он удостоился бы более счастливой жизни («счастье» будет ключевым понятием в «Даре»), – но что делать, если «я прожил мучительную жизнь, и это мучение хочу изложить, – но всё боюсь, что не успею».10221
Итак, «разоблачение» до «точки» необходимо Цинциннату, чтобы рассказать о своей мучительной жизни. Не слишком ли, в таком случае, избыточно такой магической силы «упражнение» для простого автобиографического повествования?
Однако непосредственно за этой фразой следует длинный, исполненный подлинной страсти пассаж, предваряющий идеи Набокова, позднее нашедшие отражение во всех трёх вариантах его автобиографии, с чего все три и начинаются: «Колыбель качается над бездной… Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни!».10232 «С тех пор, как помню себя, – пишет Цинциннат, вдохновлённый своим автором, – а помню себя с беззаконной зоркостью... Я исхожу из такого жгучего мрака, таким вьюсь волчком, с такой толкающей силой, пылом, что до сих пор ощущаю (порою во сне, порою погружаясь в очень горячую воду) тот исконный мой трепет, первый ожог, пружину моего я. Как я выскочил, – скользкий, голый! Да, из области, другим заказанной и недоступной, да, я кое-что знаю, да … но даже теперь, когда всё равно кончено, даже теперь… Боюсь ли кого соблазнить?».10243
Цинциннат «кое-что знает»: он с «беззаконной зоркостью» помнит «луч личного», исходящий из «жгучего мрака», предшествующего его рождению, а значит, по закону природной гармонии, может надеяться и на сохранение этого луча, то есть сознания, и по другую сторону жизни, посмертно. Это главное его прозрение, происходящее из его исключительных способностей, – «из области, другим заказанной»; но даже теперь, когда его ждёт неминуемая казнь, он сомневается – нести ли эту весть людям, соблазнять ли ею, и, кроме того, – получится ли у него рассказать об этом, или от неудачной попытки останутся лишь «чёрные трупы удавленных слов». Цинциннату для обдумывания «изложения» нужен «выигрыш времени», и поэтому он так ценит «всякую передышку, отсрочку … время мысли, – отпуск, который я даю своей мысли для дарового путешествия от факта к фантазии – и обратно… Я ещё многое имею в виду, но неумение писать, спешка, волнение, слабость… Я кое-что знаю. Я кое-что знаю. Но оно так трудно выразимо!».10254
Этот лихорадочный, задыхающийся ритм, переполненный недоговоренными, но поддающимися разгадке смыслами, подхватывает читателя, не давая ему передышки: «Нет, не могу … хочется бросить, – а вместе с тем – такое чувство, что, кипя, поднимаешься, как молоко, что сойдёшь с ума от щекотки, если хоть как-нибудь себя не выразишь … никаких, никаких желаний, кроме желания высказаться – всей мировой немоте назло. Как мне страшно. Как мне тошно. Но меня у меня не отнимет никто. Мне страшно, – и вот я теряю какую-то нить, которую только что ощутимо держал. Где она? Выскользнула!»10261 – да, теперь понятно, каким темпом, на каком одном дыхании писались одна за другой страницы романа за летевшие две недели. И понятно – почему: «Дрожу над бумагой, догрызаюсь до графита, горбом стараюсь закрыться от двери, через которую сквозной взгляд колет меня в затылок, – и кажется, вот-вот всё скомкаю, разорву»10272 (курсив мой – Э.Г.).
Как-то неуместен спокойный читательский взгляд (филологический или нет) на произведение, которое писалось под взглядом «сквозным и колющим в затылок», – взглядом фашистской Германии, укрываться от которого автору приходилось лишь собственным «горбом»: «Ошибкой попал я сюда – не именно в темницу, – а вообще в этот страшный, полосатый (читай – «арестантский» – Э.Г.) мир: порядочный образец кустарного искусства, но в сущности – беда, ужас, безумие, ошибка, – и вот обрушил на меня свой деревянный молот исполинский резной медведь».10283 Медведь, между прочим, присутствует и в названии, и в гербе Берлина – очевидный намёк.
Никогда, наверное, так не мечтается об идеальном мире, как в мире реального бедствия, похожего на дурной сон. Особенно, если детство было счастливым – «счастливейшим», – как называл своё детство Набоков. Цинциннату дарована автором способность с раннего детства видеть сны, в которых «мир был облагорожен, одухотворён; люди, которых я наяву так боялся, появлялись там в трепетном преломлении … в моих снах мир оживал, становясь таким пленительно важным, вольным и воздушным, что потом мне уже было тесно дышать прахом нарисованной жизни»10294 (курсив мой – Э.Г.). Похоже, что интуитивно Цинциннат уже начинает провидеть финал романа, когда «нарисованная жизнь» и впрямь обратится в прах, – пока же он как бы на середине пути, переосмысливая сны как «полудействительность, обещание действительности, её преддверие и дуновение», в то время, как «наша хвалёная явь … есть полусон, дурная дремота, куда извне проникают, странно, дико изменяясь, звуки и образы действительного мира, текущего за периферией сознания».10301
Но он ещё не готов поверить в свои вещие сны: «Но как я боюсь проснуться! ... А чего же бояться? Ведь для меня это уже будет лишь тень топора… Всё-таки боюсь! Так просто не отпишешься».10312 Воображение Цинцинната ходит маятником, на предельном диапазоне раскачиваясь между снами и явью, между образами идеального мира и натуралистическими подробностями предстоящей казни, мешая сосредоточиться, и он корит себя: «…хочу я о другом, хочу другое пояснить … но пишу я темно и вяло, как у Пушкина поэтический дуэлянт».10323 Он снова себя одёргивает: «Но всё это – не то, и моё рассуждение о снах и яви – тоже не то… Стой! Вот опять чувствую, что сейчас выскажусь по-настоящему, затравлю слово. Увы, никто не учил меня этой ловитве, и давно забыто древнее врождённое искусство писать... – я-то сам так отчётливо представляю себе всё это, но вы – не я, вот в чём непоправимое несчастье».10334
Кто имеется в виду за этим обращением на «вы», – впервые и единственный раз появляющимся в этой главе? Вслед за сетованиями о неумении писать, «а это-то мне необходимо для несегодняшней и нетутошней моей задачи», становится очевидно, что означенное «вы» относится к насельникам «тутошнего», посюстороннего мира: «Не тут! Тупое “тут”, подпёртое и запертое четою “твёрдо”, тёмная тюрьма, в которую заключён неуёмно воющий ужас, держит меня и теснит». И снова, повторно: «Но какие просветы по ночам, какое… Он есть, мой сонный мир, его не может не быть, ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия».10345
Герой мечется, и всё же он с трудом, но поднимается здесь на ступеньку выше: противопоставление сон/явь – хоть и контраст, но оба его компонента всё ещё могут пониматься как относительно «тутошние», в то время как тут/там – явно уже граница метафизическая. Цинциннат силится вознестись в эмпиреи, приближающие его к отрешению от всего «тутошнего», – туда, где «воющий страх» не будет парализовать его способность достичь совершенства – так, чтобы каждая строка была бы как «живой перелив». Понятие «там» моделируется как воображаемый идеальный мир, где «неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд; там на воле гуляют умученные тут чудаки; там время складывается по желанию, как узорчатый ковёр... Там, там – оригинал тех садов, где мы тут бродили, скрывались; там всё поражает своею чарующей очевидностью, простотой совершенного блага … там сияет то зеркало, от которого иной раз сюда перескочит зайчик».10351
И это тоже ещё не последняя волна, преодолевающая сомнения: «И всё это – не так, не совсем так, – и я путаюсь, топчусь. Завираюсь... Нет, я ещё ничего не сказал или сказал только книжное…», – обратим ещё раз внимание: «только книжное» героя не удовлетворяет, заимствовать какую бы то ни было готовую модель он, подобно своему автору, не желает, – он ищет свою, подлинную, найденную им истину. Это исключительно трудная задача, и, кажется, восьмой раз за четыре страницы почти отчаивается Цинциннат выразить это непостижимое «что-то», – «…и я бросил бы, ежели бы трудился бы для кого-либо сейчас существующего, но так как нет в мире ни одного человека, говорящего на моём языке; или короче: ни одного человека, говорящего; или ещё короче: ни одного человека, то заботиться мне приходится только о себе, о той силе, которая нудит высказаться».10362 Наконец, девятый, последний выплеск жалоб завершается упрямым, окончательным решением: «Мне холодно, я ослаб, мне страшно, затылок мой мигает и жмурится, и снова безумно-пристально смотрит, – но всё-таки – я, как кружка к фонтану, цепью прикован к этому столу, – и не встану, пока не выскажусь». Печатью, поставленной на этом решении, служит заключительная фраза, подводящая итог всем пройденным в этой главе девяти кругам ада стенаний и сомнений: «Повторяю (ритмом повторных заклинаний, набирая новый разгон), повторяю: кое-что знаю, кое-что знаю, кое-что…».10373
Всё, что остаётся Цинциннату после этого необратимого решения, – вспомнить природную на него обречённость: «Ещё ребёнком, – вспоминает он, – ещё живя в «канареечно-жёлтом»,10384 большом, холодном доме ... – я знал, как знаешь себя, я знал то, что знать невозможно, – знал, пожалуй, ещё яснее, чем знаю сейчас».10395 Ещё тогда, в детстве, его уже «замаяла» жизнь: «…постоянный трепет, утайка знания, притворство, болезненное усилие всех нервов…» – и всё это оттого, что «вещи, казавшиеся мне естественными, на самом деле запретны, невозможны, что всякий помысел о них преступен».10406 В самом деле, крайне утомительно всё время делать вид, что ты не такой, как есть на самом деле. И, как ни притворяйся, все остальные дети это чувствуют, – отсюда и «неохота других детей принимать меня в игру» (так же, как десятилетнего Путю в рассказе «Обида»). И его, Цинцинната (как и Пути), «смертельное стеснение, стыд, тоска, которые я сам ощущал, присоединяясь к ним».
И вот, вспоминает Цинциннат, однажды, сидя на низком подоконнике, он смотрел сверху, как на газоне сада его сверстники «в таких же долгих розовых рубашках, в какой был я, взявшись за руки, кружатся около столба с лентами» (столб, опять-таки, полосатый), – так, с помощью примитивно-языческой символики радости диких экстатических плясок вокруг столба с лентами и повелительно-звонкого голоса рыжей «гитьки-учительницы», детей, видимо, «готовили к благополучному небытию взрослых истуканов». Это зрелище повергает Цинцинната «в такой страх и грусть», что он «старался потонуть в себе самом, там притаиться, точно хотел затормозить и выскользнуть из бессмысленной жизни, несущей меня». И здесь читатель просто обязан заметить, не пропустить: две контрастные силы, два разнонаправленных фактора проверяют – чей ты, Цинциннат? – кто и куда сдвинет тебя с подоконника. То ли это вдруг появившийся «старейший из воспитателей … толстый, потный, с мохнатой чёрной грудью» (ассоциирующийся с чернобородым мужиком, когда-то, в детстве, стащившим с чердака дачи десятилетнего Лужина), крикнувший Цинциннату, чтобы он немедленно спустился в сад, – или «скользящее солнце, которое вдруг проливало такой страстный, ищущий чего-то свет, так искромётно повторялось в стекле откинутой рамы».10411
Солнце, солнце – как же иначе – интуитивно притянуло Цинцинната: так написано было ему на роду, «по законам его индивидуальности»: не спустился он, как все, с третьего этажа по лестнице, не послушался начальственного окрика и повелительного взмаха полотенцем. «В печали, в рассеянии, бесчувственно и невинно, – … я, не думая о том, что делаю, но, в сущности, послушно, даже смиренно, прямо с подоконника сошёл на пухлый воздух и … медленно двинулся, естественнейшим образом ступил вперёд … увидел себя самого – мальчика в розовой рубашке, застывшего стоймя среди воздуха».10422
Все мы родом из детства: осознание героем изначального и непоправимого своего от всех отличия окончательно отрезало Цинциннату все пути к отступлению.
IX
.
Свидание с Марфинькой обернулось нашествием всего её семейства, со всем скарбом явившегося к Цинциннату: «Не так, не так воображали мы эту долгожданную встречу…». На фоне чудовищного нагромождения мебели и утвари, рассованных в этом хаосе членов семьи и родственников Марфиньки (все, как на подбор, физические и моральные уроды), пафосный тон банально-пошлых сентенций обвинительной, в адрес Цинцинната, речи её отца – главы семейства – все это производит впечатление запредельной пародийности. Каждому из череды нарочитых уродов предоставляется возможность продемонстрировать себя небольшим, но исключительно выразительным соло. Сцена разработана до мельчайших деталей, каждому актеру остаётся только в точности повторить расписанный порядок действий. Эту картину ошеломляющей макабрической театральности довершает внезапный приступ вдохновения одного из братьев Марфиньки, поднимающего фарс до уровня жанра «высокого», якобы оперного – он затягивает арию на итальянский манер: «Mali `e trano t’amesti…», для убедительности повторив её ещё раз и в полный голос, несмотря на предупреждающую реакцию брата близнеца, сделавшего «страшные глаза».10431
По мнению Г. Барабтарло, «если тщательно расследовать эту фразу, притворяющуюся итальянской, то окажется, что из её латинских букв составляется русская разгадка (сама по себе таинственная): “Смерть мила; это тайна”. Цинциннат дорого бы дал за эту тайну».10442 Причём, как отмечает Долинин, это тот случай, когда: «Помимо своей воли персонажи иногда выходят из роли и вдруг начинают говорить не на своём языке, передавая Цинциннату секретные послания невидимого Творца».10453
Попытки Цинцинната преодолеть нарочно чинимые ему препятствия и добраться до Марфиньки, чтобы сказать ей хоть два слова, как и следовало ожидать, ни к чему не привели – «при ней неотступно находился очень корректный молодой человек с безукоризненным профилем», и её унесли на кушетке, едва Цинциннат к ней приблизился. Очередь прощающихся и весь реквизит с удивительным проворством со сцены удалили. И только Эммочка, «бледная, заплаканная, с розовым носом и трепещущим мокрым ртом, – она молчала, но вдруг … обвив горячие руки вокруг его шеи, – неразборчиво зашептала что-то и громко всхлипнула». Влекомая Родионом к выходу, она «с видом балетной пленницы, но с тенью настоящего отчаяния»,10464 – запустила в душу Цинцинната, только что пережившего очередное, жесточайшее разочарование, крючок следующей наживки.
X
.
В этой главе разыгрывается своего рода дивертисмент, в котором м-сье Пьер пытается приручить «волчонка», как он называет Цинцинната, по модели, очень напоминающей некоторые чекистские методы перевоспитания, «перековки» заключённых в Советском Союзе. Играя порученную ему роль тюремной «подсадной утки», он силится расположить Цинцинната к «задушевным шушуканиям» и уверяет его («я никогда не лгу»), что попал сюда по обвинению в попытке помочь Цинциннату бежать; и вот теперь, когда «недоверчивый друг» в курсе дела, «не знаю, как вам, но мне хочется плакать» (намёк на слезливость Горького, умилявшегося результатам перевоспитания «врагов народа»).10471 М-сье Пьер корит Цинцинната, что тот несправедлив «ни к доброму нашему Родиону, ни тем более господину директору… И вообще, вы людей обижаете…». На ответ Цинцинната: «…но я в куклах знаю толк. Не уступлю», м-сье Пьер встаёт в позу несправедливо обиженного, но снисходительно прощающего «по молодости лет» ошибающегося узника, не забывая, однако, упрекнуть его за «вульгарное, недостойное порядочного человека» поведение.10482
Эта наизнанку вывернутая логика домогательств, которой с садистским наслаждением прощупывает свою жертву палач, преследует на сей раз цель не только, а может быть, даже не столько убеждения, сколько деморализации воспитуемого, – ведь Цинциннат, по предшествующему опыту, уже известен как ученик практически безнадёжный. И Цинциннат, со своей стороны, уже поднаторевший в таких играх, обращается с м-сье Пьером лишь как с «куклой», – изнурённый, в тоске и печали, он всё же надеется вытрясти из словоговорения заботливого «соседа» какие-то, может быть, нужные ему проговорки: «Вы говорите о бегстве… Я думаю, я догадываюсь, что ещё кто-то об этом печётся… Какие-то намёки… Но что, если это обман, складка материи, кажущаяся человеческим лицом…» – Цинциннат имеет в виду Эммочку, так похоже разыгравшую отчаяние при прощании с ним в предыдущей главе. И палач легко поддаётся на удочку, собственные заигрывания вмиг отбросив: «Это в детских сказках бегут из темницы».10493
На удивлённый вопрос м-сье Пьера, – какие же это надежды и кто этот спаситель, – Цинциннат отвечает: «воображение»,10504 что не мешает ему, в порядке ответной издёвки, предложить «соседу» бежать вместе – вот только сможет ли тот, при его телосложении, быстро бегать. Поддавшись провокации, м-сье Пьер кидается доказывать свою силу и ловкость цирковыми трюками: демонстрирует мышцы, поднимает одной рукой перевёрнутый стул, и, наконец, стоя на руках, поднимает вверх схваченный зубами за спинку стул, на каковом они и остаются – мёртвой хваткой вставной челюсти на шарнирах (уходить со сцены м-сье Пьеру приходится в обнимку со стулом). Директор (на сей раз цирка), всё тот же Родриг Иванович, ничего не замечает и бешено аплодирует, но покинуть ложу ему приходится разочарованным, поскольку сцена опустела. На Цинцинната при этом почему-то был брошен подозрительный взгляд.
XI
.
Русское понятие «пошлость» Набоков считал на другие языки переводимым только описательно: «Пошлятина – это не только откровенно дрянное, но, главным образом, псевдозначительное, псевдокрасивое, псевдоумное, псевдопривлекательное».10511 И полагал необходимым добавить: «Припечатывая что-то словом “пошлость”, мы не просто выносим эстетическое суждение, но и творим нравственный суд».10522
В предыдущей главе молчаливый нравственный суд Цинцинната – отказ от соучастия в навязываемой ему пошлости – был настолько очевиден, что, не заметив потери челюсти циркачом м-сье Пьером, самозванный директор цирка Родриг Иванович не преминул, однако, заметить отрешённость его единственного зрителя. И на этот раз Цинциннат был понят адекватно и соответственно наказан: цирка больше не будет. Коль скоро осуждённый предпочитает какое-то там своё «воображение» и упрямо остаётся «букой», не ценя самоотверженных стараний «соседа» его развеселить, то так тому и быть – пусть сидит в пустой камере, при одном своём «воображении».








