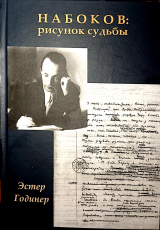
Текст книги "Набоков: рисунок судьбы"
Автор книги: Эстер Годинер
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 45 страниц)
Другое дело, какой, в кавычках, «этикой и эстетикой» обернулось это для чаемого им «блага народа», – совсем не той, в какую он верил в 1849 году, когда был уверен, что вопросы нравственности можно отложить на потом: «После, когда физические нужды не будут беспокоить его [народ] … начнётся для него жизнь как бы в раю».16384 Очевидно, что в подобных мечтах рекомендуемые для бунта насильственные «чрезвычайные меры» пролонгировать в случае его успеха не предполагалось, однако, вопреки ожиданиям некоторых искренних последователей Чернышевского, они нашли продолжение в учреждённой Лениным Чрезвычайной комиссии расстрельного назначения, а затем – и в сталинских концлагерях для «врагов народа». Так, заодно с «классовым врагом», потомственным дворянином В.В. Набоковым, в эмиграции пришлось спасаться и многим бывшим последователям своего кумира, сохранившим, тем не менее, к нему пиетет, так сказать, по благородству намерений и мукам его, – не поняв, не желая признать роковой связи между истовой, бескомпромиссной приверженностью воображаемой идеальной цели и варварскими методами её достижения, совокупно обрушившими Россию в небывалое дотоле всеобщее рабство.
В нападках автора на «непрочные силлогизмы» Чернышевского, вникать в которые даже узким специалистам-философам было бы сейчас вряд ли актуально, читателю важно, однако, отметить вывод, что «государственный строй, который должен был явиться синтезом в силлогизме, где тезисом была община, не столько походил на советскую Россию, сколько на страну утопистов. Мир Фурье, гармония двенадцати страстей, блаженство общежития, работники в розовых венках, – всё это не могло не прийтись по вкусу Чернышевскому, искавшему всегда “связности”. Помечтаем о фаланге, живущей в дворце: 1800 душ – и все счастливы».16391 Здесь, за жонглированием цитатами из разных источников и хлёсткими, походя, обвинениями Чернышевского в невежестве и недоумии, Набоков, увлечённый собственным изобретательным остроумием, не замечает, вернее, не придаёт должного значения также собственному и очень важному выводу, что созданный воображением Чернышевского «государственный строй» похож не столько на советскую Россию, сколько на «страну утопистов». Для того, чтобы идеи мессиански настроенного Чернышевского оказались, независимо от его благих намерений, вероятностно прогнозирующими тоталитарный режим, их реализацию следовало заявить возможной только при условии применения насильственных «чрезвычайных мер», то есть бунта, революции.
Как известно, дорога в ад бывает вымощена благими намерениями. Каким же образом детская «ангельская ясность» «херувимчика» с «кроткими пытливыми глазами», единственного сына «добрейшего протоиерея», любимого также и трогательно заботливой матерью, робкого и примерного семинариста-отличника, в первой же прописи тщательно выводившего «Государю твоему повинуйся, чти его и будь послушным законам», – как такие задатки, гармонично воспитанные ещё и на идеалах христианской морали, отвечавшей его рано обнаруженной потребности в жертвенном служении, могли претвориться в косноязычную, но решительную пропаганду революции: «…весьма ясно, что [надо] силою, что требовать добром нельзя дождаться» (из записи в дневнике от 20 февраля 1850 года).16402
Когда Сирин решил заняться биографией Чернышевского, он, похоже, не знал, что в западной социологии уже более десяти лет ведётся разработка проблемы и понятия маргинальности как явления, присущего группам и индивидам, занимающим «пограничное», промежуточное положение в социальной и культурной структуре общества и претендующим на более достойное место в различных сферах его жизни. Этот болезненный процесс сопровождается распадом традиционных систем ценностей, когда старые привычки девальвируются, а новые ещё только формируются. Отсюда – выраженные симптомы моральной раздвоенности, скептического отношения к существующим правовым, этическим и эстетическим нормам, разного рода психических отклонений, склонности к насилию и т.п. Если эти явления происходят на фоне нарастания конфликта между плохо совместимыми культурами, одна из которых является господствующей, неудовлетворённые социальные ожидания маргинальных групп могут привести к движениям протеста и появлению лидера, который возглавит борьбу за те или иные, вплоть до самых радикальных, социальные и политические изменения.
История не знает сослагательного наклонения, но Набоков, возможно, был прав, предполагая, что останься Чернышевский в родном Саратове, унаследовав от отца, как было принято, его приход, он «достиг бы, поди, высокого сана»16411 и был бы добрым пастырем своим прихожанам, удовлетворяя свойственную ему потребность в служении Богу и людям вполне традиционным образом. Так или иначе, но именно несправедливость, постигшая добросердечного и старательного протоиерея Гавриила, послужила причиной того, что «Николе было решено дать образование гражданское», и это не могло не сопровождаться травмой, бросавшей тень незаслуженной отцом обиды на новую для любящего сына стезю – светской жизни в холодном, чуждом, столичном Петербурге.
Описание наблюдательным автором примет деформации личности ещё очень юного, инфантильного и эмоционально крайне уязвимого Николая Гавриловича в новых, непривычных для него условиях, предельно красноречиво и служит прекрасным материалом для понимания зарождения и развития его маргинальных черт: «…вот, уже студентом, – сообщается читателю, – Николай Гаврилович украдкой списывает: “Человек есть то, что ест”»,16422 – украдкой, так как даже предположительная возможность какого бы то ни было приятия этой вопиюще примитивной максимы Фейербаха кощунственна по отношению к самому духу полученного семинаристом воспитания, и став студентом, он пока только тайно пробует приобщиться к ней. «“Будь вторым Спасителем”, – советует ему лучший друг, – и как он вспыхивает, робкий! слабый!»,16433 – точно и кратко, отбирая самое необходимое из дневниковых записей Чернышевского конца 1848 и мая 1849 года, биограф даёт исключительно ёмкую и одновременно парадоксальную характеристику личности, сочетающей низкую самооценку с непомерными, на грани мегаломании, претензиями.
Начав сомневаться в привычной чуть ли не с детства системе ценностей, Чернышевский обнаруживает склонность к кардинальному её пересмотру: «Но “Святой Дух” надобно заменить “Здравым смыслом”. Ведь бедность порождает порок… Христос второй прежде всего покончит с нуждой вещественной», а проповедовать нравственность – это уж потом.16441 В логике этого рассуждения – поразительный своей ментальной акробатикой эффект двойного (и чреватого смертельным, для целей руководящей идеи, исходом) сальто в сознании недавнего семинариста; с одной стороны, он выворачивает наизнанку своё восприятие действительности – с религиозного, идеалистического на примитивное, вульгарно материалистическое, а с другой – умудряется, игнорируя всем известный опыт истории человечества, полный войн и разного рода раздоров и преступлений, приписать природе человека некое исходное, то есть очевидно идеалистическое, доброе начало. «И странно сказать, но … что-то сбылось, – да, что-то как будто сбылось. Биографы размечают евангельскими вехами его тернистый путь».16452 Невольно признавая, что судьба Чернышевского отмечена печатью евангельского мессианства, биограф, однако, явно задаётся целью дезавуировать, обесценить жизнетворческие усилия своего антигероя представить себя подобием «второго Христа», изображая их как нелепые и зряшные потуги, как циклическое повторение неких, вхолостую работающих «тем», как бессмысленные их вращение по замкнутому, порочному кругу. Тем не менее, вопреки заявленной автором концепции, само содержание и логика повествования биографии Чернышевского противоречат этому. Мы имеем дело не с набором случайных «тем», а с одной, главной темой – служения общему благу, – которую нельзя рассматривать иначе как подлинное призвание Чернышевского, столь же подлинное, как бы к нему ни относиться, сколь подлинным призванием Набокова была литература. Да, «что-то сбылось»! Сбылись жизнь и судьба, посвящённые одной сверхценной идее (она же – тема, и она же – цель). Всё остальное было ей подчинено, в неё включено, более или менее структурно-иерархически в ней как-то располагаясь, нацеливаясь на стратегию и тактику и нащупывая конкретные методы и средства её реализации.
То, что Чернышевский поступил именно на филологический факультет, было скорее случайностью, и все другие дисциплины – философия, история, этика, эстетика и прочее – существовали для него постольку, поскольку могли служить «утилитарным» пособием для достижения поставленной цели. В общей постановке вопроса – идее служения человечеству – никоим образом не упускались из виду средний, групповой и нижний, индивидуальный уровни приложения сил. Будучи поклонником и последователем Лессинга и усматривая в себе сходство с ним, он писал: «Для таких натур существует служение более милое, нежели служение любимой науке, – это служение своему народу».16461
Пристрастие Чернышевского к энциклопедиям и разного рода справочным изданиям, склонность к преподаванию, наставничеству, организации кружковой деятельности также связаны с этой функцией. Наконец, на индивидуальном уровне, – готовности его помочь всем и каждому, – и в этом он видел непременный элемент своей миссии. Родителям писал, что денег присылать не надо, денег хватает, а сам жил на гроши, помогая ещё и Лободовскому; те же просьбы повторялись в письмах жене и взрослым сыновьям с каторги; и там сохранял он привычку всем напрашиваться со своей помощью, хоть и смеялись над его неловкостью. В молодости, уличив себя в греховной, по христианским понятиям, влюблённости в жену Лободовского, он придумал себе оправдательную версию – вообразил, что если вдруг случится ранняя, например, от внезапной чахотки, смерть её мужа (а его друга), то он, женившись на осиротевшей женщине, спасёт её от незавидной вдовьей доли. Даже с нелепым конструированием перпетуум-мобиле он возился, чтобы помочь человечеству в его материальных нуждах, а трёхдольник в стихосложении предпочитал по причине его большей, якобы, «демократичности», доступности разночинной публике.
Довольно скоро обнаружилось, однако, что идея служения общему благу, освобождающая страждущих «хлеба насущного» от предварительных моральных поучений самоотверженного пастыря, странным образом начинает освобождать и его самого от строгой приверженности ранее неукоснительным для сына протоиерея моральным и правовым нормам. Первым соблазном было, в 1850 году, – разослать фальшивый манифест от имени святейшего синода (об отмене рекрутства, сокращении налогов и т.п.), «чтобы обманом раззадорить мужиков», – но, на этот раз, «сам тут же окстился», ещё помня, ещё считаясь с тем, что, как справедливо напоминает биограф, «благая цель, оправдывая дурные средства, только выдаёт роковое с ними родство».16472 Причём обман, как средство негодное, на первый раз отринув, насилие он таковым не посчитал и, судя по дневнику, как уточняет Долинин, не колебался «вызвать “ужаснейшее волнение” и дать “широкую опору всем восстаниям”. В конце концов этот план был Чернышевским отвергнут, напомнившим себе, что “ложь <…> приносит всегда вред в окончательном результате”».16483 Что не отменяло того обстоятельства, что, с 1848 года жадно поглощая зарубежную газетную информацию о революции во Франции, он внутренне уже был готов, – и в самом радикальном виде – перенести этот опыт на русскую почву и «втайне чувствовал себя способным на поступки “самые отчаянные, самые безумные”. Помаленьку занимался и пропагандой, беседуя то с мужиками, то с невским перевозчиком, то с бойким кондитером».16491
«Вливать», как он выражался, в народ «революционные понятия» было для Чернышевского столь важно, что он даже подумывал отказаться от брака и предвидел, что рано или поздно он «непременно попадётся», будучи готовым принять участие в скором, как ему казалось, бунте «(меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьём, ни резня)».16502 Точкой невозврата стало его определение своего места в диапазоне политических теорий и практик, обсуждаемых в трудах европейских философов и историков и в текущей, актуальной прессе. Полагая свободу слова и конституцию всего лишь бесполезными «отвлечёнными правами», придуманными лицемерными западными либералами, далёкими от подлинной заботы о «благе народа», Чернышевский до конца жизни не изменил своего мнения, что только революция может быть средством его достижения. Этот воинствующий приоритет никак не мог обещать холостого, впустую, циклического вращения и возвращения цепочки плавающих на поверхности, не имеющих релевантного аналитического значения, случайно-остроумных набоковских «тем». Всё было обусловлено одной, но подлинной темой-целью – во чтобы то ни стало, любыми средствами, истово – прорываться к достижению «блага народа», и она мощно, как в узкий тоннель, втягивала российскую историю в злую, целенаправленную спираль, до полного её раскручивания, с помощью рекомендованных «великим революционером» «чрезвычайных мер» выстрелившей, в конце концов, и в самом деле – революцией.
Если набоковское «упражнение в стрельбе» попробовать изобразить графически, то, целясь в «эстетику» Чернышевского, стрелок заведомо не мог попасть «в яблочко» этого, заряженного революцией, тира, поскольку там, в центре его, находилось «общее благо»; и только самый далёкий, внешний концентрический круг – круг «эстетики» – мог насмешливо отозваться на эту пальбу эхом базаровского: «Аркадий, не говори красиво!».
Барьер взаимонепонимания, взаимной слепоты – остался здесь непреодолимым. Чернышевский мечется: то он, «отстаивая общинное землевладение с точки зрения большей лёгкости устройства на Руси ассоциаций … готов был согласиться на освобождение крестьян без земли»,16513 то, напротив, возмущается: «Величина выкупной суммы! Малость надельной земли».16524 И как же реагирует на обсуждение этих важнейших, критических тогда вопросов русской жизни писатель Сирин, по России безысходно ностальгирующий? «Искры брызнули из-под нашего пера на этой строке. Освобождение крестьян! Эпоха великих реформ! В порыве яркого предчувствия…» – издевается он над неумеренными восторгами двадцатилетнего, 1848 года, Чернышевского, щеголяющего, в своём дневнике, цитатой из крылатой латиницы: «Рождается новый порядок веков».16531
Но не таков биограф, описывающий атмосферу тех лет, – он указывает лишь на пошлые уличные приметы: «Дозволено курить на улицах. Можно не брить бороды. При всяком музыкальном случае жарят увертюру из “Вильгельма Теля”» – и так далее, в том же отрезвляюще-пародийном духе.16542 Такое впечатление, что нас упоённо развлекает залихватский stand-up’ист. И в самом деле, если кому-нибудь непонятен смысл происходившего в роковые 1840-е – 1850-е, то вот он, напрямую писателем Сириным объяснённый: «Под этот шумок Россия деятельно готовит материал для немудрёной, но сочной салтыковской сатиры» – только и всего.16553 То есть в реформах, выстраданных Александром II и его окружением (в которое входил, среди прочих, и дед Набокова, Дмитрий Николаевич Набоков, с 1878 но 1885 год бывший министром юстиции), чуткий слух внука своего деда, без преувеличения положившего на эти реформы «животы своя», улавливает лишь какой-то «шумок», пригодный разве что для алхимической перегонки его в грубые поделки злободневной сатиры. Такое же, в высшей степени специфическое для тех лет явление, как нигилизм, Набокову представляется не более, нежели странной «новой ересью», и он с бездумной лёгкостью удовлетворяется его поверхностно-оценочным определением в словаре Даля, не утруждая себя попыткой понять глубокие, но и очевидные, прямо-таки выходящие на поверхность социального разлома причины этого ментального феномена.
Всё это совсем не забавно и не оправдывает безудержно ёрнического тона, каким ведётся повествование, учитывая, что речь идёт не о какой-то симуляции или моде на «либерализм», а о сознательных и подлинных попытках проведения реформ, благотворных и необходимых русскому обществу, оказавшемуся, однако, прискорбно к ним не готовым, – ни в «верхах», ни в «низах», – не созревшим достаточно для цивилизованного общественного договора на основе разумного компромисса. Такие обнаружились нагромождения социальных и ментальных препятствий и противоречий, что под их грузом суждено было погибнуть всем, кто обретался тогда в Российской империи: властям предержащим, либеральной культурной элите, разнородной разночинной интеллигенции, просто рядовым мещанам и, наконец, крестьянству – несчастному, малограмотному, ещё далеко не осознавшему и не освоившему новоявленную свою свободу. Знамя же Чернышевского уцелело в этих исторических перипетиях именно потому, что соответствовало незрелости разночинного сознания относительно целей, методов и средств построения желательного человеческого общежития, чем и воспользовались впоследствии новые хозяева жизни.
Сам же Чернышевский реформами был разочарован, потому что хотел всего и сразу, как и его нетерпеливые последователи-народовольцы, бомбами призывавшие светлое будущее. «Окончательное разочарование [Чернышевского], – констатирует автор – наступает во второй половине 58 года».16561 Его взгляды, выражаемые в экономических и политических статьях, становятся ещё более радикальными: «Тон “Современника” становится резким, откровенным; словцо “гнусно,” “гнусность” начинает приятно оживлять страницы этого скучноватого журнала».16572 Судя по описанию рабочей рутины Чернышевского в «Современнике», биограф явно старался впечатлить читателя её пародийно удручающим характером. Французская исследовательница творчества Набокова Н. Букс обратила внимание на применяемый им, с этой целью, литературный приём, который она называет присвоением «чужого» слова. Например, в тексте сообщается: «Способность работать была у него [Чернышевского] чудовищная, как, впрочем, у большинства русских критиков прошлого века. Секретарю Студентскому, бывшему саратовскому семинаристу, он диктовал перевод истории Шлоссера, а в промежутки, пока тот записывал фразу, писал сам статью для “Современника” или читал что-нибудь, делая на полях пометки».16583 «Текст, – отмечает Букс, – воспринимается как пародийное изображение деятельности Чернышевского Годуновым-Чердынцевым, а на самом деле является цитатой из воспоминаний А. Панаевой, написанных с пиететом и полной серьёзностью».16594 Такой эффект – изменения интонации с уважительной и серьёзной на карикатурную – получается, по-видимому, из-за контекста, из-за общего задаваемого тона, настроенного на камертон пародии, соскальзывающей порой в откровенный пасквиль.
«Есть, есть классовый душок в отношении к Чернышевскому русских писателей, современных ему. Тургенев, Григорович, Толстой называли его “клоповоняющим господином”, всячески между собой над ним измываясь», – признаёт Набоков.16605 «Набоков, – поясняет Долинин, – соглашается здесь с марксистом Стекловым, писавшим о конфликте Чернышевского с писателями либерального направления: “…за личными неудовольствиями, конфликтами самолюбий и эстетических воззрений скрывалось глубокое социальное различие, столкновение двух классов. <…> Это был конфликт по существу политический, в основе которого лежали классовые противоречия”».16611 «Аристократы становились грубыми хамами, – замечает по этому поводу Стеклов, – когда заговаривали с нисшими или о нисших по общественному положению». «Нисший, впрочем, не оставался в долгу», – «усечённая цитата с изменённым написанием слова “низший”», поясняет нам Долинин.16622 Различие литературных вкусов двух противоборствующих групп оказалось непреодолимым для наведения каких бы то ни было мостов, и после прихода в «Современник» Н.А. Добролюбова, написавшего отрицательную рецензию на повесть Тургенева «Накануне», разрыв оказался неизбежным.
Воздействие харизмы Чернышевского, которую он осознавал и которой он чем дальше, тем больше демонстративно бравировал и манипулировал, – в силу противоречивой репутации её носителя и особенностей его характера, в создавшейся острой коллизии оборачивалось подчас против него, провоцируя ещё большее обострение конфликта и даже приобретая мистические обертона. «Недоброжелатели мистического толка, – отмечает биограф, – говорили о “прелести” Чернышевского, о его физическом сходстве с бесом (напр., проф. Костомаров)».16633 Земляк Чернышевского, историк Н.Н. Костомаров, в молодости водивший с ним знакомство, впоследствии вспоминал, что «Чернышевский как бы играл из себя настоящего беса. Так, например, обративши к своему учению какого-нибудь юношу, он потом за глаза смеялся над ним и с весёлостью указывал на лёгкость своей победы. А таких жертв у него было несть числа».16644
Некрасов, который и привлёк Чернышевского в свой журнал, в письме Тургеневу от 27 июля 1857 года (т.е. ещё за три года до полного разрыва Тургенева с «Современником») отмечал «что-то вроде если не ненависти, то презрения питает он [Чернышевский] к лёгкой литературе и успел в течение года наложить на журнал печать однообразия и односторонности».16655 Показательно, что «легкой» Некрасов называет, видимо, литературу, не отягощённую актуальными социальными проблемами, имея в виду её отличие от «разночинной», именно ими прежде всего и озабоченной. «Дельному малому» (как Некрасов называл Чернышевского) прощалось, что он «набивал» журнал «бездарными повестями о взятках и доносами на квартальных»: «…благодаря ему в 58 году журнал имел 4700 подписчиков, а через три года – 7000».16666 Таким образом, не на пустом месте чинился произвол «подслеповатого» Чернышевского в «Современнике» – он хорошо прозревал социальный заказ тех, кого «парнасские помещики» считали презренной чернью: брожение в социальном котле одолевало «лёгкую» литературу. Годунов-Чердынцев безусловно прав, что и в поэзии вкусы Чернышевского «удовлетворяли его незамысловатой эстетике»: «Как поэта он ставил Некрасова выше всех (и Пушкина, и Лермонтова, и Кольцова). У Ленина “Травиата” исторгала рыдания; так и Чернышевский признавался, что поэзия сердца всё же милее ему поэзия мысли, и обливался слезами над иными стихами Некрасова».16671
Отметив сентиментальность Ленина как проявление той же «незамысловатой эстетики», которая была присуща Чернышевскому, Набоков имеет в виду преемственность доминантной составляющей русской литературы на разломе исторических эпох: проблемы социума, то есть не формы, а содержания. Потому и «Россия за двадцать лет его изгнания не произвела (до Чехова) ни одного настоящего писателя, начала которого он не видел воочию в деятельный период жизни».16682 И дело здесь, разумеется, не в «странной деликатности исторической судьбы», которая вдруг почему-то решила приспособиться к «окаменевшим» в Сибири вкусам Чернышевского (как это кажется Набокову), – а в том, что и долгосрочное устранение злокозненного «властителя дум» от участия в литературном процессе (и это оказалось своего рода тестом) не помешало таковому процессу продолжать ту же самую, социально ангажированную линию, которой Чернышевский был самым агрессивным, но отнюдь не единственным представителем.
Такова была тенденция, и она органично сопрягалась хоть и с временной – если верить, что настоящее искусство вечно, – но кардинальной переоценкой литературного наследия, причём не только русского, но и мирового. Возглас биографа: «бедный Гоголь!» – тут не поможет. Гоголь вернётся в заслуженную им нишу в компендиуме русской литературы, однако на это потребуется время – придётся подождать до тех пор, пока остро злободневная и потому социально востребованная посредственность отработает своё и, уступив место подлинным вершинам, благополучно отойдёт в самые дальние и мало посещаемые архивы литературной памяти.
Подходя к «самому уязвимому месту» Чернышевского – его отношению к Пушкину, биограф предъявляет читателю сентенцию, которую следует привести полностью: «…ибо так уже повелось, что мерой для степени чутья, ума и даровитости русского критика служит его отношение к Пушкину. Так будет, покуда литературная критика не отложит вовсе свои социологические, религиозные, философские и прочие пособия, лишь помогающие бездарности уважать самоё себя».16693 Эта формула, категорически заявленная как абсолютная, универсальная и ультимативная, тем не менее, представляет собой не руководство к действию – каковым она по определению быть не может, – но свидетельство особого, трепетного, крайне чувствительного отношения Набокова ко всему, что связано с Пушкиным и что, по-видимому, провоцирует в данном случае демонстративное проявление известной за Набоковым склонности к так называемой «тирании автора», навязывающей читателю, критику, издателю, кому угодно – своё видение, своё понимание, свою волю, своё, как неоднократно уже отмечалось, стремление к контролю, несопоставимое, разумеется, с контролем «антропоморфного божества» над созданными им персонажами, но действующее в том же направлении.
Что не мешало самому Годунову/Сирину собственными посягательствами нарушать рекомендованные другим инструкции – чего стоят, например, его критические заметки в эскизах ко второй части «Дара», где он выражает своё несогласие с философским пониманием смысла жизни, определяемым в известном стихотворении Пушкина «Дар напрасный, дар случайный…» – и при помощи некоторых спекулятивных предположений навязывает ему прямо противоположный: «Не напрасный, не случайный…».
Нечего и говорить, какую разнообразную и изощрённую философскую, да и религиозную и социологическую подкладку использовал Набоков в собственном литературном творчестве и в критическом анализе любых произведений, попадавших в поле зрения его литературного микроскопа. Призывая, во имя восстановления приоритета Пушкина, «ради Бога, бросьте посторонние разговоры»,16701 радетель его неугасимой славы не замечает, что он бьёт мимо цели, так как дело не в том, чтобы избегать этих «разговоров», а в том, каково их содержание, их критерии и оценки. Иначе, простым наложением на них табу, вводится та самая приказная цензура, коей биограф был всегдашним и яростным противником.
Абсурдно, но, объявляя Пушкина неприкосновенным для какого бы то ни было анализа с философских, социологических или любых других позиций, кроме собственно филологии, и – одновременно – безапелляционно обличая оценку наследия Пушкина критиками «радикального» направления, Набоков перекрывал себе путь к пониманию мотиваций и аргументов этих самых оценок, а значит – их доказательному объяснению и опровержению. В списке приведённых им в тексте почти все эти оценки выглядят (и являются!) безусловно и эпатажно вульгарными: «вздор и роскошь», «пустяки и побрякушки», «слабый подражатель лорда Байрона», и т.п. Лишь одно, в скобках, мнение самого Чернышевского приводится единичным исключением: «(“изобрёл русскую поэзию и приучил общество её читать”)».16712
Ссылки на конкретных лиц, откровенных хулителей Пушкина, обнаруживают две, ясно выраженные социальные категории: это либо фигуры, причастные к охранительной, ретроградной части корпорации власть имущих, либо, напротив, это активно диссидентствующие оппозиционеры из разночинцев. Причём, если первая категория демонстрирует не только слепое и абсолютное отрицание ценности поэтического наследия Пушкина, но и личную к нему ненависть как к явлению чуждому, органически отторгаемому, то для второй категории, – если не концентрироваться на выплесках вербальной агрессии, – в анамнезе просматривается признание заслуг Пушкина, но с той оговоркой, что его время ушло, что он более не актуален.
Так, Белинский, к оценкам которого восходят и суждения Чернышевского о Пушкине, писал, что «поэзия Пушкина вся заключается … в поэтическом созерцании мира… Вся насквозь проникнутая гуманностию, муза Пушкина умеет глубоко страдать от диссонансов и противоречий жизни…», но она не несёт «в душе своей идеала лучшей действительности и веры в возможность его осуществления». Пушкин, отмечает Белинский, отличался «глубиною и возвышенностью своей поэзии», но он «принадлежит к той школе искусства, которой пора уже миновала совершенно в Европе, и которая даже у нас не может произвести ни одного великого поэта. Дух анализа, неукротимое стремление исследования, страстное, полное вражды и любви мышление сделались теперь жизнию всякой истинной поэзии. Вот в чём время опередило поэзию Пушкина и большую часть его произведений лишило того животрепещущего интереса, который возможен только как удовлетворительный ответ на тревожные, болезненные вопросы настоящего».16721
К этим сетованиям и претензиям не прислушиваясь, смягчающих обстоятельств для обвинительного приговора в них не усматривая, Набоков выносит свой вердикт в адрес Чернышевского по целому ряду пунктов: во-первых, это «здравый смысл», к которому постоянно апеллирует обвиняемый, но который для его судьи является ничем иным, нежели («философски» – sic!) вульгарным «общим местом», плоским обобщением, пошлостью, признаком обывательского сознания, с подлинно творческим восприятием действительности несовместимого. Далее по списку: непростительное отсутствие Пушкина в реестре книг, востребованных арестантом в крепости; примитивные суждения о поэзии; обвинения в адрес великого поэта в обретении, с возрастом, возмутительной «бесстрастности» (как и самого Сирина обвиняли в том же некоторые его собратья по перу), – эти и многие другие попрёки претерпевает скандально знаменитый разночинец от презирающего его аристократа, признающего, что его «далеко завели раскат и обращение пушкинской идеи в жизни Чернышевского»,16731 но так и не пожелавшего понять не только личностные, но и социально обусловленные причины особенностей мышления и деятельности своего антигероя, взращенного и воспитанного отнюдь не в личном раю фамильных имений Набоковых, – не в том месте и не в то время.
Следующий в очереди на вивисекцию – Н.А. Добролюбов: «…разящий честностью, нескладный, с маленькими близорукими глазами и жидковатыми бакенбардами» на манер «голландской бородки», «(которая Флоберу казалась столь симптоматичной)».16742 Этот портрет, представленный читателю автором, восходит, как установлено А.В. Вдовиным, к «Русским критикам» Волынского, который отмечает в облике Добролюбова ещё ряд характерных черт, в тексте четвёртой главы опущенных: «Его сутуловатая, неуклюжая, семинарская фигура, нежная, но болезненная наружность … его скромность и застенчивость, его близорукие глаза, глядящие с бессильной пытливостью сквозь очки».16753 В этом описании нельзя не заметить сходства с портретом Чернышевского, оставленного современниками, некий как бы даже двойник-вариант его – исключая разве что манеру Добролюбова подавать руку «выездом» и без «симптоматичных», как выражается Набоков, по Флоберу, бакенбард. «Есть такие вещи, – полагал Флобер, – которые позволяют мне с первого взгляда осудить человека».16764 Из перечисленных им пяти таких «вещей», – в том числе, и пресловутых бакенбард в форме «голландской бородки», – по контексту ясно, что имеются в виду признаки, по которым Флобер определял людей примитивных, упрощённых взглядов и вкусов, то есть, по аналогии с пониманием Набокова (Флобера считавшего во всех отношениях эталоном безукоризненного вкуса), вкусов «пошлых», «буржуазных», присущих выскочкам, «парвеню» (фр. – parvenu).








