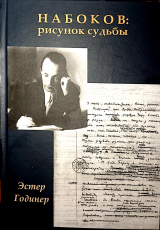
Текст книги "Набоков: рисунок судьбы"
Автор книги: Эстер Годинер
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 45 страниц)
Режим содержания Цинцинната резко меняется, обнаруживая свою, без прикрас, сущность: «брандахлыст с флотилией чаинок» на завтрак, гренок не раскусить. От газет Цинциннат отказался сам, убедившись, что «всё, могущее касаться экзекуции», из них вырезается. Родион, уже даже и не скрывающий, как надоел ему «молчаливо-привередливый» узник, тем не менее намеренно задерживается в камере, чтобы усугубить своим присутствием то «гнетущее, нудное впечатление», которое он производит на Цинцинната. Спинка возвращённого в камеру стула мечена теперь глубокими следами «бульдожьих зубов» м-сье Пьера, а Цинциннату от него вручена записка с обещанием скорого повторения «дружеской беседы» и заверением в готовности доказать ему, «что физически я очень, очень силён».10533
Неудивительно, что «три часа сряду, с незаметными провалами печального оцепенения, Цинциннат ... ходил по камере». Её интерьер стал предельно аскетичен: «Надписи на стенах были теперь замазаны. Исчезло и расписание правил… Голо, грозно и холодно было в этом помещении», где веяло «бесстрастием», свойством любой «комнаты для ожидающих, когда дело уже к вечеру».10541
Дефицит информации – лучший способ привести узника в состояние депрессии. Тем не менее, за эти «три часа сряду» герой умудряется досконально изучить новый облик своей камеры – так, что в конце концов узнаёт её «гораздо лучше, чем, скажем, комнату, в которой прожил много лет». И что же он увидел?
Первое, что отмечается, – что стены «сплошь выкрашены в жёлтый цвет» – цвет того же «жёлтого», т.е. «сумасшедшего дома», каким в своё время была школа-интернат, в которой герой провёл своё детство. Но, – наблюдательно замечает Цинциннат, – «будучи в тени, основной тон казался тёмно-гладким, глинчатым, что ли», в отличие от «тут, на свету» (в отражении окна), где «отчётливо заметны пупырки густой, жёлтой краски», – «и была знакомая царапина, до которой этот драгоценный параллелограмм света доходил в десять часов утра».10552 О, да «тут», похоже, зашифрован целый букет символики: тень и свет («тут» и «там»), и опять, как в детстве, когда он сошёл с подоконника на «пухлый» воздух, граница между мирами – отражение солнечного света в окне. И не означает ли что-то царапина, попадающая на солнце в десять часов утра? В этом параноидальном мире только и приходится, что искать приметы, подсказывающие намёки на кроющуюся за ним истину. Даже эхо здесь – «недоразвитое, злое», и лампочка (в решётке) – висит не совсем посередине «слегка вогнутого» (?) потолка, причём «с неправильно найденным центром потолка» «как-то сопряжён» преследующий Цинцинната ужас ожидания… Наконец, железная дверь камеры странным образом носит следы неудачи её закрасить. Вся эта «неправильность, мучительно раздражавшая глаз» Цинцинната, мешала процессу «того созревания, которого никак не достигала безвольная, нуждавшаяся в другом климате мысль».10563 Всё правильно: как и его отец, Владимир Дмитриевич Набоков, писатель Сирин был категорическим противником смертной казни как таковой, – поэтому и камера смертника, по определению, являлась для него заведомо «неправильной».
И всё же: внимание и зрячесть, обнаруженные Цинциннатом в исследовании голых, казалось бы, стен – проявление несравненных, безошибочно узнаваемых талантов его Творца, с божественной щедростью своему герою предоставленных. Какой детальности и проницательности наблюдения он сумел извлечь из зрелища, способного убить любое воображение!
«Драгоценный параллелограмм света» сумел увидеть Цинциннат в откровенно оголённой и «мучительно неправильной» камере смертника. «Драгоценностью» называет автор и самого Цинцинната. «Речь будет сейчас…» – начинает он с нового абзаца и почти по-былинному: «…о его плотской неполноте; о том, что главная его часть находилась совсем в другом месте, а тут, недоумевая, блуждала лишь незначительная доля его, – Цинциннат бедный, смутный, Цинциннат сравнительно глупый, – как бываешь во сне доверчив, слаб и глуп. Но и во сне – всё равно, всё равно – настоящая его жизнь слишком сквозила».10571
Мы присутствуем здесь (на всю следующую страницу – хоть цитируй её целиком) при волшебной алхимии превращения раздвоенного героя в некую новую субстанцию, «словно одной стороной своего существа он неуловимо переходил в другую плоскость ... так что не разберёшь, где начинается погружение в трепет другой стихии. Казалось, что вот-вот, в своём передвижении по ограниченному пространству кое-как выдуманной камеры, Цинциннат так ступит, что естественно и без усилия проскользнёт за кулису воздуха, в какую-то воздушную световую щель».10582 Всё в этом преображённом Цинциннате соткано из легчайших материалов и красок: «прозрачно побелевшее лицо … с пушком на впалых щеках и усами такой нежности … что это, казалось, растрепавшийся над губой солнечный свет … лицо ещё молодое, невзирая на все терзания … со скользящими ... слегка как бы призрачными глазами … лёгкое шевеление … прозрачных волос на висках…» и т.д.10593
Но что не менее важно: при всей призрачности и невесомости почти уже потустороннего образа героя, в нём концентрируется некая ясная сила, совершенно несовместимая с кукольными гримасами его окружения: «…лицо Цинцинната … было по выражению своему совершенно у нас недопустимо, – особенно теперь, когда он перестал таиться…». Цинциннат стал представлять собой «образ, всю непристойность которого трудно словами выразить… При этом всё в нём дышало тонкой, сонной, – но, в сущности, необыкновенно сильной, горячей и своебытной жизнью… И так это всё дразнило, что наблюдателю хотелось тут же разъять, искромсать, изничтожить нагло ускользающую плоть и всё то, что подразумевалось ею, что невнятно выражала она собой, всё то невозможное, вольное, ослепительное».10604
Казалось бы, Цинциннат, наконец, достиг того состояния, когда воспарение его необратимо, – но нет: «…довольно, довольно, не ходи больше, ляг на койку», – то ли сам себя, то ли его Создатель, то ли оба они увещевают не находящего себе покоя обречённого узника. Чтобы отвлечься, он садится читать знаменитый современный роман «Quercus» («Дуб» – лат.).
«Героем романа был дуб. Роман был биографией дуба». Цинциннат прочёл уже «добрую треть», около тысячи страниц, где дубу шёл третий век, – значит, в конце ему будет шестьсот лет, а всего страниц в книге – три тысячи. «Идея романа считалась вершиной современного мышления. Пользуясь постепенным развитием дерева … автор чередой разворачивал все те исторические события – или тени событий, – коих дуб мог быть свидетелем».10611
Особо, с отдельного абзаца, отмечается (кем? – Цинциннатом, его сочинителем?): «Автор, казалось, сидит со своим аппаратом где-то в вышних ветвях “Quercus’а” – высматривая и ловя добычу. Приходили и уходили различные образы жизни, на миг задерживаясь среди зелёных бликов. Естественные же промежутки бездействия заполнялись учёными описаниями самого дуба с точки зрения…»10622 и т.д. – за всем этим метафорическим прикрытием с претенциозным, на латыни, названием легко угадывается ироническое отношение автора, Сирина-Набокова, к «Дубу» («дуре») человеческой истории. Он и подсказывает герою соответствующее к ней отношение: «Цинциннат почитал, отложил. Это произведение было, бесспорно, лучшее, что создало его время, – однако же он одолевал страницы с тоской, беспрестанно потопляя повесть волной собственной мысли: на что мне это далёкое, ложное, мёртвое, – мне – готовящемуся умереть?».10633 Единственное, чем может утешить его автор, – подарив ему, на сей раз, возможность иронизировать на свой, сочинителя Цинцинната, счёт: действительно, если в этой ситуации и есть кто-то, кто когда-нибудь точно умрёт, – так это автор, а не его персонаж (а Цинциннат порой догадывается о присутствии в его жизни некоей высшей инстанции, незримого патронажа).
Нет, однако, такого утешения, которое сняло бы роковой вопрос: когда? И Цинциннат снова, с бессмысленным упорством спрашивает Родиона всё о том же, – словом, перед нами опять слабый, истерзанный пыткой ожидания смерти пленник. Он снова пытается читать: «Мелкий, густой, узористый набор… Томики такие старые, пасмурные странички … иная в жёлтых подтёках…».10644 Не может ли быть, что в этих книгах на непонятном языке («узористым» шрифтом похожих на какой-то восточный язык), принесённых Цинциннату странным библиотекарем без того, чтобы он их заказывал, содержатся также и тайны человеческих судеб (что в метафизике Набокова обычно передаётся метафорами «узор жизни», «рисунок судьбы» и т.п.), осознание которых человеком возможно только ретроактивно, с помощью проницательного анализа, – будущее же непознаваемо. А может быть, в них содержатся гностические тайны, как предполагает Давыдов?10655 Скорее, – согласимся с Долининым, – эти книги с их «узористым набором» – «метафора универсума как текста, который нельзя прочесть, но в котором можно предположить связный смысл».10661 В любом случае, прочесть эти тексты Цинциннату недоступно.
И вечером, лёжа в постели, ему ничего не оставалось, как снова взяться за «Queqercus’а». «Автор уже добирался до цивилизованных эпох...». «Неужели никто не спасёт?» – на этот отчаянный, дважды, вслух, громко повторенный вопрос, – Цинциннат даже присел на постели в позе бедняка, показывающего пустые ладони, руки бедняка, у которого ничего нет, – последовал однозначный ответ.
«Сквозняк обратился в дубравное дуновение. Упал, подпрыгнул и покатился по одеялу сорвавшийся с дремучих теней, разросшихся наверху, крупный, вдвое крупнее, чем в натуре, на славу выкрашенный в блестящий желтоватый цвет бутафорский жёлудь».10672 Ответ ясен: на бутафорию не полагаться.
Но герою и в этих голых стенах так хотелось найти хоть какой-то намёк на сочувственное человеческое присутствие, «так жаждалось хотя бы едва намеченных человеческих черт»,10683 что он умудрялся выискивать их в подобиях воображаемых им рисунков на неровностях и тенях желтых стен своей темницы. Потребности его воображения подготовили благодатную почву для обмана и самообмана.
XII
.
В глухом постукивании, на исходе ночи разбудившим Цинцинната, постепенно обозначились звуки подкопа, воспринятые им как новая надежда на избавление. Утренние размышления по этому поводу сопровождала гроза («просто, но со вкусом поставленная») – природные явления, как всегда, «по-набоковски», извещают героя и читателя о своём участии в происходящем, всегда значимом, всегда пристрастном, однако на этот раз откровенная «постановочность» грозы подрывает доверие к ней и, по, меньшей мере, предполагает проблематичную амбивалентность её трактовки. Как понимать то обстоятельство, что при утренней грозе «в камере было темно, как вечером, слышался гром … и молния в неожиданных местах печатала отражение решётки»10694 (курсив мой – Э.Г.).
В полдень явился Родриг Иванович с неожиданной вестью о визите матери Цинцинната, что лишь раздосадовало его, – ведь он видел мать только раз в жизни, но свидание было ему всё же навязано. Её развязные манеры и пошлые ужимки побудили Цинцинната сразу определить её как очевидную пародию, а заодно усомниться также и в том, а можно ли возлагать надежды «на какой-нибудь далёкий звук … если даже вы обман».10701 Затравленный «бутафорией», сбитый с толку извращенцами «цирка», несчастный его герой утрачивает, за ненадобностью, способность видеть в этом, «тутошнем» мире какие бы то ни было отблески существования того, «тамошнего», идеального, передающего ему сигналы поддержки и надежды. Он устал: его зрение уже близко к тому, чтобы воспринимать всё окружающее только и исключительно с заведомым недоверием, на грани клинической параноидальности. Мать же, в обманном для «крашеной сволочи», пошлом с виду обличье, перехитрила Родрига Ивановича, который, «любезно воркуя» и «против наших правил», оставил её наедине с Цинциннатом. Цель ее визита – скорая, неотложная помощь. Она должна помочь сыну прозреть, научить его видеть за уродством временной, ложной «реальности» красоту и мудрость подлинного устройства мира.
Это очень важный философский вывод, придающий визиту матери Цинцинната ключевое значение: оборвётся или не оборвётся последняя нить его доверия ко всему, что кажется лишь «тутошним», или какое-то последнее связующее звено между «тут» и «там» ещё существует. Мать Цинцинната и есть это связующее звено, но он этого пока не видит. Он не видит, что «все её черты подавали пример Цинциннатовым, по-своему следовавшим им», что её «кожа была всё та же, из которой некогда выкроен был отрезок, пошедший на Цинцинната, – бледная, тонкая, в небесного цвета прожилках»; Цинциннат только «смутно чувствовал это сходство, смотря на её востроносое личико, на покатый блеск прозрачных глаз».10712 В ответ на его задиристый, порой откровенно издевательский тон автор дважды сопровождает реплики матери своим комментарием: «проговорила она тихо», «ответила она всё так же тихо» (курсив мой – Э.Г.), в чём чувствуется интонация рассказчика, намекающая на правдивость этих двух, очень важных фраз: «Я пришла, потому что я ваша мать», и в ответ на вопрос Цинцинната о том, что известно ей о его отце: «Только голос – лица не видала».10723 «Тихо» в данном случае звучит как «интимно», «между нами», то есть не напоказ, а взаправду.
Дальнейшие ремарки автора свидетельствуют о подлинности миссии матери, несущей сыну исключительной важности весть: «…нельзя, нельзя ошибиться… Ах, как же вы не понимаете! … Он тоже, как вы, Цинциннат».10734 Здесь можно согласиться с Давыдовым: «Эта весть о “безвестном отце” несёт в себе безусловно элемент гностического откровения», – хотя Давыдов неточен, утверждая, что Цинциннат сразу, «моментально меняет своё отношение и тон к матери».10741 Нет – он упорствует, он доводит мать почти до отчаяния: «Больше вам ничего не скажу, – произнесла она, не поднимая глаз». И вот здесь, в этот-то момент, когда хмурый Цинциннат задумался, а его мать «высморкалась с необыкновенным медным звуком, которого трудно было ожидать от такой маленькой женщины (пародийное напоминание о небесных «медных трубах») и посмотрела наверх на впадину окна» – ей, оттуда, из окна, на «медный» этот звук пришёл ясный, как небо, ответ: «Небо, видимо, прояснилось, солнце провело по стенке свою полоску, то бледневшую, то разгоравшуюся опять».10752 Сигнал был принят: мать заговорила вновь, вдохновенно, на целый большой абзац – о васильках во ржи, «и всё так чудно, облака бегут, всё так беспокойно и светло…», и, среди прочего, заметила, что ей «всегда кажется, что повторяется, повторяется какая-то замечательная история, которую всё не успеваю или не умею понять, – и всё ж таки кто-то мне её повторяет – с таким терпением!».10763
Дочитав до конца этот абзац, нельзя не понять, что это, в сущности, спонтанная, отчаянная попытка исповеди – такая искренняя, такая душераздирающая, с такими невозможными признаниями, – нельзя не поверить и не посочувствовать ей! Увы, и она не помогла! «Солнце будет совершенно бешеное после такой грозы»10774 – этими последними словами всего исповедального пассажа мать, сподобленная связью с потусторонним, с «высшими сферами», – невольно, фигурально проговорила гнев светила на «Фому-неверующего», её сына. Герой, в иных случаях легковерный, на этот раз, похоже, чуть ли не мстит матери, снова называя её пародией. Терпение и любовь матери, тем не менее, преодолевают и этот рубеж недоверия Цинцинната: в ответ на повторное оскорбление она только вопросительно улыбается и сморкается, пока, наконец, ей не приходит в голову рассказать об игре в «нетки»: «…бывают, знаете, удивительные уловки». И Цецилия Ц. объясняет правила старинной игры, когда к каким-то уродливым, бесформенным предметам прилагалось особой кривизны, неприменимое к обычным вещам или явлениям, «дикое» зеркало, и – отражённые в нём «нетки» преображались: «…из бесформенной пестряди получался в зеркале чудный стройный образ: цветы, корабль, фигура, какой-нибудь пейзаж … бессмысленная «нетка» складывается в прелестную картину, ясную, ясную».10785
«Эта притча, не понятая героем, – комментирует Долинин, – точно описывает позицию подразумеваемого автора “Приглашения на казнь” по отношению к изображённому в романе уродливому миру. Для него, словно для волшебного преображающего зеркала … все персонажи романа, за исключением Цинцинната, есть лишь “нетки”, грубые штуки, “ископаемые” мировой пошлости, из которых он создаёт ясную, осмысленную картину; страшные с внутренней точки зрения, они смешны и ничтожны с точки зрения творца, пользующегося ими как необходимым антуражем в драме воспитания и спасения единственного героя романа».10791
С этим комментарием легко согласиться, кроме одного – что «притча», то есть смысл послания матери не был понят героем. Логика игры в «нетки» по сути очень напоминает идеи Набокова о том, что за видимым и, зачастую, ужасающим хаосом «чащи жизни» на самом деле кроется некий общий замысел благого Творца, и задача человека, не желающего превратиться в «нетку», – несмотря ни на что, сохранять ощущение этого замысла и следовать своему, только ему лично предназначенному пути. Это доступно очень немногим избранникам, прошедшим земные испытания, не поддаваясь соблазну превратиться в пошлую шваль, представительствующую мировое зло. И за эту стойкость они будут вознаграждены потусторонней вечностью – первоначальным оригиналом, не знающим ограничений времени и пространства, идеалом несостоявшейся «тутошней», земной, извращённой жизни. Эту истину и хотела донести до Цинцинната его мать, и он её понял: «…словно завернулся краешек этой ужасной жизни и сверкнула на миг подкладка». И он поверил: «Во взгляде матери Цинциннат внезапно уловил ту последнюю, верную, всё объясняющую и от всего охраняющую точку, которую он и в себе умел нащупать … она сама по себе, эта точка, выражала такую бурю истины, что душа Цинцинната не могла не взыграть».10802 Жест, сделанный на прощание Цецилией Ц., – указательными пальцами как бы показывающий длину младенца, – на что она намекала? На второе рождение?
«Цинциннат, дрожа, шагнул было вперёд…».
«– Не беспокойтесь, – сказал директор, подняв ладонь, – эта акушерочка совершенно нам не опасна. Назад!»
Недаром так разъярился, выпроваживая мать арестанта, Родриг Иванович (а ведь встречал её льстиво). И навстречу Цинциннату, несомненно, для нейтрализации вредоносного влияния его встречи с матерью, уже двигалась «плотная полосатая фигурка» м-сье Пьера.10813
XIII
.
Послание матери Цинциннат понял, но понять – это ещё не значит принять. «Земное» – привычное, тёплое, телесное – ещё держит его, он страшится его потерять и потому не может не цепляться за надежду. Тем более – что вот она, сама стучится к нему в камеру «в мертвейший час ночи».
Снова слыша ночью звуки подкопа, Цинциннат, силясь осмыслить их, доходит до полного абсурда: «Я вполне готов допустить, что и они – обман, но так в них верю сейчас, что их заражаю истиной» (курсив мой – Э.Г.). «Заражать обман истиной» – свойство, применительно к Цинциннату, творческое; беда, однако, в том, что творчество в «тутошнем» его мире наказуемо, и в данном случае неосторожное воображение оказывает Цинциннату очень плохую услугу, продолжая накачивать этот баллон: «Скромность их! Ум! Таинственное, расчётливое упрямство!». «Или старые, романтические бредни, Цинциннат?» – пытается отрезвить его некто (или он сам?).10821 Но Цинциннат уже втянут в игру, он уже опьянён самой возможностью что-то делать, куда-то стремиться, а не просто обречённо и пассивно ждать своей участи. Он борется отстоять себя таким, какой он есть сейчас, – по-земному живым, всем смертям назло. И он, несмотря ни на что, прав! Он стучит стулом в пол, он получает отклик: «Он убедился, – да, это именно к нему идут, его хотят спасти...», и под утро ему было так странно, что «так недавно ночная тишь нарушалась жадной, жаркой, пронырливой жизнью»10832 (и пусть будет стыдно тому, кто осудит его надежды – добавим мы от себя).
Последнюю, отчаянную попытку объясниться производит Цинциннат и в письме к Марфиньке. На двух с половинах страницах он взывает к ней: «…пускай сквозь туман, пускай уголком мозга, но пойми … что меня будут убивать … молю тебя, мне так нужно – сейчас, сегодня, – чтобы ты, как дитя, испугалась … я всё-таки принимаю тебя за кого-то другого, – думая, что ты поймёшь меня … на миг вырвись и пойми, что меня убивают, что мы окружены куклами и что ты кукла сама». Он просит её о свидании («…и уж разумеется: приди одна, приди одна!») и заверяет: «…у меня хватит, Марфинька, силы на такой с тобой разговор, какого мы ещё никогда не вели, потому-то так необходимо, чтобы ты ещё раз пришла … это я пишу, Цинциннат, это плачу я, Цинциннат…» – и он отдаёт письмо Родиону.10843
Обе эти надежды – на спасение через подкоп и на понимание Марфиньки – очень скоро окажутся зряшными. Тем не менее, тринадцатый день ожидания Цинциннатом казни зряшным назвать нельзя: м-сье Пьера он обыграл дважды – в шахматы и в кости. Победа, заслуживающая быть оцененной как прогноз победы Цинцинната над злом и смертью, – прежде всего потому, что ухищрения палача не властны над ним. М-сье Пьера выдаёт нестерпимый запах – неизбежная отметка зла, всегда и всюду его изобличающая.10851
XIV
.
В этой главе Цинциннат продолжает подвергаться всё тем же соблазнам спасения. С утра, когда он, после бессонной ночи «через слух видел» (Набоков наделяет его своей синестезией), как удлиняется потайной ход, – к нему пробирается Эммочка. Автор маркирует её целым рядом признаков (балетные туфли, в тюремную клетку платье, театрально завитые льняные локоны, пародийные кривляния под «соблазнительницу»), которые выдают в ней принадлежность к тем же «крашеным». Она обещает Цинциннату завтра его спасти: «Мы убежим, и вы на мне женитесь».10862
Явившийся к вечеру м-сье Пьер, садистски упиваясь напоминанием Цинциннату, что «не сегодня-завтра мы все взойдём на плаху», пытается соблазнить его, в анекдотически пошлых выражениях, различными видами «наслаждений жизни», которых, в случае казни, придётся лишиться. Родриг Иванович внимает палачу одобрительно и подобострастно. «Сонный, навязчивый вздор», – так, в конце концов, оценивает Цинциннат провокативные усилия м-сье Пьера, на что директор резонно заключает, что узник неисправим. М-сье Пьер, однако, оспаривает окончательную обоснованность такого вывода – ему (да и всем тюремщикам) очевидно, что Цинциннату совсем не хочется расставаться с жизнью, что он страшится смерти, – и, вторя палачу, директор начинает впрямую шантажировать Цинцинната, подсказывая ему простейший и вернейший выход из положения: покаяться, признать свою «блажь», стать таким, как все, и тогда – «была бы для него некоторая отдалённая – не хочу сказать надежда, но во всяком случае…».
«Царства ему предлагаешь, а он дуется. Мне ведь нужно так мало, – одно словцо, кивок», – досадует напоследок м-сье Пьер.10873
Не поддавшись соблазнам покаяться, Цинциннат этой ночью поддался соблазнам другим: мысленно подводя итоги двух недель, проведённых им в тюрьме, он, несмотря на предупреждение, в скобках (осторожно, Цинциннат!), всеведущего автора, «придавал смысл бессмысленному и жизнь неживому», то есть невольно предоставил всей череде прошедших перед ним «освещённых фигур» «право на жизнь, содержал их, питал их собой». К тому же он ждал ещё и «возвращения волнующего стука». Наблюдающему за ним, сочувствующему автору тревожно за него: «Цинциннат находился в странном, трепетном, опасном состоянии, – и с каким-то возрастающим торжеством били далёкие часы, – … смыкались в круг освещённые фигуры…».10881
Цинциннат попал в порочный круг «освещённых фигур»; круг замкнулся, его движение всё более ускоряется…
XV
.
На следующий день Цинцинната ожидает крайне неприятный сюрприз. Действие «с сокрушительнейшим треском» резко смещается «прямо к рампе»: вместо ожидаемых спасителей, в камеру к мятущемуся узнику, в самый разгар его лихорадочной подготовки к бегству, вламываются, потешаясь, м-сье Пьер и директор.10892 Через пролом в стене Цинцинната вынуждают ползти «в гости» к палачу.
Всё, что может противопоставить Цинциннат глумящимся над ним «куклам», – чувство собственного достоинства: «Если вы только меня коснётесь…», и раскрытые было ему навстречу фальшивые объятия не состоялись.
Следует также обратить внимание на парадоксальное замечание в тексте (Цинцинната? всевидящего и всевластного автора?) – что, когда он, «сплющенный и зажмуренный», в «кромешной тьме» полз «на карачках», – «тяготела над ним такая ужасная, беспросветная тоска, что, не будь сзади сопящего, бодучего спутника, – он бы тут же лёг и умер».10903 Нет, – даёт понять повествователь, – сейчас не место и не время умирать. Цинциннат ещё не готов – земную смерть он встретит там и тогда, когда «всё сойдётся», когда закончится, будет выполнена его земная миссия, что и означает, в сущности, отмену смерти и переход в потустороннюю его, Цинцинната, вечность. Так что м-сье Пьер, подталкивая своего «гостя» к выходу, не давая ему упереться в тупик или завернуть не за тот угол, невольно является на этом маршруте навигатором, обслуживающим заказ благоприятствующих Цинциннату божественных сил, – «неловко и кротко Цинциннат выпал на каменный пол – в пронзённую солнцем камеру м-сье Пьера» (курсив мой – Э.Г.).10914 На чьей стороне солнце – в набоковской метафорике всегда понятно, но не всегда выставлено напоказ: приходится не раз перечитать эти страницы, прежде чем обнаруживается связь между странным, вдруг возникшим, недомоганием м-сье Пьера – он задыхается – и периодическим его прохождением «сквозь косую полосу солнца, в которой ещё играла известковая пыль», когда он, опять-таки, «разгуливая и слегка задыхаясь», пытался заверить Цинцинната в «нашей дружбе».10925 Забавно, что одежду Цинцинната заботливый палач сразу по прибытии в камеру тщательно, платяной щёткой, от этой пыли на нём же и почистил.10931
«Украшая» камеру, «аккуратно выставил малиновую цифру [т.е. цифру казни Цинцинната] стенной календарь», что, впрочем, «адресатом» замечено, к счастью, не было. В знак якобы особого понимания и эмпатии («для меня вы прозрачны, как … краснеющая невеста прозрачна для взгляда опытного жениха») и заверяя в своих дружеских чувствах, на каковые он надеется и со стороны Цинцинната, м-сье Пьер раскрывает перед ним большой футляр, где «на чёрном бархате лежал широкий, светлый топор».10942 Но непосредственно перед этой демонстрацией м-сье Пьеру стало, видимо, совсем худо, и он вынужден был сесть, «хватаясь за грудь»; а после неё, «снова запирая футляр, прислоняя его к стене и сам прислоняясь», он, несколько ниже, объясняет:: «Я тоже возбуждён, я тоже не владею собой, вы должны это понять». «Понимания», согласно глумливой логике м-сье Пьера, заслуживает «большая философская тема», а именно – его одиночество. Ничтоже сумняшеся, палач жалуется своей жертве на «жизнь одинокого человека», который «самому себе доказывает, что у него есть гнёздышко».10953 Разделим злую иронию автора: в отличие от посюстороннего одиночества подлинно творческой личности, оставляющей после себя нетленное произведение искусства, одиночество палача абсолютно и безысходно.
Отправленный по тому же туннелю к себе в камеру, Цинциннат неожиданно оказывается на воле, «и к нему сразу из-за выступа стены, где предостерегающе шуршал траурный терновник (курсив мой – Э.Г.), выскочила Эммочка».10964 Это автор предостерегает – не избежать герою тернового венца, символа невинного страдания. Не на волю ведёт его Эммочка, а с чёрного хода в директорскую квартиру, где в столовой вся семья пьёт чай. При этом у жены директора вдруг обнаруживается лёгкий немецкий акцент. А «сосед» Цинцинната, формально также «узник» той же тюрьмы, почему-то тоже сидит здесь, и директриса любезно передаёт ему бублики. На сей раз м-сье Пьер наряжен в «косоворотку с петушками», и в псевдорусском этом обличье он ведёт себя не как гость, а как неформальный, но главный распорядитель.
С помощью этой лубочной «национальной» символики здесь обозначена некая условная модель, похожая на симбиоз фашистской Германии с подкрашенным под этакую посконную Русь советским режимом, причём последний представлен гораздо более изощрённым и фактически доминантным по отношению к собственно «тюремным» («немецким») правилам игры. Недаром м-сье Пьер со снисходительным благодушием успокаивает глуповатого Родрига Ивановича, беспокоящегося о формальном нарушении правил: «Оставьте … ведь они оба дети».10971 Именно м-сье Пьер – и теперь это очевидно – был тем, кто манипулировал не только Цинциннатом, но и Эммочкой за спиной её родителей, разрабатывая сценарий ложного побега. Сейчас же, наклонившись к Родригу Ивановичу, он конфиденциально сообщает ему, судя по бурной реакции («Ну, поздравляю вас… Радостно! Давно пора было… Мы все…) – о ещё одном его несанкционированном мероприятии: показе арестанту топора. Эта самоволка не только не осуждается педантичным «немцем», но вдохновляет его на откровенное признание: он, наконец, называет палача истинным его именем-отчеством: Пётр Петрович.10982
«Востроносая старушка в наколке и чёрной мантильке хохлилась в конце стола»10993 – образ смерти, напоминающий читателю о её молчаливом присутствии в этой сцене.
XVI
.
В этой главе м-сье Пьер терпит двойное поражение: как футуролог и как организатор сотрудничества между палачом и жертвой, что предвещает общий обвал мира «крашеных».
Цинциннату, после всего пережитого, приходится трижды заклинать себя словом «спокойствие». Однако, несмотря на такое состояние, он легко разгадывает смысл навязанного ему для просмотра «подарка» м-сье Пьера семье директора: альбома с его изобретением – фотогороскопом, якобы предсказывающим будущее, в данном случае – предстоящую жизнь и незавидную судьбу Эммочки. При ближайшем рассмотрении Цинциннату «становилась безобразно ясной аляповатость этой пародии на работу времени». Подтасовки и искажения в описании будущей жизни Эммочки завершаются в финале полным фиаско: «…лицо её на смертном одре никак не могло сойти за лицо смерти». Предсказание судьбы директорской дочки явно не удалось м-сье Пьеру, и альбом со злокозненной фальшивкой унёс Родион, сообщив, что барышню увезли.11004
Подсунутый Цинциннату фотогороскоп был необходим м-сье Пьеру как доказательство его способности прорицать будущее, а, следовательно, и легитимности его как палача – исполнителя воли неизбежного, неумолимого рока. В философских представлениях Набокова само это понятие, ввиду непредсказуемости будущего и свободы человеческой воли, принципиально неприемлемо, – и весь эпизод, служит, видимо, популярной иллюстрацией этого, крайне важного для него тезиса, который он постоянно отстаивал во всех своих произведениях.








