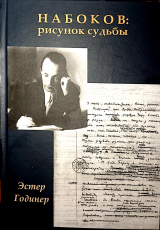
Текст книги "Набоков: рисунок судьбы"
Автор книги: Эстер Годинер
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 45 страниц)
Первыми за это ответственны, естественно, родители. Но какую «поддержку и сопровождение» можно ждать от родителей, которые так боятся собственного сына, что до осени откладывают разговор о школе; и вместо того, чтобы за лето постепенно, осторожно, в щадящем режиме помочь ему освоиться с предстоящими переменами, вдруг объявляют, что «с понедельника он будет Лужиным».4531 При этом, не озаботившись заверить сына в своей, в любом случае, готовности к помощи и поддержке, фактически как бы отделавшись от тяготившей проблемы («Ух… Прямо гора с плеч»4542), они предоставляют его страхам простор для фантазий, в которых вместо всего привычного его ждёт «нечто, отвратительное своей новизной и неизвестностью, невозможный, неприемлемый мир».4553
Как аукнется, так и откликнется: по дороге на станцию сын обнаруживает предельную степень проявления того, что свойственно аутистам и носит название «аффективной блокады» (ослабление эмоциональных реакций на близких, вплоть до полного их игнорирования, – при доверительных отношениях с попечителями эти симптомы значительно ослабляются). Лужин-старший напрасно ждёт, когда сын «повернёт к нему упрямо отклонённое лицо», Лужин-младший сидел «в шапке, надетой криво, но которую никто на свете сейчас не посмел бы поправить, и глядел в сторону». Отвечая на вопрос матери, не холодно ли ему, ответил, что холодно, «глядя на реку». Мать потянулась было до его плащика, «но, заметив выражение его глаз, отдёрнула руку… Сын не шевельнулся». И так далее – безнадёжно и безрадостно – «уставился в землю»; на станции, в ожидании поезда, «молча взял протянутый гривенник» для игрового автомата.4564
Повышенная эмоциональная чувствительность, страх перемен: «Только сегодня, в день переезда из деревни в город, в день, сам по себе не сладкий ... только сегодня он понял весь ужас перемены, о которой ему говорил отец».4575 И он сбегает, назад – на дачу, по дороге «вдоволь наплакавшись … со смутной, мстительной мыслью: добраться до дому и там спрятаться, провести там зиму, питаясь в кладовой вареньем и сыром». Когда его настигли и сняли с чердака, – до коляски сына несли не отцовские руки, а, «как самый сильный», «чернобородый мужик с мельницы, обитатель будущих кошмаров».4586
По прибытии в город, только что принудительно доставленного десятилетнего Лужина, школу панически боящегося, в школу, не усомнившись, тут же и отдают. И даже месяц спустя, явившись наконец с визитом к классному воспитателю, Лужин-старший, оказывается, озабочен не душевным состоянием сына, а тщеславным ожиданием подтверждения его догадок о «недюжинности» и «тайном волнении таланта» Лужина-младшего. Обращаясь к школьному учителю (в котором легко угадывается нелюбимый Набоковым В. Гиппиус), он «был полон щекочущего ожидания, некоторого волнения и робости – всех тех чувств, которые он некогда испытал, когда, юношей … пришёл к редактору, которому недавно послал первую свою повесть».4591 Похоже, посредственный писатель Лужин и сына своего воспринимает как подобие персонажа в практикуемом им жанре поучительных повестей для учеников «среднеучебных заведений», а учителя – как редактора, полномочного выносить автору приговор его произведению. Увы, как и тогда, его ждёт разочарование: «…вместо слов изумления ... он услышал пасмурные, холодноватые слова, доказывавшие, что его сына воспитатель понимает ещё меньше, чем он сам. О какой-либо тайной даровитости тот и не обмолвился». Воспитатель же, со своей стороны, «начал говорить первым» – не расспросив, не выслушав сначала отца, тем самым обнаружив отсутствие подлинного интереса и эмпатии к сыну. При таком отношении к ученику у него и нашлись только «пасмурные, холодноватые слова», и увидеть он смог в нём лишь то, что бросалось в глаза, «что мальчик мог бы учиться лучше, что мальчик, кажется, не ладит с товарищами, что мальчик мало бегает на переменах… Способности у мальчика несомненно есть ... но наблюдается некоторая вялость».4602
Набоков здесь явно инвертирует собственную ситуацию в Тенишевском училище: его отец, в отличие от отца Лужина, не нуждался в «людях со стороны» для понимания своего сына и всегда поддерживал его, ограждая от избыточных претензий некоторых воспитателей, упрекавших независимого и не выносившего никакой принудительной «артельности» ученика в отсутствии «чувства товарищества». Бывший тенишевец не простил невежественных и лицемерных потуг, под видом «общественной пользы» оправдывавших насилие над личностью, – и откликнулся пародией.
«Бедный Лужин» в подобной школе-пародии оказывается совершенно незащищённой жертвой. Набоков-отец, зная, что в каждом классе всегда найдётся обладатель тяжёлых кулаков, любитель пробовать их силу на всех и каждом, показал своему сыну несколько приёмов английского бокса – бить костяшками, как кастетом. Лужин-отец, угодливо поддержавший под локоть чуть споткнувшегося воспитателя, силившегося изобразить «очаровательное предание» об участии учителей в дворовых забавах школьников, в то же время пассивно наблюдает, как в раздевалке безнаказанно толкают его сына, переступают через него, сидящего на полу, как он, «после каждого толчка, всё больше горбился, забирался в сумрак».4611 Хорошо чувствуя беспомощность отца, Лужин-младший сначала садится на пол, поворачиваясь к отцу спиной, а затем, выйдя во двор, снова возвращается в переднюю, чтобы дождаться, когда отец уйдёт. После ухода отца он забирается «под арку, где были сложены дрова. Там, подняв воротник, он сел на поленья. Так он просидел около двухсот пятидесяти больших перемен, до того года, когда он был увезён за границу».4622 Лужин-старший так никогда и не узнал – ни от сына, ни от воспитателя, – что это укромное место Лужин-младший нашёл «в первый же день, в тот тёмный день, когда он почувствовал вокруг себя такую ненависть, такое глумливое любопытство, что глаза сами собой наливались горячей мутью».4633
Сын, имеющий родителей, оказывается совершенно одиноким в противостоянии окружению сверстников, бывающих очень жестокими с теми, в ком они видят беззащитных изгоев. Издевательства продолжаются до тех пор, пока не надоест и объект насмешек не займёт положенную ему нишу – как бы не существующего, невидимого: «Лужина перестали замечать, с ним не говорили, и даже единственный тихоня в классе … сторонился его, боясь разделить его презренное положение».4644
Тем нестерпимее были задаваемые дома вопросы о школе: «Отец жадно смотрел на сына, который отклонял лицо ... и ничего не смел против его непроницаемой хмурости». Или «вдруг, ни с того ни с сего, раздавался другой голос, визжащий и хриплый, и, как от ураганного ветра, хлопала дверь», – это мать пыталась расспросить сына о школе, он не хотел отвечать, «а потом, вот … как бешеный…». Лужин-старший догадывается: «Он не здоров, у него какая-то тяжёлая душевная жизнь … пожалуй, не следовало отдавать в школу. Но зато нужно же ему привыкнуть к обществу других мальчуганов… Загадка, загадка…». Жена рассматривает чашку, в припадке гнева опрокинутую сыном, – нет ли трещин, руки у неё дрожат.4655 Слабая, вялая, несчастная в супружеской жизни женщина слишком поглощена собой и бессильна чем-либо помочь любимому, но такому странному, пугающему её отчуждённостью ребёнку.
Таким образом, не только в школе, но и дома Лужин тоже одинок, и это – в лучшем случае. Он не только не обращается к родителям за помощью, он, по возможности, избегает контакта с ними, всегда неуместного, всегда раздражающего. И если отец, несмотря на расхолаживающую характеристику воспитателя, иногда воображал его «в приятной мечте, похожей на литографию», этаким вундеркиндом, который «в белой рубашонке до пят играет на огромном, чёрном рояле»,4661 то для сына «невыносим был разговор отца, который … намекал на то, что хорошо бы начать заниматься музыкой».4672 Применение своему «острову гениальности» Лужину приходится искать самостоятельно или с помощью случайных людей: скрипача, игравшего у них в доме («Игра богов. Бесконечные возможности»), «милой тёти», показавшей ему расстановку и элементарные ходы фигур, «старика с цветами», который «играл божественно». И очевидно символичен эпизод, когда отец, для выяснения отношений с «тётей», грубо выставляет сына из своего кабинета вместе с подаренными ему, Лужину-старшему, шахматами, и потом даже и не вспоминает о них. Лужин-младший впоследствии закопает их в саду.
Сцена в школе, на пустом уроке, когда Лужин наблюдает за игрой одноклассников, «неясно чувствуя, что каким-то образом он понимает её лучше, чем эти двое, хотя совершенно не знает, как она должна вестись»,4683 совершенно точно передаёт свойственную носителям синдрома саванта способность как бы предзнания, угадывания заранее известного результата. Википедия объясняет причины этого явления «асинхронией развития головного мозга … недоразвитие в одной из областей психической деятельности сопровождается гиперкомпенсацией в другой».
Только следующим летом отцу стало известно о причине школьных прогулов сына. «Страсть сына к шахматам так поразила его, показалась такой неожиданной и вместе с тем роковой, неизбежной, – так странно и страшно было сидеть на этой яркой веранде, среди чёрной летней ночи, против этого мальчика, у которого словно увеличился, разбух напряжённый лоб, как только он склонился над фигурами, – так это всё было странно и страшно»,4694 – предчувствие не обмануло Лужина-старшего: проиграв подряд несколько партий, он понял, что сын «не просто забавляется шахматами, он священнодействует».4705 Описание этой ночной игры автор сопровождает нагнетанием символики мрачных предзнаменований, долженствующих обозначить некий роковой рубеж в отношениях отца и сына, губительный для них обоих и вовлекающий в эту драму также и несчастную в этой семье жену и мать. Лужин-старший никак не мог сосредоточиться на игре, вспоминая «свой беззаконный петербургский день, оставивший чувство стыда», и когда сын сказал: «Если так, то мат, а если так, то пропадает ваш ферзь», – он, смутившись, взял ход обратно. Когда же он, наконец, ход сделал, то «сразу начался разгром его позиций, и тогда он неестественно рассмеялся и опрокинул своего короля».4711 Шахматы беспощадно предрекали судьбу «королю», опрокинутому бездарным и лукавым отцом, и автор счёл необходимым отметить этот момент излюбленными «знаками и символами»: «Мохнатая, толстобрюхая ночница с горящими глазками, ударившись о лампу, упала на стол. Легко прошумел ветер по саду. В гостиной тонко заиграли часы и пробили двенадцать».4722 Наутро после этой игры «в густой роще за садом … маленький Лужин зарыл ящик с отцовскими шахматами».
Сопротивляясь судьбе, не желая признавать роковой характер своего проигрыша, Лужин-старший приглашает сельского доктора, хорошо игравшего в шахматы, – с тайной надеждой, что уж ему-то сын проиграет. Но сын постоянно выигрывал, а доктор «стал бывать каждый вечер и … извлекал огромное удовольствие из непрекращающихся поражений». И вот от него-то Лужин-старший и «услышал те слова, которые так жаждал услышать, но теперь от этих слов было тяжело, – лучше бы он их не услышал».4733 Этот «угрюмый доктор» оказался не только прекрасным партнёром совсем не угрюмому с ним Лужину. «Он принёс учебник шахматной игры, посоветовал, однако, не слишком им увлекаться, не уставать, читать на вольном воздухе. Он рассказывал о больших мастерах, которых ему приходилось видеть, о недавнем турнире, а также о прошлом шахмат, о довольно фантастическом радже, о великом Фелидоре, знавшем толк и в музыке».4744
Уже здесь, сквозь «угрюмого доктора», «сквозит», угадывается, проступает поддерживающая юного партнёра «божественная» ипостась самого автора, вершителя судеб своих героев – так заботливо и щедро предлагает он странному гению разнообразный, содержательный, и в то же время щадящий, оберегающий ранимую личность режим знакомства с шахматным миром. Когда же он пробует соблазнять опекаемого очередным лакомым «гостинцем» – приносит ему «хитрую задачу, откуда-то вырезанную», то сомневаться не приходится: этот жанр – шахматного композиторства – предлагается как рецепт спасения (каковым он был и для Набокова) от превратностей непредсказуемой удачи шахматной игры. И хотя был у Лужина блеск счастья в глазах по нахождению решения задач («Какая роскошь!» – восклицал он), однако «составлением задач он не увлёкся, смутно чувствуя, что попусту в них растратилась бы та воинственная, напирающая яркая сила, которую он в себе ощущал...».4755 Вот – вот то роковое качество, которое предопределило судьбу Лужина, шахматную и человеческую: сила, стремительно возносившая её носителя на вершину желанного пьедестала, затем его же обрушила.
Можно сожалеть, что «угрюмый доктор» появился рядом с Лужиным несколько запоздало и совсем ненадолго – до осени, до возвращения в город. Было упущено время и, может быть, шанс – несколько скорректировать, хотя бы частично разогнуть ту крутую кривую, которая бесконтрольно и слишком стремительно ввергла сверхчувствительного подростка в опасные игры его «острова гениальности». Тогда, в апреле, на пасхальных каникулах, выгнанный из кабинета отца с его шахматами, он оказался один на один со своим даром, «когда весь мир вдруг потух, как будто повернули выключатель, и только одно, посреди мрака, было ярко освещено, новорождённое чудо, блестящий островок (курсив мой – Э.Г.), на котором была обречена сосредоточиться вся его жизнь. Счастье, за которое он уцепился, остановилось; апрельский этот день замер навеки, и где-то, в другой плоскости, продолжалось движение дней, городская весна, деревенское лето – смутные потоки, едва касавшиеся его».4761 Выделенное курсивом набоковское «блестящий островок» выдаёт автора – значит, и понятие «остров гениальности» было известно ему из каких-то источников, которыми он пользовался в период подготовки к написанию этого романа, – возможно, из уже упомянутого первого описания этого явления Джоном Лэнгдоном Дауном, в 1887 году введшего в научный оборот это понятие – idiot savant – учёный идиот.
Когда, в разгаре лета, на даче у Лужиных появился «угрюмый доктор», процесс отрешения Лужина-младшего от окружающей действительности зашёл уже слишком далеко: «…жизнь с поспешным шелестом проходила мимо»,4772 и вряд ли советы доктора были услышаны, хотя, если бы этот контакт продолжился, он мог бы быть благотворным – доктор и сам был «нелюдим», не любя пустого общения, и вместе они, похоже, хорошо понимали друг друга. Лужин-младший, легко заметить, вообще совсем не чурался общения с теми, в ком он чувствовал что-то подлинное, ему родственное, и с подкупающей естественностью и простотой знакомился с такими людьми: с рыжей тётей, которой он, в порыве благодарности, даже как-то поцеловал руку, с «душистым стариком», сходу сев с ним играть в шахматы, с «угрюмым», якобы, доктором, на самом деле замечательно живым и интересным рассказчиком. Даже с отцом, который проявил, наконец, интерес к тому, что действительно занимало сына, достав с чердака старые шахматы, и сын заметил, что «лицо у него было уже не насмешливое, и Лужин, забыв страх, забыв тайну (курсив мой – Э.Г.), вдруг наполнился горделивым волнением при мысли о том, что он может, если пожелает, показать своё искусство».4781
Вот бы и воспользоваться Лужину-старшему этим минутным доверием сына, поддержать его, чтобы и дальше Лужин-младший, преодолевая свои страхи, мог испытывать «горделивое волнение» и, будучи уверенным в серьёзном отношении к себе отца, охотно демонстрировал бы ему своё искусство. Но отец, «всегда жаждавший чуда – поражения сына» в его партиях с «угрюмым доктором», – испугался сам и спугнул мелькнувшую было надежду на его с сыном взаимопонимание.
Когда же, спустя два месяца после возвращения в город, и «вскоре после первого, незабвенного выступления в шахматном клубе», в столичном журнале появилась фотография Лужина, разве не естественно было бы отцу (знавшему о страхах сына, боявшегося из-за этого возвращаться в школу), с «не насмешливым лицом» попытаться найти в школе, среди учителей и сверстников, кого-нибудь, кто был бы способен уважать талант сына, – и такая, даже небольшая, но критически важная группа поддержки могла бы сломать стереотип «пустого места», которое Лужин занимал в классе, и поощрить его «горделивое волнение».
Но родители не нашли ничего лучшего, как неделю его упрашивать, и: «Мать, конечно, плакала. Отец пригрозил отнять новые шахматы – огромные фигуры на сафьяновой доске». Возвращаться в школу, где «узнают о его даре и засмеют», где, войдя в класс, он увидит «любопытные, всё проведавшие глаза», было для Лужина немыслимо. Он пробовал бежать из дома – от него спрятали зимнее пальто, он бежал снова – на этот раз в осеннем. Ему некуда было деться, он пошёл к тёте, но тётя отправлялась на похороны «старика с цветами», и пришлось ему вернуться домой. Он заболел и бредил целую неделю, и впоследствии, вспоминая эту и другие свои детские болезни, он особенно отчётливо вспомнил, «как ещё совсем маленьким, играя сам с собой, он всё кутался в тигровый плед, одиноко изображая короля, – всего приятнее было изображать короля, так как мантия предохраняла от озноба...».4792
Не желая видеть в сыне короля, Лужин-старший довёл его до бегства и болезни, «опрокинул» его. Первая их ночная дачная игра оказалась пророческой: сын, без понимания и поддержки отца, «опрокидывался», загонялся в тупиковую ситуацию Solus Rex, но и для отца «сразу начался разгром его позиций» – отчуждение сына окончательно приняло форму «аффективной блокады».
Д.Б. Джонсон точно определил место Лужина на шахматной доске его жизни: он Solus Rex. «Это название относится к числу особых шахматных задач, когда атакуется чёрный король, единственная чёрная фигура на шахматной доске. Как и во всех обычных шахматных задачах, он приговорён к тому, чтобы получить шах и мат в несколько ходов. Вопрос заключается не в том, потерпит ли он поражение, но в том, сколько на это уйдёт ходов, и даже это предопределено автором задачи. Этот шахматный образ имеет очевидное отношение к фигуре обречённого гроссмейстера Лужина».4801 Лужин, по мнению Джонсона, не в состоянии «отгадать намерения шахматных богов и понять узор собственного существования», так как «не может понять, что он вовлечён не в игру, но в жёстко продуманную шахматную задачу. Другими словами, он не игрок в шахматной партии, а пешка в шахматной задаче. В задачах все фигуры в некотором смысле пешки, так как все ходы заранее предопределены сочинителем».4812
Когда «угрюмый доктор» (а за его спиной – расположенный к Лужину, сочувствующий ему автор) с угрюмой же улыбкой (провидя трагическую судьбу своего малолетнего партнёра) приносил иногда Лужину «гостинец» – хитрую шахматную задачу, и тот, «покорпев над ней, находил наконец решение и картаво восклицал, с необыкновенным выражением на лице, с блеском счастья в глазах: «Какая роскошь! Какая роскошь!» – счастье это было минутным. Неистребимый дух борьбы побуждал его бороться до конца – конца гибельного, но обусловленного «законом его индивидуальности», не компенсированного теми, кто мог бы и должен был помочь ему, и прежде всего, незаменимо – его родителями.
Инвертировано (как любят иногда выражаться филологи) в трагической судьбе Лужина угадывается величайшая благодарность Набокова своим родителям, любовь и понимание которых обеспечивали ему, одновременно, такое чувство свободы и защищённости, которое только и предоставляет ребёнку спасительный простор для маневра; и тогда он сам, интуитивно, нащупывает границы безопасности, необходимые его личности. Жизненно значимый для Лужина эпизод с задачами представляет собой попытку предложить ему спасительную нишу – стать шахматным композитором. Набоков, хорошо отдававший себе отчёт в сильных и слабых сторонах своих шахматных талантов, сознательно направил свою приверженность шахматам в это русло, оберегая себя от неумолимого хода шахматных часов и угрозы проигрыша. Сочинитель задач проиграть заведомо не может – в его распоряжении сколько угодно времени, и он в любом случае остаётся хозяином положения. Даже свои интервью, с 1965 года (когда он, став знаменитым, мог уже себе это позволить), Набоков строил по тому же принципу, избавляющему его от необходимости давать немедленные ответы на непредсказуемые вопросы собеседника, – требуя заранее, не менее, чем за две недели, присылать ему текст интервью и работая над ответами так, как он привык работать с любой своей прозой. Таким образом, ставя свои, подходящие его темпераменту и характеру условия сотрудничества с прессой, он избегал нежелательных, затруднительных для него ситуаций и одновременно достигал оптимальных результатов.
Но беглого «бедного Лужина» ещё до школы ожидали на дачном чердаке «волан с одним пером, большая фотография (военный оркестр), шахматная доска с трещиной».4821 Это три символа его судьбы: короткий, на одном «пере», взлёт, военный оркестр – «воинственная, напирающая, яркая сила», и «трещина», необратимый слом. С чердака его сняли насильно, не поняв его страхов, не посчитавшись с уязвимостью его личности и не угадав за всем этим мощного, но требующего крайне бережного обращения таланта.
Болезнь избавила Лужина от школы, но его старались избавить от шахмат. Не удалось: за границей, куда его увезли, он сначала разыгрывал в уме партии, а затем, на немецком курорте, случился турнир, на котором, играя с «солиднейшими немецкими игроками», он, четырнадцатилетний, завоевал третий приз. По возвращению, после смерти матери, в Россию, он играл во многих городах, а затем появился «некий Валентинов, что-то среднее между воспитателем и антрепренёром».4832
«Амюзантнейший господин» Валентинов воспользовался бестолковостью отца и равнодушием к нему сына, чтобы при первой же возможности отца оттеснить и успеть выгодно выставить на шахматной арене странного вундеркинда. Он спешил, потому что угадал: этот «феномен» обещает стремительный, но короткий взлёт (как волан с одним пером). «Блещи, пока блещется», – сказал он после того незабвенного турнира в Лондоне, первого после войны, когда двадцатилетний русский игрок оказался победителем».4843 Нещадно эксплуатируя и без того скоротечный дар своего подопечного и намеренно изолируя его от всего, что не входило, по его мнению, в «определённый режим», Валентинов проявил себя поистине злым гением Лужина, ведя его, с неукоснительной неизбежностью, к тотальному выгоранию: «За всё время совместной жизни с Лужиным он безостановочно поощрял, развивал его дар, ни минуты не заботясь о Лужине-человеке, которого, казалось, не только Валентинов, но и сама жизнь проглядела».4854
Для Лужина Валентинов оказался первым человеком в его жизни, который с предельной энергией и целеустремлённостью взялся прокладывать ему дорогу к шахматным успехам, взяв на себя всё, что для этого было необходимо: организацию турниров, заботы о переездах, гостиницах, встречах с «нужными», влиятельными людьми; он решал за Лужина, что ему есть и что пить, что можно и что нельзя, – словом, освобождал своего подопечного от досадной и ненужной суеты повседневности, а заодно и от мыслей о других эмпиреях человеческих отношений, оставляя ему пространство лишь для чистой радости упражнения в играх «прелестных, незримых шахматных сил». И благодарный Лужин привязался к своему попечителю и «относился к нему так, как может сын относиться к беспечному, ускользающему, холодноватому отцу, которому никогда не скажешь, как его любишь».4861
Да, Лужин чувствовал что-то одностороннее и унизительное в такой опеке: от ловкого и циничного дельца, авантюриста по призванию, каким был Валентинов, ждать человеческого тепла, эмпатии не приходилось. Впоследствии «Лужин, вспоминая то время, с удивлением отмечал, что между ним и Валентиновым не прошло ни одного доброго человеческого слова».4872 Но освободиться от этой зависимости он сам не был способен. Освободил (бросил) его Валентинов, поняв, что пик успеха прошёл, и всё, что можно было выжать из этого «феномена», он выжал, и дальше он будет ему только обузой. Для Лужина же это было «облегчением, тем странным облегчением, которое бывает в разрешении несчастной любви… И всё же, когда … Валентинов исчез, он почувствовал пустоту, отсутствие поддержки».4883
С точностью диагноста отслеживает Набоков травмы, причиняемые Лужину негодными или откровенно злокозненными попечителями: обоими родителями, школой, отцом, Валентиновым. И вот он один, ему тридцать лет, он предоставлен самому себе – и что же? «Оглядываясь на восемнадцать с лишним лет шахматной жизни, Лужин видел нагромождение побед вначале, а затем странное затишье, вспышки побед там и сям, но в общем – игру вничью, раздражительную и безнадёжную, благодаря которой он незаметно прослыл за осторожного, непроницаемого, сухого игрока».4894 «Венчик избранности, поволоку славы» Лужин обрёл благодаря ранним своим выступлениям, теперь же, при всей смелости его воображения в периоды подготовки к турнирам, во время самого состязания «тем ужаснее он чувствовал своё бессилие … тем боязливее и осмотрительнее он играл».4905 Особенно болезненно воспринял Лужин поражение в матче с итальянцем Турати, шахматистом родственного ему дерзкого стиля, на фоне игры которого он, когда-то поражавший оригинальностью приёмов, выглядел теперь потускневшим, чуть-чуть старомодным. Лужин чувствовал, «как медленно он последнее время шёл», но, не останавливаясь, не щадя себя, «с угрюмой страстью» продолжал искать «ослепительную защиту» – ответ на дебют Турати. Возвратившись с кладбища, где недавно был похоронен отец, Лужин ночью почувствовал себя дурно – «будто мозг одеревенел и покрыт лаком». По совету врача он поехал отдохнуть в тихое, приятно «очевидное» тем, что было знакомым, место – на маленький немецкий курорт, где он когда-то был с отцом.
Век успеха носителя синдрома саванта короток – ранняя вспышка на «острове гениальности», а затем неизбежный закат. Но траектория, дальность полёта, более или менее благополучное плавное приземление очень зависят от совершенно необходимого сопровождающего лица – от его понимания, бережности, такта, умения быть посредником между обитателем «острова гениальности» и окружающим миром, в котором он, чаще всего, беспомощен.
Тучный, обрюзгший, опустившийся, давно привыкший воспринимать «внешнюю жизнь» как «нечто неизбежное, но совершенно не занимательное», замечавший «только изредка, что существует», из-за одышки или больного зуба, – таким появился Лужин в курортной гостинице.4911
Живое, улыбающееся лицо, которое вдруг, как сквозь прорванную завесу, возникло перед Лужиным, кажется ему знакомым, и как будто бы знакомым кажется даже голос: «Таково было первое впечатление, когда он увидел её, когда заметил с удивлением, что с ней говорит». Это якобы узнавание, «это впечатление чего-то очень знакомого», какие-то «смутные прообразы», что-то, что ему «мерещилось по странным признакам, рассеянным в его прошлом», всё это обернулось моментом неожиданного доверия к «ней» («она» так и останется – без имени) – ведь больше всего он всегда боялся нового, неизвестного. И тогда он «почувствовал успокоение и гордость, что вот, с ним говорит, занимается им, улыбается ему настоящий, живой человек»; мало того: «Лужин начал тихими ходами, смысл которых он чувствовал очень смутно, своеобразное объяснение в любви».4922 Действительно, «своеобразное» – Лужину, взволнованному не совсем понятным ему волнением, срочно захотелось показать ей зал, в котором шестнадцать лет назад происходил турнир, о котором он уже начал ей рассказывать и в котором он, тогда четырнадцатилетний, взял третий приз: «Ах, как ясен был образ пустой, прохладной залы, – и как трудно было её найти!». В этом отчаянном броске, в надежде найти следы прошлого, и, может быть, связать, восстановить нить прерванного успеха, он, однако, очень быстро обнаружил, что одинок: «Я не могла за вами поспеть», – только и крикнула она ему со своего балкончика.4933 Бросив его, заблудившегося в поисках, точно в дурном сне, она подорвала его хрупкое доверие и повергла в бегство – на следующее утро он уехал в Берлин. И был прав – она «не поспеет» за ним. Об этом – дважды – уже было его же невольное и неосознанное пророчество. Сначала, в конце четвёртой главы: «Плохо запирается... В прекрасный день вы всё выроните», – это Лужин сказал по поводу дамской сумочки, полукруглой, из чёрного шёлка (на что похожей – на сломанную пешку?), читателю ещё даже неизвестно, кому принадлежащей. Второй раз: «Непременно всё высыплется, – сказал Лужин, опять завладев сумкой», – первая фраза шестой главы, а следующая: «Она быстро протянула руку, отложила сумку подальше, хлопнув ею об столик, – как бы подчёркивая этим запрет».4941 Всё, что она попытается вложить в Лужина, взявшись опекать его, «высыплется», она не убережёт его от гибели, «выронит».
В её облике, отмечает автор, «чего-то недоставало её мелким, правильным чертам. Как будто последний, решительный толчок, который бы сделал её прекрасной, оставив те же черты, но придав им неизъяснимую значительность, не был сделан … и был у неё один поворот головы, в котором сказывался намёк на возможную гармонию, обещание подлинной красоты, в последний миг не сдержанное».4952 В последний миг, последовав за воодушевлённым Лужиным искать памятную ему «залу», она не сдержала обещания разделить с ним надежды и разочарования жизненно важных для него поисков, «не поспела» за ним. Крайне ранимый, предельно чувствительный, он наутро уехал в Берлин, догадавшись, поняв, прозрев – что ему и впредь, как в этот раз, придётся, «топчась и озираясь», вопрошать: «Где же она?».
И всё же он вернулся. И этому было объяснение: «…до самого пленительного в ней никто ещё не мог докопаться» (а Лужин докопался – потому и вернулся!). «Это была таинственная способность души … выискивать забавное и трогательное; постоянно ощущать нестерпимую, нежную жалость к существу, живущему беспомощно и несчастно ... и казалось, что если сейчас – вот сейчас – не помочь, не пресечь чужой муки ... сама она задохнётся, умрёт, не выдержит сердце».4963 У неё был незаурядный, ярко выраженный, ищущий себе применения талант эмпатии: «…ей мерещилось что-то трогательное, трудноопределимая прелесть, которую она в нём почувствовала с первого дня их знакомства».4974 Полный, мрачный человек, с угрюмой кривой улыбкой, «кто-то совсем особенный, непохожий на всех других», знаменитый, как оказалось, шахматист, недавно потерявший отца, «артист, большой артист», как часто думала она. «Никогда она ещё не встречала близко таких людей – не с кем было его сравнить, кроме как с гениальными чудаками, музыкантами и поэтами...».4985 Её всегда тянуло к людям, задевавшим её воображение, и теперь «слишком много места занял угрюмый, небывалый, таинственный человек, самый привлекательный из всех ей известных. Таинственно было самое его искусство, все проявления, все признаки этого искусства».








