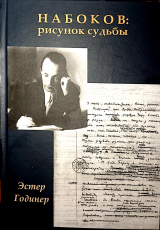
Текст книги "Набоков: рисунок судьбы"
Автор книги: Эстер Годинер
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 45 страниц)
Путешествие, приключение – и не только воображаемое, по книгам, но и по опыту заграничных, в детстве, поездок – эти понятия становятся настолько ключевыми в сознании Мартына, что даже эвакуация из Крыма воспринимается им как тоже своего рода странствие, где (уже в Греции), «стоя с Аллой на взморье, он с холодком восторга говорил себе, что находится в далёком, прекрасном краю», и ему чудится «ветер, наполнявший когда-то парус Улисса».6632 Затем, в Швейцарии, в доме дяди Генриха, где он прожил до поздней осени: «“Путешествие”, – вполголоса произнёс Мартын, и долго повторял это слово, пока из него не выжал всякий смысл… И в какую даль этот человек забрался, какие уже перевидал страны, и что он делает тут, ночью, в горах, – и отчего всё в мире так странно, так волнительно … и Мартын с замиранием, с восторгом себе представлял, как – совершенно один, в чужом городе, в Лондоне, скажем, – будет бродить ночью по неизвестным улицам».6643
Этот воодушевляющий Мартына дух путешествий сопровождало «чувство богатого одиночества, которое он часто испытывал среди толпы, блаженное чувство … это чувство было необходимо для полного счастья».6654 И оказавшись впервые в Лондоне, он сходу, на радостях, завёл мимолётную интрижку и, не пожалев, что поплатился по неопытности половиной имевшейся при нём суммы, наутро, «чтобы как-нибудь облегчить душу» – так ему «хотелось прыгать и петь от счастья», попросту полез на уличный фонарь.6665 Как, спрашивается, такого жизнерадостного юношу, которому для счастья и всего-то нужно – свободы вымечтанных с детства приключений и блаженства духовного одиночества, – как оказалось возможным перенаправить его на гибельный и бесполезный маршрут?
Авторскими ухищрениями: взрыхлив и удобрив за первое лето швейцарскую почву, так, чтобы осталась она в памяти Мартына ностальгическими зрительными образами («на заднем плане первых кембриджских ощущений всё время почему-то присутствовала великолепная осень, которую он только что видел в Швейцарии»6676) и одновременно постепенно приручая стоическую мать-англоманку к слезоточиво-сентиментальному, но и прочно заземлённому, практичному буржуа дяде Генриху, коварный сочинитель подстерегает своего героя в Англии с тремя сюрпризами долгосрочного и рокового действия.
Первый сюрприз – Соня Зиланова, младшая дочь петербургских знакомых, у которых Мартын остановился на неделю в Лондоне. Она сразу и безошибочно угадала в его характере самое уязвимое – самолюбие: «Соня донимала его тем, что высмеивала его гардероб … и английское произношение … тоже послужило поводом для изысканно насмешливых поправок. Так, совершенно неожиданно, Мартын попал в неучи, в недоросли, в маменькины сынки. Он считал, что это несправедливо, что он в тысячу раз больше перечувствовал и испытал, чем барышня в шестнадцать лет».6681 Он, в своём воображении уже спасавший креолку в бурном море после кораблекрушения, оказался совершенно беспомощным перед девчонкой, щёлкающей его по носу. И дело здесь не только в молодости и неопытности Мартына: на последних страницах романа ему придётся услышать из уст хоть и пошлого, и полупьяного, но проницательного Бубнова – «из-за неё ещё не один погибнет».6692
Вторым сюрпризом, начиная с Кембриджа, станет Дарвин, назначенный автором в сквозное, до конца романа, сопровождение Мартыну. Он – универсален, многофункционален: он и трогательно заботливая «мамка», как называет его Вадим, – Мартыну он подробно объясняет «некоторые строгие, исконные правила», принятые в Кембридже. Он же, по словам курирующего Мартына профессора, «великолепный экземпляр. Три года в окопах, Франция и Месопотамия, крест Виктории, и ни одного ушиба, ни нравственного, ни физического. Литературная удача могла бы вскружить ему голову, но и этого не случилось».6703 Если поверить – прямо-таки настоящий герой «романтического века», не имеющий никакого отношения к «потерянному поколению» и не знавший никакой «послевоенной усталости». А если добавить сюда для пикантности ещё и «собрание номеров газеты, которую Дарвин издавал в траншеях: газета была весёлая, бодрая, полная смешных стихов … и в ней помещались ради красоты случайные клише, рекламы дамских корсетов, найденных в разгромленных типографиях»,6714 то и вовсе можно подумать, что Первая мировая война была для Дарвина эдакой прогулкой по разным странам с озорными приключениями молодого трикстера. Такой Дарвин – это даже не человек, а манифест, некий условный антипод и одновременно подобие тех «красных рыцарей» советской литературы, которых Набоков высмеивал в фельетоне «Торжество добродетели». Дарвин для Мартына – воплощение всех превосходных качеств в превосходной степени, пример для подражания, за исключением, оговаривает автор, писательства, к каковому Мартын не имеет никакой расположенности. Поэтому и нет зависти, а есть «тёплое расположение», и Мартын может идти «с ним рядом, подлаживаясь под его ленивый, но машистый шаг».6725 Дарвин нужен автору, чтобы дать Мартыну образец, модель для подражания, референтную личность, и ввергнуть его в гонку за лидером до тех пор, пока Дарвин, старше Мартына на несколько лет, не сойдёт с беговой дорожки – остепенится, заведёт невесту, разумно и рационально устроит свою жизнь и покинет игры века «романтического», отдав предпочтение «практическому». Перед последним своим броском Мартын останется одинок и не понят.
Наконец, третий сюрприз – личный подарок от автора – кембриджская биография Мартына, очень похожая на собственную, но с поправкой в одном пункте: «…ко множеству даров, которыми я осыпал Мартына, я умышленно не присоединил таланта».6731 Более того, будучи любознательным – все науки казались Мартыну занимательными, – он, волей автора и для чистоты эксперимента, «постепенно отстранил всё то, что могло бы слишком ревниво его завлечь»,6742 (курсив мой – Э.Г.), – очевидно, дабы ненароком не случилось ему каким-то ревностным увлечением всё-таки «утолить зуд бытия» и уклониться от предначертанного рока. Да и впрямь, «мечтательной жизнерадостности» Мартына, совсем ещё юной, слишком рано было всерьёз позволить «ревниво его завлечь» в какую-либо конкретную область научных знаний. Слишком бурно ещё бродил в нём «невыносимый подъём всех чувств, что-то очаровательное и требовательное, присутствие такого, для чего только и стоит жить».6753 Время и обретение зрелости могли бы подготовить Мартына к осознанному выбору самореализации, но именно в этом автор ему отказал.
«Оставалась ещё словесность. Были и в ней для Мартына намёки на блаженство», – и Набоков соблазняет своего героя следовать по своим стопам, заведомо зная, что словесность не станет призванием Мартына, каковой она стала для него самого, позволив осуществить свой, подлинный подвиг. Автор не преминул отметить, что и в словесности «так бы он, пожалуй, ничего не выбрал, если бы всё время что-то не шептало ему, что выбор его несвободен, что есть одно, чем он заниматься обязан. В великолепную швейцарскую осень он впервые почувствовал, что в конце концов он изгнанник, обречён жить вне родного дома. Это слово “изгнанник” было сладчайшим звуком. Мартын посмотрел на чёрную еловую ночь, ощутил на своих щеках Байронову бледность и увидел себя в плаще. Этот плащ он надел в Кембридже… Блаженство духовного одиночества и дорожные волнения получили новую значительность. Мартын словно подобрал ключ ко всем тем смутным, диким и нежным чувствам, которые осаждали его».6764
Весь этот приведённый отрывок, в сущности, представляет собой программный документ, своего рода подорожную грамоту, вручённую автором своему герою. Здесь фиксируется всё: несвобода и неизбежность выбора, осознание себя изгнанником, присвоение себе Байроновой бледности как символа «сладчайшего звука» миссии изгнанничества, и, наконец, сама эта миссия как «ключ», оправдание «блаженства духовного одиночества» и «дорожных волнений». Последние получают определённый адрес – Мартын теперь не просто любитель путешествий и приключений, а посланец автора с поручением, которое нельзя не выполнить. А русская словесность, русская история – это не для приобретения специальности, а паспорта, удостоверения, документа, в том единственном виде, который Мартын будет признавать для себя при переходе границы. Поэтому он не желает в Кембридже разговаривать о России революции, Ленина и Троцкого, а хватает в ответ томик Пушкина и начинает его сходу переводить. Это – его Россия, и другой он не признает даже под угрозой смерти. Автор, поднаторевший на составлении шахматных задач, мучительным лабиринтом, но целеустремлённо ведёт его к поставленной цели. Посмотрим, как это получится.
Так же, как и Набоков, оказавшись в Кембридже, Мартын «почувствовал себя иностранцем», и «дивясь, отмечал своё несомненное русское нутро… И вообще всё это английское, довольно, в сущности, случайное, процеживалось сквозь настоящее, русское, принимало особые русские оттенки». 6771 Приступив к изучению русской словесности и истории, Мартын поначалу был «поражён и очарован» преподававшим эти предметы профессором Арчибальдом Муном, про которого говорили, что «единственное, что он в мире любит, это – Россия», но который полагал, что после октябрьского переворота той, прежней России больше нет, она прекратила своё существование, так же, как, например, в своё время – Вавилон.6782 (Как уже упоминалось, идентичный взгляд постулирует в «Других берегах» сам Набоков: «…кончилась навсегда Россия, как в своё время кончились Афины или Рим»).6793 Гражданскую войну Мун полагал нелепой: «…одни бьются за призрак прошлого, другие за призрак будущего».6804 Этой фразой Мартын ответил Соне на её вопрос, собирается ли он ехать к Юденичу.
«А вот мне не нравится, что говорят пошлости», – отрезала на это Соня в его адрес.6815 Он и так заранее боялся её насмешек, когда Зилановы, мать и дочь, в первый раз приехали навестить его в Кембридже, – и вот, получил оплеуху. В следующий раз, когда Мартын с Дарвином приехал в Лондон, чтобы провести выходные дни у Зилановых, он, «как обычно при встрече с Соней, мгновенно почувствовал, что потемнел воздух вокруг него», он ощущал «странное отупение», «под непроницаемым взглядом Сони показалось, что одет он дурно, что волосы торчат на макушке, что плечи у него как у ломового извозчика, а лицо – глупо своей круглотой… Прочное ощущение счастья … распадалось в присутствии Сони мгновенно».6821 Когда позвонил Дарвин и предложил всем вместе поехать на бал, «Соня, поломавшись, согласилась», но затем сказала Мартыну, что «устала и никуда не поедет». Дарвин, заехавший за ними с тремя билетами, уехал ни с чем. «Большое свинство», – заметил Соне по этому поводу Мартын. Но Соня снова передумала и упрекнула Мартына, что он Дарвина не задержал. Позвонив Дарвину, она, «в бальном платье цвета фламинго», вприпрыжку сбежала на бал. «Вместо радости за друга Мартын почувствовал живейшую досаду… “Чёрт её побери”, – пробормотал он и некоторое время рассуждал сам с собой, не отправиться ли ему тоже на бал».6832 И далее, чтобы отвлечься, Мартын начал утешаться фантазиями на тему романтических приключений с какими-то воображаемыми женщинами, причём автор, заявляя о своём герое как о бездарном, на самом деле демонстрирует его фонтанирующим сочинителем, выдерживающим конкуренцию с осуждаемым «вралем» Смуровым.
Зигзагообразному поведению Сони пора поставить диагноз. Когда Мартын чувствует, что в её присутствии «темнеет воздух вокруг него», а ощущение счастья немедленно «распадается», он совершенно адекватен. В современной психиатрии Соню без колебаний отнесли бы к типу личности, определяемой как шизогенный эмоциональный вампир. Единственная рекомендация, которая даётся в таких случаях потенциальной жертве, – немедленно прекратить все отношения с носителем этого синдрома. В противном случае возможен процесс, ведущий к эмоциональному истощению и даже попыткам суицида. Именно это качество характера Сони явится главным фактором, вовлекающим Мартына в химеру поиска доказательств того, что он заслуживает другого с её стороны отношения, что он способен на подвиг. Замечание, которое отец Сони сделал Мартыну: «Баклуши бьёте. Там ведь главное – спорт»,6843 не вовсе лишено оснований. Но дело, конечно, не в спорте, а в том, что у Мартына по молодости (ему в романе – от 15-ти лет до 21-го года), по нереализованности ещё способностей и склонностей, нет пока своего дела, призвания, которое могло бы служить защитным барьером от посягательств эмоционального вампира, оградило бы Мартына самодостаточностью. Всё, чем он пока располагает, – это воображение, болезненное самолюбие и постоянный рефрен: «Хорошо путешествовать… Я хотел бы много путешествовать»,6854 заключающий в себе слишком широкий и неопределённый спектр романтических и героических импульсов и потому легко поддающийся манипуляциям. И когда Мартын в начале летних каникул, в Швейцарии, получает письмо от Дарвина с Тенерифы, а дядя Генрих читает ему нотацию о допустимости путешествий только после окончания учёбы и напоминает ему, как ждала его на каникулы мать, герой, пренебрегая назначенной с ней у грота встречей для совместной прогулки, неожиданно меняет маршрут и отправляется (повинуясь чувству протеста за отказ дяди поддержать его идею о путешествии, например, на Канарские острова) с риском для жизни одолевать выступ скалы.
Описание этого эпизода таково, что он воспринимается как головокружительный, почти физически, по сантиметрам скалы ощущаемый и, главное, абсолютный и совершенно самодовлеющий подвиг. Требуется усилие, чтобы осознать, что мысли о матери, сидящей и ждущей у грота, ни тогда, ни позже в голову Мартыну не приходит. А вот Дарвина, невольного, письмом из Тенерифы, провокатора этого скалолазания, он воображал «глядящего на него с усмешкой» из-за нерешимости повторить снова тот же маршрут. Так, между Соней и Дарвином, и чем дальше, тем больше, будет накапливаться потенциал, толкающий Мартына на последнее в его жизни путешествие.
«И с язвительным чувством недовольства собой он в октябре вернулся в Англию».6861 В ночном разговоре с Соней у Зилановых, в спальне её недавно умершей сестры, куда Соня приходит к Мартыну, автор вынуждает героя выслушивать её героико-этические индоктринации, что «самое главное в жизни – это исполнять свой долг и ни о чём прочем не думать».6872 И это в ответ на замечание Мартына, что он «чуть не погиб… Да-да, чуть не погиб. Высоко в горах. Сорвался со скалы. Едва спасся». На эти слова Соня лишь «смутно улыбнулась», оставшись совершенно бесчувственной к происшествию, которое могло бы стоить Мартыну жизни, и взамен снабдив его максимой о неукоснительном выполнении долга. Зато в ситуации ночной спальни, потенциально чреватой сексуальной провокацией, но как бы не понимая этого, она вдруг вскинулась, мгновенно и до слёз оскорблённая, когда Мартын не удержался и «обнял её, прильнув губами к её щеке». Сбежав, она назвала его дураком, но на следующий день простила, «потому что все швейцарцы кретины, кретин – швейцарское слово – запишите это».6883
Так оно дальше и пойдёт: «Существование Сони, постоянное внимание, которого оно вчуже требовало от его души, мучительные её приезды, издевательский тон, который у них завёлся, – всё это было крайне изнурительно».6894 Да и остальные близкие человеческие связи в жизни Мартына начали меняться в неблагоприятную сторону: «Вообще, в этот последний университетский год Мартын то и дело чуял кознодейство неких сил, упорно старающихся ему доказать, что жизнь вовсе не такая лёгкая, счастливая штука, какой он её мнит».6903 Впоследствии Софье Дмитриевне, матери Мартына, пришлось задним числом пожалеть, что когда она «безумно боялась, что Мартын, ничего ей не сказав, отправится воевать», она несколько утешалась тем, что «там, в Кембридже, есть какой-то человек-ангел, который влияет на Мартына умиротворительно, – прекрасный, здравомыслящий Арчибальд Мун».6914 Но в Муне – из-за того, что тот относился к России «как к мёртвому предмету роскоши» – Мартын через какое-то время разочаровался, и хотя Гражданская война уже кончилась, иногда, тем не менее, он «представлял себе в живописной мечте, как возвращается к Соне после боёв в Крыму», и раздражался на мать, когда она говорила: «Видишь, это было всё зря, зря, и ты бы зря погиб».6925
И с Дарвином были теперь у Мартына «свои счёты»: с мучительной ревностью он «представлял себе Соню и Дарвина вдвоём в тёмном автомобиле… И невероятно было тяжко, когда Соня приезжала в Кембридж: Мартыну всё казалось, что хотят от него отделаться».6936 Сониной походкой, в определении автора – «мелкого, неверного, всегда виляющего Сониного шага» – вполне можно обозначить и повадки её характера: «Мартын размышлял о том, что ... вот уже третья – последняя – кембриджская зима на исходе, и он, право, не может сказать, что она за человек, и любит ли она Дарвина».6947 Мартын – голкипер, ему предстоит важный матч, а Соня демонстративно спрашивает при нём у Дарвина – может быть, это не так интересно и не стоит идти. Тем не менее, он лелеет надежду, что «среди толпы есть кое-кто, для кого стоит постараться», а после перерыва «Мартын с нового места опять высматривал Соню». Напрасно – Соня и Дарвин, как оказалось, «давно драпу дали».6958 «Ему сделалось тяжело и горько» – она всё равно не видела, как он удержал последний, трудный, под самую перекладину, мяч. Застав Соню в комнате Дарвина, на кушетке, Мартын вместо поздравлений был встречен лишь попрёками, что наследил. Зато она нашла «уморительным» рассказать Мартыну о только что сделанном ей Дарвином предложении руки и сердца: «Вот я чувствовала, что это должно произойти: зрел, зрел и лопнул». И «темно» (курсив мой – Э.Г.) взглянув на Мартына, Соня явно провокативно, в нарочито оскорбительных выражениях («но ведь это дуб, английский дуб … не настоящий человек … никакого нутра…» и т.д.) начала прохаживаться насчёт его друга. Возражая ей («Дарвин – умный, тонкий … он писатель…»), Мартын, однако, быстро спасовал, поддался на провокацию, решив, что «есть предел и благородству». Его подхватила «сияющая волна, он вспомнил … что он здоров, силен, что завтра, послезавтра и ещё много, много дней – жизнь, битком набитая всяким счастьем, и всё это налетело сразу, закружило его, и он, рассмеявшись, схватил Соню в охапку, вместе с подушкой, за которую она уцепилась, и стал её целовать … и наконец он уронил её … на диван…». Вошедшему Дарвину было объяснено, что «Мартын швыряется подушками… – Подумаешь, – один: ноль, – нечего уж так беситься».6961
Из этого стравливания Дарвин выйдет невредимым, разве что ценой всего-навсего борцовского поединка с Мартыном, а вот герою и в самом деле несдобровать: зову этой сирены он обречён внимать, пока не потерпит крушение. Ему уже приходило в голову, вспоминая, подмечать «некую особенность своей жизни: свойство мечты незаметно оседать и переходить в действительность, как прежде она переходила в сон: это ему казалось залогом того, что и нынешние его ночные мечты, – о тайной, беззаконной экспедиции, – вдруг окрепнут, наполнятся жизнью…».6972
Это «вдруг» возымело силу с окончанием университета и отъездом Зилановых в Берлин. В сцене прощания с Соней в их доме Мартын выглядит как никогда несчастным и беспомощным («чувствовал, как накипают слёзы»); она же, напротив, упражняется в предельном спектре своей «виляющей» повадки, от: «Ах, вообще – отстань от меня!» – через: «Ты всё-таки очень хороший … и ты, может быть, когда-нибудь приедешь в Берлин» – до издевательского «тубо» из лексикона дрессировки собак.6983 Воздушный поцелуй Сони из удаляющегося вагона – и вот уже Мартын, на обратном пути в Кембридж, мечтает: «Моя прелесть, моя прелесть … и, глядя сквозь горячую слезу на зелень, вообразил, как, после многих приключений, попадёт в Берлин, явится к Соне, будет, как Отелло, рассказывать, рассказывать…», и он мысленно «принялся готовиться к опасной экспедиции, изучал карту, никто не знал, что он собирается сделать, знал, пожалуй, только Дарвин, прощай, прощай, отходит поезд на север…».6994 Вагонный сон, в котором Соня «говорила что-то придушенно-тепло и нежно», побудил Мартына похвастаться Дарвину: «Я счастливейший человек в мире… Ах, если б можно было всё рассказать», в ответ на что получил поздравление благородного друга: «Что ж, я рад за тебя»,7005 но и хорошую взбучку в кулачном бою, о чём не жалел, «ибо так плыл раненый Тристан сам друг с арфой».7011
Следующий толчок в заданном направлении Мартын получил от дяди Генриха, который был «твёрдо уверен, что эти три года плавания по кембриджским водам пропали даром, оттого что Мартын побаловался филологической прогулкой … вместо того, чтобы изучить плодоносную профессию».7022 По его мнению, «в этот жестокий век, в этот век очень практический, юноша должен научиться зарабатывать свой хлеб и пробивать себе дорогу».7033
Надо сказать, что пока этот персонаж говорит о вещах чисто прагматических, он естествен и, для своего образа, убедителен, но когда автор препоручает ему, не по рангу, изложение историософских идей Шпенглера (как бы к ним ни относиться), да ещё на фоне идиллической картинки тишайшего уголка провинциальной Швейцарии, – мы сталкиваемся с тем самым случаем «тирании автора», когда читателю навязывается фельетонного жанра восприятие, долженствующее убедить его в тем большей правоте противоположного мнения: Мартыну на этом фоне предписывается предстать, по контрасту, носителем высокой, пафосной истины, низводящей до жалкого «чёрного зверька» дяди тревожные настроения, имевшие широкое хождение в европейском общественном мнении 1920-х – 30-х годов и отнюдь не сводящиеся к предрассудкам и страхам ограниченного швейцарского провинциала. Мартыну казалось, что «лучшего времени, чем то, в котором он живёт, прямо себе не представишь. Такого блеска, такой отваги, таких замыслов не было ни у одной эпохи».7044 И далее следует, на целую страницу и от имени героя, изложение идей Ландау – Набокова из «On Generalities».7055
Раздражение, вызываемое дядей, и письма Сони – не такие, какие бы ему хотелось, – и Мартын, проведя в Швейцарии почти год, решает ехать в Берлин. Там он быстро понял, «что нечего ждать от Сони, кроме огорчений, и что напрасно он махнул в Берлин».7066 Тем не менее, «от ночных мыслей об экспедиции, от литературных бесед с Бубновым, от ежедневных трудов на теннисе он снова и снова к ней возвращался», – она же, по своему обыкновению, продолжала то заигрывать с ним, то отталкивать, а однажды сказала то, что должно было его особенно задеть: отвечая на свой же вопрос – «А если я другого люблю?» – заметила: «У него есть по крайней мере талант, а ты – никто, просто путешествующий барчук».7071 Мартын догадался, что с Дарвином было то же самое, написал Соне письмо и несколько дней не появлялся, но очередной манипуляцией она выманила его на прогулку, с которой было положено начало игре в Зоорландию – некую воображаемую страну с изуверскими порядками, пародирующими советскую Россию. И хотя Мартын «терзался мыслью, что она, быть может, изощрённо глумится над ним…», и даже «если это был со стороны Сони обман, – всё равно его прельщала возможность пускать перед ней душу свою налегке».7082
Следующей весной «впопыхах» вернувшись в Берлин, Мартын был в состоянии, когда ему «мерещилось (так полны приключений были его зимние ночи), что он уже побывал в той одинокой, отважной экспедиции, и вот – будет рассказывать, рассказывать».7093 И не в силах противостоять этому состоянию, он, торопясь опередить «знакомое опустошительное влияние её тусклых глаз», спешно кинулся обещать Соне, что так когда-нибудь и будет, на что получил ответ «тоном пушкинской Наины», что «ничего никогда не будет».7104 Пророчество, увы, окажется верным. Когда после долгого ночного ожидания Сони у дверей её дома она воскликнула: «Ты меня оставишь когда-нибудь в покое?» – Мартыну «стало казаться, что не только Соня, но и все общие знакомые как-то его сторонятся, что никому он не нужен и никем не любим»7115 (курсив мой – Э.Г.), это были уже признаки тяжёлого душевного кризиса на грани паранойи.
«И наконец, чувствуя, что ещё немного, и он превратится в Сонину тень и будет до конца жизни скользить по берлинским панелям, израсходовав на тщетную страсть то важное, торжественное, что зрело в нём», Мартын решает уехать куда-нибудь, чтобы «в очистительном одиночестве» окончательно разработать свой план. Элементы риторики («торжественное, очистительное») настраивают на сакрального характера коду, ведущую к скорому финалу, однако он мучительно оттягивается ещё пятьюдесятью страницами текста, на которых Мартын выясняет свои отношения со всем и со всеми, что привязывает его к жизни и что ведёт его к смерти.
Случайный попутчик, француз, на котором Мартын проверяет впечатление от своих, в обобщённом виде правдивых объяснений целей своего путешествия, решает, что над ним просто смеются. Кто же поймёт, что им движет «любовь, нежность к земле, тысячи чувств, довольно таинственных?».7121 Переходя из вагона в вагон, он вспомнил своё детское путешествие по югу Франции, и «какая странная, странная выдалась жизнь, – ему показалось, что он никогда не выходил из экспресса, а просто слонялся из одного вагона в другой», – и он перечисляет всех, кого он успел узнать в этой странной жизни. Теперь же, решает Мартын, «пешочком, пешочком … лес и вьющаяся в нём тропинка … какие большие деревья!».7132 Память возвращает его в детство, манит его к тем огням, которые он уже видел когда-то через ночное окно, – и он спрыгивает на платформу ближайшей станции.
Юг Франции, работа на ферме – прецедентом в своё время было бегство туда самого Набокова после разрыва помолвки со Светланой Зиверт; затем туда же был отправлен Ганин, в последний момент отказавшийся встретить Машеньку; и вот, теперь Мартын собирается подготовить себя здесь к тому, что он понимает как акт проявления избранничества. Ему кажется, что «случай помог ему найти труд, на котором он может проверить и сметливость свою, и выносливость»,7143 что этот опыт нужен ему только для одной, давно уже намеченной цели. Но вот однажды он видит дом с надписью «Продаётся». И как же легко Мартын поддаётся соблазну: «В самом деле, – не лучше ли отбросить опасную и озорную затею, не лучше ли отказаться от желания заглянуть в беспощадную зоорландскую ночь, и не поселиться ли с молодой женой вот здесь, на клине тучной земли, ждущей трудолюбивого хозяина?».7154 Прорывается здесь в нём подлинное, ненадуманное – здоровая, молодая жажда жизни и счастья; из последних сил цепляется он за клочок земли и дом на нём, чтобы спастись от самовнушённой цели. «Пытая судьбу», он написал Соне, и получив ответ, «облегчённо вздохнул». Почему «облегчённо»? Потому что подтверждается нужный автору приговор, вынесенный Соней и неукоснительный для Мартына: «Да не мучь ты меня, – писала Соня. – Ради Бога, довольно. Я не буду твоей женой никогда. И я ненавижу виноградники, жару, змей и, главное, чеснок. Поставь на мне крест, удружи, миленький».7165 В тот же день Мартын уезжает, но едва поезд тронулся, его «пронзило мгновенное желание выскочить, вернуться на благополучную, на сказочную ферму. Но станция уже сгинула».7176 Сгинуть суждено и ему, обречённому быть влекомым химерой доказательства Соне неоцененных ею сверхценных его устремлений.
С этого момента в силу вступает мотив «Прощай, прощай» – ещё пунктирный, ещё прерываемый какими-то попутными делами, встречами, рутинной суетой жизни, – но уже всё окрашивающий щемящей нотой расставания. Прибыв в Швейцарию, он уже на следующий день «снова, на тот же несколько всхлипывающий мотив, подумал: “Прощай, прощай”, – но сразу пожурил себя за недостойное малодушие».7181 Швейцарская природа снова напоминает ему русскую, «вот такую же прохваченную солнцем осеннюю глушь», и он снова, на этот раз уверенно и спокойно, проходит знакомый карниз. Неудача разговора с Грузиновым, усмотревшим в затее некоего «Коли» лишь вздорное и самоубийственное мальчишество («Передайте Коле, чтобы он оставался дома и занимался чем-нибудь дельным»), только ожесточает Мартына: «…чёрт с ним, совесть чиста, теперь можно спокойно уложить вещи и уехать».7192
В день отъезда Мартыну казалось, что всё, что он видит, – он видит в последний раз. В поезде мысль о смерти, которая поутру «едва волновала его», к вечеру «входила в силу и к ночи иногда раздувалась до чудовищных размеров». Здесь, впервые в романе, воображение Мартына рисует образ, зримо похожий на сцену расстрела в стихотворении «Расстрел» (1929) и на последний взгляд героя с плахи в «Ульдаборге»: «…человек … покашливает, улыбается, и вот – стал и раскинул руки».7203 В Берлине, когда он вышел с вокзала в город, «все его чувства были заострены, – ему казалось, что он запоминает лица всех встречных, воспринимает живее, чем когда-либо, цвета, запахи, звуки».7214 Он «умоляюще» думал, что вот, как бы он хотел незнакомой девушке за соседним столиком станционного буфета рассказать, намекнуть «на далёкий путь, на опасность, и как она будет плакать».7225
И куда только подевалась «мечтательная жизнерадостность» Мартына, его «чувство богатого одиночества», которое всегда его «веселило», его природная одарённость «живым и общительным нравом», когда ему хотелось просто так «прыгать и петь от счастья»? Всё это было, пока не выдалась Мартыну «тяжёлая, неудачная неделя», с которой, три года назад, началось его знакомство с Соней. И вот теперь мы видим несчастного человека, мечтающего поговорить хотя бы со случайной соседкой «в гулком зале буфета», почти затравленно озирающегося по сторонам, запечатлевая, в последний раз, картинки городской жизни, и даже автомобильные гудки «теперь звучали как-то отрешённо, мелодично и жалобно».7236
Хотя ещё во Франции Мартын твёрдо решил, что Соню он больше никогда не увидит, «глухая работа» его сознания нашла предлог зайти к Зилановым, попрощаться с её родителями, пока она всё равно на работе. Но Соня была дома и открыла ему дверь. Из дальнейшего разговора явствует, что Мартын по-прежнему совершенно от неё зависим: «…он не смеет ничего ей сказать важного, не смеет намекнуть на последнее её письмо, не смеет спросить, выходит ли она за Бубнова замуж, – ничего не смеет. Он попытался вообразить, как будет вот тут … сидеть после возвращения, как она будет слушать его».7241 Он видит, что ей с ним тягостно, неинтересно, и что она «своим молчанием как бы нарочно старалась довести его до крайности, – вот он совсем потеряется и выболтает всё: и про экспедицию, и про любовь, и про всё то сокровенное, заповедное, чем связаны были между собой эта экспедиция и его любовь».7252 Асимметрия их отношений безнадёжно очевидна. У Сони «озарилось лицо», только когда появилась возможность телефонным звонком «хорошенько заинтриговать» Дарвина; Мартына же она не преминула походя назвать невежей, однако пригласила зайти «как-нибудь вечерком» и на прощанье осудила его шляпу.7263 Привычная игра Сони с Мартыном – на издёвку – по-видимому, неизбывна; и несмотря на его заметно странное поведение и «прощай» с отчаянным поцелуем, она ничего не заподозрила.








