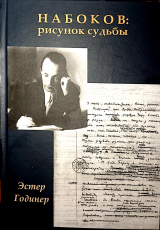
Текст книги "Набоков: рисунок судьбы"
Автор книги: Эстер Годинер
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 45 страниц)
Этот воображаемый «Я»-Смуровым разговор6183 может показаться слишком умильным плодом очередного «взмаха воображения», но даже если это так, он – не на пустом месте. Та «бабочка Смурова», которая вылетела из оранжерейного климата петербургских ценителей Чехова, была в лёт сбита палкой Кашмарина. Молодая, неопытная особь, одинокая, оставшаяся без своей стаи, она вынуждена была закуклиться, нарастить прочный, надёжный кокон, из которого можно показываться экзотического вида гусеницей весьма пёстрой, непредсказуемых переливов окраски. И только пройдя болезненный курс мимикрии, она распустила обновлённые крылья к итоговой встрече с Кашмариным и его к ней подготовив – для достойного взаимопонимания и примирения. На эту встречу Смуров явился, имея теперь твёрдую почву под ногами: он защищён, он не даст себя в обиду, будучи теперь способным смотреть на окружающих его людей и обстоятельства своей жизни без излишней драматизации. Но при этом он сохранил и доброту, и чувство юмора, и умение наслаждаться – например, запахом ландышей: «Я опять стал нюхать холодные цветы, скрывая в них своё удовольствие и благодарность».6191
Они оба на отлично выдержали этот экзамен на предпоследней, итоговой странице романа, оставляющей до неловкости светлое чувство. И – самое главное – на крыльях новой, выстраданной разновидности «бабочки Смурова» мы различаем, среди прочего, но в фокусе, организующем центре, тот же «Глаз-Я» (Eye-I), тот же рисунок врождённой, неистребимой зрячести, неуничтожимый «оригинал», унаследованный с первых страниц, из прошлой жизни Смурова, теперь же, однако, на последней странице, отмеченный противоположным знаком – минус сменился на плюс. Бывший несчастный носитель постоянной болезненной рефлексии своего «Я» открыл для себя, что если научиться правильно пользоваться прирождённой остротой своего зрения, если научиться управлять ею, она может стать секретом счастья. Соглядатай финала – это, прежде всего, глашатай «того замечательного, что есть во мне, – моей фантазии, моей эрудиции, моего литературного дара». Развитие этих качеств было бы невозможно, не обладай герой своей всепроникающей наблюдательностью и способностью к рефлексии. Что и обещает счастье – творческой самореализации. А что «сам по себе я пошловат, подловат», так ведь ещё Пушкин не делал секрета из этого:
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон…
.....................................................
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснётся,
Душа поэта встрепенётся,
Как пробудившийся орёл.
Не могло бы это стихотворение стать эпиграфом к роману?
«ПОДВИГ»: «…НО СЕРДЦЕ, КАК БЫ ТЫ ХОТЕЛО…»
Со следующим романом, в конечном варианте получившим название «Подвиг», Набоков справился на удивление быстро и, по видимости, как бы даже легко. Едва закончив «Соглядатай» и в конце февраля 1930 года устроив читку первой главы, он затем готовит и читает доклад «Торжество добродетели» – язвительную сатиру на советскую литературу, а в марте за десять дней сочиняет рассказ «Пильграм».
В самом начале мая, не передохнув и не отведя какое-то специальное время на вынашивание и обдумывание нового текста, он начинает было писать, но на две недели делает перерыв, отлучившись в Прагу, к родным, где ему устраиваются – и успешно – чтения, и он успевает ещё, со знакомым специалистом, предаться радостям энтомологии. Вернувшись в Берлин, он возобновляет работу и, меньше, чем за полгода, к концу октября, уже имеет в своём распоряжении черновик, по объёму втрое больше предыдущего произведения. И всё это – в изрядно оскудевшем русском Берлине, где приходилось отвлекаться, зарабатывая на жизнь, хоть как-то поддерживать оставшиеся литературные связи и, вдобавок, всю весну и лето отбиваться от вопиющей кампании, затеянной против него Георгием Ивановым, Зинаидой Гиппиус и их союзниками в новом журнале «Числа» – рупоре всё той же «парижской ноты», отторгавшей творчество Набокова как инородное тело в русской эмигрантской литературе.6201
Понятно, однако, что столь выстраданное, мучительное повествование, каким, в конечном итоге, получился «Подвиг», далось писателю Сирину отнюдь не так просто и легко, как это могло показаться поверхностному взгляду со стороны. Дискретность автора бывала обманчивой, прикрывая тайные треволнения души внешней светской безмятежностью. И только в поэзии подчас откровенно прорывается то, что не даёт покоя и ищет какого-то, в творческой переработке, разрешения зависшей неотвязной проблемы.
В данном случае, кончик нити, ведущей к разгадке, торчит на самом видном месте. Находим у Бойда: «План следующего романа уже созрел у Набокова… Эта тема впервые прозвучала в написанном в апреле стихотворении “Ульдаборг” (перевод с зоорландского)».6212 В сноске Бойд указывает, что опубликовано оно было 4 мая в «Руле».6223 «Ульдаборг», таким образом, хронологически и тематически, выполняет функцию эпиграфа, в котором идея романа предстаёт в чудовищно обнажённом, страшном виде: герой, вернувшийся на родину, превратившуюся в Зоорландию, презрительным смехом встречает предстоящую ему казнь:
Погляжу на знакомые дюны,
на алмазную в небе гряду,
глубже руки в карманы засуну
и со смехом на плаху взойду.6231
Вот это напророчил Набоков герою романа, приступая к его написанию?
Сама тема, однако, – не только романа, а шире, всего того, что легло в его основу, – тема ностальгии и возвращения, прозвучала отнюдь не впервые. Напротив, разматывать, ухватившись за этот кончик, придётся целый клубок – до самого детства. Иначе не поймём, как дошло до плахи.
Сошлёмся снова на когда-то уже приводимую цитату из «Других берегов»: «На адриатической вилле … летом 1904 года … предаваясь мечтам во время сиесты ... в детской моей постели я, бывало ... старательно, любовно, безнадёжно, с художественным совершенством в подробностях (трудно совместимым с нелепо малым числом сознательных лет), пятилетний изгнанник, чертил пальцем на подушке дорогу вдоль высокого парка, лужу с серёжками и мёртвым жуком, зелёные столбы и навес подъезда, все ступени его … – и при этом у меня разрывалась душа, как и сейчас разрывается. Объясните-ка, вы, нынешние шуты-психологи, эту пронзительную репетицию ностальгии!».6242
По-видимому, до тех пор, пока снова можно было ступить на эти ступени и дотронуться до зелёных столбов, исключительно острая ностальгия, которой страдал этот исключительно одарённый ребёнок, отступала до следующего раза, полноценно компенсировалась реальным возвращением в реальный деревенский дом. В городском же акварель с таинственным лесом над детской кроватью устойчиво выполняла свою, другую по направленности функцию: влекла бессонного фантазёра из дома, в мир приключений, также всегда манивший и подчас толкавший на авантюрные попытки побегов от настырных наставников.
Оба дома были навсегда утрачены 2(15) ноября 1917 года, когда отец проводил двух старших сыновей на поезд, шедший до Симферополя. С этого времени, начавшись в Крыму, ностальгия уже никогда не покидала Набокова и породила кумулятивный процесс, с подъёмами и спадами, но и с общим нарастанием напряжённости по мере истончения надежды на возвращение. Творчески этот процесс канализировался в первую очередь и главным образом через стихи, ставшие исповедальной нишей, в которой Набоков избывал свою боль и пестовал, пока была, надежду. Русский «монпарнас» парижских законодателей литературной моды напрасно упрекал Набокова в холоде и высокомерии по отношению к исповедальному жанру, казавшемуся им наиболее уместным для «нашего трагического времени», да и сам Набоков охотно поддерживал эту свою репутацию. Но даже маленький сборник стихов, отобранный автором за год до смерти и составляющий неизвестно какую малую часть его поэтического наследия, – подлинный компендиум интимного, доверительного стихотворчества, посвящённого теме ностальгии и возможного-невозможного возвращения.
Именно потому, что поэзию Набоков отвёл для себя как жанр для излияний исповедальной муки, он что есть сил старался не выходить для этих нужд за его пределы, а если уж выходил – в рассказ, публицистику, драму или, тем более, роман – это означало, что стало совсем невтерпёж, на крик. Прослеживается это почти как диаграмма, пик которой, похоже, и пришёлся на 1930 год. Попробуем проверить предполагаемый маршрут, нащупать вешки, прибегая к помощи позднейших автобиографических признаний Набокова – умудрённого, обращённого в прошлое взгляда.
Итак, «Крым показался мне совершенно чужой страной: всё было не русское ... решительно напоминало Багдад ... и вдруг, с не меньшей силой, чем в последующие годы, я ощутил горечь и вдохновение изгнания».6251 Нет нужды приводить список стихотворений, написанных тогда с ностальгической нотой, но вот заключительное четверостишие последнего – «Россия», написанного за месяц с небольшим до отплытия:
Ты – в сердце, Россия. Ты – цель и подножие,
Ты – в ропоте крови, в смятенье мечты.
И мне ли плутать в этот век бездорожия?
Мне светишь по-прежнему ты.6262
Следующая вешка – Кембридж: «Настоящая история моего пребывания в английском университете есть история моих потуг удержать Россию. У меня было чувство, что Кембридж … только для того, чтобы обрамлять и подпирать мою невыносимую ностальгию… Под бременем этой любви я сидел часами у камина, и слёзы навёртывались на глаза от напора чувств».6273 Вот и одно из красноречивых свидетельств:
В неволе я, в неволе я, в неволе!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . .
. . . . . .. . . . .. ..Передо мною дом
туманится. От несравненной боли
я изнемог…6284
А это из Берлина лета 1921 года:
Кто меня повезёт
по ухабам домой…
. . . . . . . . . . . . . . . .
Кто укажет кнутом,
обернувшись ко мне,
меж берёз и рябин
зеленеющий дом?6291
Поток ностальгических стихов неизбывен и дальше, но вот в 1925 году появляется программного значения стихотворение «Путь»,6302 в котором «великий выход на чужбину» переосмысливается как «божественный дар», а новой отчизной «весёлым взглядом» определяется весь мир. «Отраду слов скупых и ясных прошу я Господа мне дать» – вот единственное, что важно и нужно, и ради чего стоит «в лесах подальше заплутать». И тогда:
За поворотом, ненароком,
пускай найду когда-нибудь
наклонный свет в лесу глубоком,
где корни переходят путь, –
то теневое сочетанье
листвы, тропинки и корней,
что носит для души названье
России, родины моей.
В этом стихотворении, назначая себя гражданином мира, для того, чтобы исполнить своё предназначение в творчестве и обретая тем самым «весёлый взгляд», Набоков пытается сбросить с себя гнёт ностальгии, а надежду на встречу с Россией оставляет на «когда-нибудь», «за поворотом, ненароком», в том самом лесу, который когда-то, через картинку, увлекал его из дома, в приключения. Памятная акварель над детской кроваткой получает, таким образом, и обратный адрес – путь домой. Такой она будет подарена Мартыну, главному герою, через пять лет написанного романа. Но заявив его лишённым способности к творческой самореализации, автор, тем самым, как бы полагает правомерным лишить его и собственного самооправдания, необходимого для ощущения полноценности жизни вдали от родины. «Ненароком», «когда-нибудь» Мартыну не будет позволено надеяться на встречу с Россией, и придётся отправиться прямиком, по прогнозу «Ульдаборга», – на верную гибель.
Судя по тому, какое, особенно с 1926 года, последовало интенсивное роение ностальгических стихов и призыв им на помощь образцов других жанров, «Путь» так и не помог Набокову избавиться от ностальгии. Россия мерещится ему повсюду. В Шварцвальде, где он сопровождает своего ученика и где «в темноте чужбины горной я ближе к дому моему», так как там имеются «приметы, с детства дорогие, равнины северной моей».6311 С другим учеником, на лыжном курорте, в стихотворении «Лыжный прыжок» он воображает, что «над Россией пресечётся моя воздушная стезя».6322 Ему снится: «…я со станции в именье еду», и он молится: «Господи, я требую примет: кто увидит родину, кто нет».6333
В поддержку стихам Набоков пишет рассказ без названия, стилизованный под деревенскую прозу и подписанный псевдонимом. Рассказ не был опубликован, но в нём впервые опробован сюжет «Подвига»: герой нелегально пробирается через границу, чтобы увидеть свою бывшую усадьбу.6344 В том же 1926 году мечта об освобождении России от большевиков слегка коснулась даже жанра романа: Ганин в «Машеньке», оказывается, «когда-то думал: проберусь в Петербург, подниму восстание». Что не удалось Ганину, пробует взять на себя центральный персонаж пьесы «Человек из СССР» Алексей Кузнецов, который руководит в СССР конспиративной организацией и собирается с её помощью либо свергнуть советскую власть и вернуть всех эмигрантов на родину, либо погибнуть. Премьера состоялась 1 апреля 1927 года и имела большой успех, но повторить спектакль не удалось – не было средств.
Наконец, тяжёлая артиллерия публицистики кажется завершающим аккордом в долгом, изнурительном противостоянии Набокова наплывам ностальгии. В эссе «On Generalities» он заимствует оптимистические идеи «романтического века» Г. Ландау, впоследствии наделяя ими героя «Подвига» Мартына, самое имя которого изымается у другого Мартына – героя высмеянного в докладе «Торжество добродетели» произведения советской литературы. Вдогонку, как бы для убедительности оптимизма, в 1927 году сочиняется стихотворение «Билет»,6355 в котором выражается надежда на скорое, в ближайшем будущем, обретение билета, а на нём – «невероятной станции названье». Однако хронологически оно оказывается между двумя другими, 1927 и 1928 годов, оба под одним названием – «Расстрел».6366 Их концовки:
Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звёзды, ночь расстрела
и весь в черёмухе овраг.
1927
Всё. Молния боли железной.
Неумолимая тьма.
И воя, кружится над бездной
ангел, сошедший с ума.
1928
На таких качелях раскачивалась ностальгия Набокова, пока не взмыла к роману, пока не легла «на русский берег речки пограничной моя беспаспортная тень» (1929).6371 Анамнез предстоящего рассмотрению романа восходит, таким образом, к самомý врождённому, «солнечному» темпераменту Набокова, щедро поощрённому его «счастливейшим» детством и потому крайне чувствительному ко всему негативному, что противоречило заданному природой оптимизму. Розовые очки гипертимика и способность творческого преображения реальной картины мира в воображаемую и желаемую, до поры до времени спасали Набокова от «дуры-истории» и её мрачных интерпретаторов. Но не бесконечно: кумулятивный эффект накопленной ностальгической горечи и изнемогающей надежды на возвращение, после более чем десяти лет капельного, точечного противостояния, потребовал мощной волны романного выплеска. Любой ценой – пусть даже ценой обречённости на гибель главного и очень симпатичного персонажа – требовалось Набокову отбиться от наваждения отчаяния, побуждавшего представлять себе и себя в навязчивых картинах перехода границы и расстрела.
Потому и выглядит процесс создания этого романа почти нарочито быстрым и лёгким – как бы между прочим, среди других и суетных дел происшедшим, – что давно, всю эмигрантскую жизнь он вынашивался и дозрел до своего рода экзорцизма, разом исторгнувшего накопившееся. Многие же, сейчас распространённые и до странности прекраснодушные трактовки этого романа скорее свидетельствуют о том, что М. Маликова называет влиянием «тирании автора»: «Читателю настойчиво предлагается читать … по законам, признанным над собою автором … полностью подчиняясь “тирании автора”, причём попутно исследователем может вскрываться множество интересных оттенков смысла», однако в целом «такая стратегия чтения сводится к полной имитации автора».6382 Набокову было желательно, чтобы не только персонажи, но и читатели, и даже специалисты-филологи были бы его «рабами на галерах».
Однако самый надёжный раб – это тот, которому удаётся внушить, что он свободный человек. От первоначальных названий романа – «Романтический век», «Золотой век» – пришлось отказаться. Таких «рабов» в эмигрантских читательских кругах на рубеже 1920-х – 30-х годов не нашлось бы: кроме Набокова, пафосные восхваления «романтического» ХХ века в духе Ландау никто не разделял. От века пришлось перевести акцент на человека, от фанфар общего – к индивидуальному «Воплощению». Но и это название не устояло, уступило место «Подвигу» – деянию исключительному, героическому, рациональному анализу неподвластному; отступать дальше некуда – придётся поверить. Из современников едва ли не один Г. Струве усомнился в психологической мотивировке действий героя романа.6391
Сорок лет спустя, в 1970 году, в «Предисловии к американскому изданию», автор «Подвига», с 1945 года гражданин США, уже десять лет живущий в Швейцарии, предпочёл затушевать подлинные мотивы, побудившие его написать этот роман. Ссылаясь на «весьма привлекательное рабочее заглавие» – «Романтический век», – Набоков пытается, пользуясь неискушённостью американского читателя, подменить причину написания романа идеологическим прикрытием и триггером: ему де тогда «надоело слышать, как западные журналисты зовут наше время “материалистическим”, “практическим”, “утилитарным” и проч.,», и целью романа, оказывается, было «наглядно показать, что мой молодой изгнанник находит восхитительную прелесть в самых обыкновенных удовольствиях, равно как и в бессмысленных на первый взгляд приключениях одинокого житья-бытья».6402 Если такова была цель романа, то зачем было отправлять «молодого изгнанника» на верную гибель? Не входя в объяснения, автор тем не менее утверждает: «Фуговая тема его судьбы – достижение цели; он из числа тех редких людей, мечты которых сбываются. Но достижение это само по себе неизменно пронизано бывает острой ностальгией. Воспоминание детской грёзы соединяется с ожиданием смерти… “Достижение цели” было бы, наверное, ещё более удачным заглавием романа».6413
Итак, один и тот же герой в одном романе имеет две взаимоисключающие цели. Из этого следует, что либо он страдает тяжёлым раздвоением личности, либо эти две разные цели поделены между двумя похожими, но всё же разными личностями: автора и персонажа. Что этот роман носит отчасти автобиографический характер, очевидно, и доказывать не приходится. Представляя в предисловии Мартына «до некоторой степени моим дальним родственником», Набоков лукавит: его герой подчас – прямо-таки раскавыченная автоцитата из «Других берегов» или эссе «Кембридж». Например, авторское замечание, что «герой “Подвига” не слишком интересуется политикой (в том смысле, что он индивидуалист и не желает быть членом какой бы то ни было организации), и в этом заключается первый из двух главных трюков чародея, создавшего Мартына»,6421 оставляет чувство неловкости, поскольку эта черта характера Мартына – чистая калька с автора, и чародейства здесь никакого нет. Однако, с другой стороны, – и в самом главном – Набоков действительно всерьёз дистанцируется от своего героя: «Второй же взмах моей волшебной палочки значит вот что: ко множеству даров, которыми я осыпал Мартына, я умышленно не присоединил таланта. До чего легко было сделать из него художника, писателя; как нелегко было удержаться от этого и в то же время одарить его изощрённой чувствительностью, которая обычно свойственна твари творческой; как жестоко было не позволить ему найти в искусстве – не убежища … но утоления зуда бытия! (курсив мой – Э.Г.). Возобладало искушение совершить свой собственный маленький подвиг в сияющем, всеобъемлющем ореоле».6432
Эти откровения семидесятилетнего Набокова помогают понять, зачем понадобился ему же, но тридцатилетнему, «трюк» наделения Мартына собственным, равнодушным отношением к политике, и, напротив, с какой целью он, размахивая «волшебной палочкой», объявил о лишении своего героя творческих способностей, оставив, однако, ему свою же «изощрённую чувствительность», с которой теперь неизвестно что делать, если нет возможности творчески её реализовать. Если учесть, какое воздействие оказывает на Мартына «неизъяснимо обворожительная», но при этом «взбалмошная и безжалостная кокетка» Сонечка, а мать к тому же осмеливается вступить во второй и неодобряемый сыном брак, то что же ему остаётся, как не кинуться на заведомую амбразуру. Всё это нужно было для создания стерильных условий иначе совершенно бессмысленного поступка – Мартына никто и ничто не держит, ради чего стоило бы воздержаться от самоубийственной тяги (в отличие от автора, успешно реализующего себя в творчестве и защищённого любовью близких). Мартын – это тот лишний «раб на галере», которого Набоков вместо себя бросил в набежавшую волну ностальгии. Жертва, подтверждающая порой декларируемую автохарактеристику: «Я очень добрый человек, но не очень добрый писатель».
«Подвиг», так же как «Машенька», выпадает из ряда романов, целенаправленно ведущих к «Дару» поиском модели идеального Творца. В «Машеньке» Ганин – раб-избавитель от ностальгии по первой любви, в последний момент, в финале, неожиданно отправленный подальше от неё, в принудительную ссылку. Точно так же в «Подвиге»: герою приходится обречь себя на гибель, чтобы спасти своего создателя от клинической силы ностальгии. Автору здесь не до того, чтобы копаться в тех или иных достоинствах или недостатках творческой личности, лелеющей уподобиться «антропоморфному божеству». Роман не о том, каким должен быть творец, а о том, что он должен (якобы, добавим от себя) им быть, чтобы, вне родины, не просто физически выжить, но ещё и утолить зуд бытия, то есть сохранить вкус к жизни, сознание её смысла. Если Мартыну творцом быть не суждено, то, при изощрённой чувствительности, и выживание его не оправдано. И оставить след своей жизни он может, только пожертвовав ею, волей автора уйдя в никуда. Для иного читателя – волей неубедительной: если апология «романтического века» находит своё выражение в почти неприкрытом самоубийстве молодого, здорового, обаятельного и несомненно обладающего творческим потенциалом героя – реализован он или нет, – то что это за апология! Воинствующая гордыня неисправимого индивидуалиста, страдающего неустранимым импринтингом болезненной тоски по родине, магнитом, влекущим в запретную, смертью меченую зону, – только этим одним можно объяснить камлание, гнавшее автора совершить это жертвоприношение.
А теперь пройдёмся ещё раз по читанному уже, разумеется, тексту, проверяя предложенную гипотезу во всех подробностях и оттенках. С двумя упреждениями: во-первых, хотя «Подвиг» – роман, а не автобиография, но и на него, как и вообще на всякий текст, распространяется в высшей степени справедливая рекомендация М. Маликовой – «выбора сложной читательской позиции – оппозиционности по отношению к “авторской тирании”».6441 И во-вторых: тех, кого интересует мифологическая основа «Подвига», придётся переадресовать в совершенно другое русло трактовки этого романа, исключительно, и может быть, даже избыточно полноводное.6452 Нам бы – до Мартына-человека добраться, человеком Набоковым сочинённого, а то «сквозь витражное окно» изощрённых филологических изысков, да под завалами расписных фольклорных одеял со страшными Индрами и героико-трогательными Тристанами, Л. Леви-Брюлем и М. Элиаде и другими многими авторитетами удостоверенных, – его, бедного Мартына, а заодно и автора, уже как-то и не видно, и непонятно – с чего это они взялись подражать всем, начиная с Одиссея и до покорителей Эвереста, восславленных визионерами «романтического века». Роман этот, признаем, подлинная наживка для филологической охоты, но и – дымовая завеса. И желательно узнать – а что за ней, какая правда. За правду или за дымовую завесу поплатился герой жизнью.
Роман очень растянут, и читать его изнурительно: автор просмаковал тему до малейших нюансов, так что «душа разрывается» на всю исповедальную катушку. Но в то же время при желании его легко свести почти до дайджеста размера истории болезни, так как все вызвавшие её факторы функционально очень чётко распределены и взаимосвязаны.
Начнём с Эдельвейсов: эта родственная связь работает сразу для нескольких целей. Во-первых, она даёт возможность Мартыну в эмиграции обосноваться в Швейцарии, где сама природа постоянно напоминает ему пейзажи загородного дома в России: «Вдруг, с непривычным ещё чувством, Мартын вспомнил густую еловую опушку русского парка сквозь синее ромбовидное стекло на веранде … его поразил запах земли и тающего снега, шероховатый свежий запах, и еловая красота дядиного дома»6461 – это сразу по приезде. Летом того же, первого года, «Мартын … продолжал путь, любимую свою прогулку, начинавшуюся деревенской дорогой и тропинками в еловой глуши… Меж тем на душе у него было сумбурно, и чувство, не совсем понятное, возбуждали такие вещи, как дачная прохлада в комнатах … еловые лапы на синеве неба».6472 После первого семестра в Кембридже: «То первое рождественское возвращение, которое его мать запомнила так живо, оказалось и для Мартына праздником. Ему мерещилось, что он вернулся в Россию, – было всё так бело, – но, стесняясь своей чувствительности, он об этом матери тогда не поведал... Да, он опять попал в Россию. Вот эти великолепные ковры – из пушкинского стиха...».6483
Далее: состоятельный и щедрый дядя Генрих Эдельвейс оплачивает учёбу Мартына в Кембридже, давая возможность автору использовать свой автобиографический опыт для описания жизни Мартына в Англии. Кроме того, Набоков назначает дядю Генриха нарочито анекдотическим выразителем идей Шпенглера, Мартыном (и автором) не разделяемых: «А дядя Генрих … с ужасом и отвращением говорил о закате Европы, о послевоенной усталости, о нашем слишком трезвом, слишком практическом веке».6494 Этим обуславливается атмосфера противостояния, взаимного неприятия в отношениях между Мартыном и дядей Генрихом, заряженная эффектом выталкивания героя в нужном автору направлении, – это не тот дом, в котором Мартын может прижиться.
Наконец дядя Генрих женится на матери Мартына, и герой в связи с этим «спрашивал себя, как же теперь с нею встретится, о чём будет говорить, удастся ли ему простить ей измену. Ибо, как ни верти, это была несомненно измена по отношению к памяти отца, – а тут ещё угнетала мысль, что отчимом является пухлоусый и недалёкий дядя Генрих».6501 Всё это отталкивает героя, даёт ему ощущение, что он как бы лишний в этом новом семейном треугольнике.
В том же Предисловии к американскому изданию Набоков оговаривает, что «бледные родители» Мартына «ни в каком смысле не похожи на моих» и что их развод на Мартына никак не повлиял, и нет смысла видеть связь «между прыжком Мартына в своё отечество и его ранним безотцовством».6512 Родители действительно не похожи, но именно поэтому эту «связь» (как один из побудительных компонентов) заподозрить, вопреки мнению автора, по меньшей мере «простительно».
Мать Мартына «любила его ревниво, дико, до какой-то душевной хрипоты»,6523 но слыла «англоманкой и славу эту любила» (и старалась её подтвердить – теннис, велосипед, «красноречиво говорила о бойскаутах, о Киплинге»), и может быть, ради неё и переусердствовала – «не терпела уменьшительных» и «учила его, что выражать вслух на людях глубокое переживание … – не только вульгарно, но и грех против чувства».6534 Вообще, определение «англоманка» (в отличие от «англофильства» в семье Набоковых, понятие мании неизбежно несёт в себе негативную коннотацию) звучит как-то натужно и искусственно. Так или иначе, но, похоже, что максима о необходимости стоической сдержанности в выражениях чувств закрепилась не только «на людях», но и в отношениях между матерью и сыном, так что он, восьми лет отроду, постеснялся объяснить ей, что остриг дворовую собачку (нечаянно порезав ей ухо), потому что «собирался выкрасить её под тигра». За это преступление «она велела ему спустить штаны и лечь ничком. В полном молчании он сделал это, и в полном же молчании она его отстегала жёлтым стеком из бычьей жилы… Мартын ушёл в парк и только там дал себе волю, тихо извыл душу».6545 Неудивительно, что «рано научившись сдерживать слёзы и не показывать чувств, Мартын в гимназии поражал учителей своей бесчувственностью», а когда в пятнадцать лет обнаружил, что «подлинного, врождённого хладнокровия у него нет», он, боясь показаться трусом, решил это скрывать и «всегда поступать так, как поступил бы на его месте человек отважный. При этом самолюбие у него было развито чрезвычайно».6556
Когда мать весной 1918 года, в Крыму, сообщила Мартыну (по-английски!) о смерти отца: «Я хочу, чтобы ты был храбрым, очень храбрым, это о твоём отце, его больше нет», – он, отученный выражать ей свои чувства, лишь «побледнел и растерянно улыбнулся», и только потом «долго блуждал … с какой-то тёплой и томной убедительностью себе представляя, – что отец его рядом, спереди, позади … близко, далеко, повсюду».6561 Как и в случаях с собачкой, в гимназии, в отношениях со своими друзьями-приятелями в Крыму, так и при известии о смерти отца переживать свои подлинные чувства Мартыну приходится в одиночестве – мать к этому не располагает.
Отец же для него был очень важен: «Он думал об отце всей силой души»:6572 «Смерть отца, которого он любил мало, потрясла Мартына именно потому, что он не любил его как следует, а кроме того, он не мог отделаться от мысли, что отец умер в немилости».6583 Отец Мартына «врачевал накожные болезни, был знаменит», и когда мать, по своей инициативе, рассталась с ним, Мартын, тогда, видимо, одиннадцатилетний, бывал у отца по воскресеньям и был с ним «очень ласков и учтив, стараясь по возможности смягчить наказание, ибо считал, что отец удалён из дому за провинность,..».6594 Чувство жалости и вины за карающую десницу матери? Во всяком случае, смерть отца была осознана Мартыном как первая «излучина» в его жизни, как первый, пройденный им «плёс», что вот, здесь, «жизнь повернулась».6605 «Ленивый», с «мягкой улыбкой» отец, спокойно читавший газету во время детских визитов Мартына, тем не менее остался в его памяти как кто-то, чья утрата невосполнима и несправедлива. Набоков романа в данном случае очевидно убедительнее Набокова в Предисловии: утрата отца, память о нём, раздражающе инородное вторжение дяди Генриха в жизнь Мартына – из той осыпи, которая увлекала его в пропасть.
Мать же, так жаждавшая, чтобы сын всегда был с ней, не сознавая, ещё с детства, готовила его к «уходу в картинку». Их было две: одна из них – в книжке, где мальчик однажды перебрался в точно такую же, какая висела над кроватью Мартына; и он молился, чтобы мать не заметила и не убрала картинку со стены. «И разумеется, первые книги Мартына были на английском языке», почему и «западным братом Еруслана было в детстве разбужено его воображение. Да и не всё ли равно, откуда приходит нежный толчок, от которого трогается и катится душа, обречённая после сего никогда не прекращать движения»6616 (курсив мой – Э.Г.). Мать каждый вечер ему читала, а он просил ещё и ещё, и то волнение, которое он при этом испытывал, «было как раз тем чувством, которое мать и хотела в нём развить», и впоследствии, вспоминая то время, «он спрашивал себя, не случилось ли и впрямь так, что с изголовья кровати он однажды прыгнул в картину, и не было ли это началом того счастливого и мучительного путешествия, которым обернулась вся его жизнь».6621








