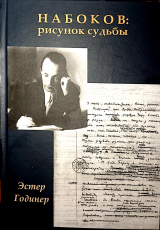
Текст книги "Набоков: рисунок судьбы"
Автор книги: Эстер Годинер
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 45 страниц)
За откровенно фарсовой, нарочито оглупляющей героя интонацией этой версии проглядывает ещё и сложившееся к этому времени негативное отношение Набокова ко всему, что он собирательно называл «христианизмом» (так, впрочем, он относился и ко всем другим, существующим в мире, нормативным религиям – это не его «сказки»: «…у меня чудесная, счастливая, “своя” религия»15433). Кроме того, косноязычный, не получивший сколько-нибудь систематического общего образования Чернышевский обещал стать лёгкой жертвой изощрённого мастера словесных игр, загодя поставившего перед собой цель дискредитации проповедника ложных, с его точки зрения, идей. Стиль изложения, неточные, без кавычек, цитаты, тенденциозность трактовок, передержки, домыслы, далеко не всегда уместная ирония, а то и откровенно издевательский тон, – всё это выдаёт безудержное желание автора во что бы то ни стало развенчать ложный и вредоносный образ, неразрывно сопряжённый в сознании Набокова с демоническими силами, опрокинувшими Россию в пропасть ленинизма-сталинизма. Однако эффект этих усилий порой грозит теряющему чувство меры автору не удержаться «на самом краю пародии» и соскользнуть туда, где уже никакой «своей правды» нет, а «пропасть серьёзного» за почти цирковыми выкрутасами автора уже и не разглядеть, – между тем, как это «серьёзное» слишком трагично, чтобы быть материалом, пригодным для перелицовки в пасквиль.
Так, отмечается, что ещё и «третья тема готова развиться», и «довольно причудливо» – интригуют читателя. Оказывается, это «тема путешествия», и биограф, как будто бы речь пойдёт о чём-то забавном, сам себе грозит пальцем: «…коли недоглядеть … может дойти Бог знает до чего – до тарантаса с небесного цвета жандармом, а там и до якутских саней, запряжённых шестёркой собак».15444 Подлежит ли такое «путешествие» столь игривому с ним обращению или это всё-таки уже за гранью даже гальванизированного смехачества?
С другой стороны, здесь можно усмотреть и некую месть, которой аукнулась Набокову давняя история: как уже упоминалось, в 1916 году, высмеяв в классе беспомощную любовную лирику изданного юным автором первого сборника его стихов, словесник и классный воспитатель Гиппиус дал ученику Набокову («возмутительно» позволившему себе в шестнадцать лет мечтать в стихах о возлюбленной, игнорируя переживаемое Россией трагическое время), штрафное задание: написать, начиная с восстания декабристов, сочинение об истории революционного движения в России. Однако, прочтя написанное, он в ярости прошипел: «Вы не тенишевец!». Что было в том гимназическом опусе – осталось неизвестно, но вот теперь, если не за декабристами, то за Чернышевским писателю Сирину отправиться в «путешествие» в Сибирь придётся: «тема» обязывает.
Гиппиус тогда не зря рассвирепел: он почувствовал в начинающем поэте герметичную, непроницаемую, упрямую замкнутость на своём внутреннем мире и совершеннейшую отрешённость от всего, что грозит помешать этому миру полноценно функционировать. Два года спустя, в Крыму (как об этом уже упоминалось в разделе о крымском периоде эмиграции),15451 он напишет программное стихотворение «Поэт», где утверждает своё право «с моею музою незримой» «быть в стороне» от всего, что происходит у него на глазах («мир сотрясается и старый переступается закон»), но определяется как некое условное, не относящееся к нему «там», которое «осталось где-то вдалеке».
Этот своего рода аутизм позднее оформился у Набокова в воинствующий антиисторизм, психологически помогавший писателю справляться с жестокими и унизительными гонениями «дуры-истории», которые ему приходилось претерпевать вместе со всеми беженцами из России. Однако, в отличие от поэтов и критиков-«парижан», он не желал предаваться отчаянию, а, «как бремя» чувствуя в себе литературный дар, во что бы то ни стало стремился его реализовать, «дурой-историей» пренебрегая. Но когда она его всё-таки слишком достала, добавив к русской Зоорландии ещё и немецкую, грозящую, к тому же, захлопнуться безвыходным капканом, «приглашающим на казнь», – вот тогда-то, в начале 1933 года, он не выдержал и в поиске ответа на вечный русский вопрос «Кто виноват?» засел за Чернышевского, в официальном его, в Советском Союзе, культе почувствовав если не корень, то символ того зла, которое лишило его родины, хотя, конечно, он не мог не понимать, что и сам Чернышевский был невольной жертвой российской «дуры-истории».
Однако в полной мере признать это – значило признать некие законы, действующие в истории, что Набоков, как известно, категорически отрицал, и это заранее обрекало его труд лишь на местное, временное терапевтическое действие – получить удовлетворение от «упражнения в стрельбе», высмеяв жалкое прожектёрство своего антигероя, но и – топорные реакции на него властей, вместе повинных, вкупе с ловкими и жестокими авантюристами, в гримасах превращения утопической мечты, обернувшейся фантастически реальной пародией на неё.
Заданность цели обусловила и утомительное постоянство интонации в трактовках, в тенденции повсюду и непременно находить обязательный изъян, дефект, порок, метку порчи. Например, в той же затеянной биографом теме «путешествий»: что, казалось бы, странного в том, что восемнадцатилетний Николя, только что прибывший в Петербург из далёкого провинциального Саратова, дивится Неве, обилию и чистоте её воды, – но рассказчик тут же не преминул заметить в скобках, что «он ею немедленно испортил себе желудок».15461 Он с «набожностью, обострённой ещё общей культурностью зрелища, крестился» на строящийся Исаакий? Высокомерно-снисходительным тоном родившегося в Петербурге аристократа по этому поводу отмечается: «…вот мы и напишем батюшке о вызолоченных через огонь главах, а бабушке – о паровозе».15472
Такое впечатление, что автор ищет любой предлог, чтобы не упустить случая выставить новоявленного обитателя столицы глупо восторженным, невежественным провинциалом, вдобавок помешанным на технических средствах достижения всеобщего блага: ему «особенно понравилось стройное распределение воды, дельность каналов: как славно, когда можно соединить это с тем, то с этим; из связи вывести благо».15483 Какой «дефект» есть в этом рассуждении? И какой новичок в Петербурге воспринимал бы это иначе? И что такого дурного в «гражданском счастье» «бедняги Белинского», сюда же, как «предшественника» (указан таковым в скобках), носителя «порчи» Чернышевского притянутого, – когда он, «изнурённый чахоткой … бывало, смотрел сквозь слёзы гражданского счастья, как воздвигается вокзал»15494 (между прочим, первый в Российской империи). Для того времени это было символом технического прогресса России, которым вполне допустимо было гордиться, и выставлять восторги Белинского пустой экзальтацией чахоточного «предшественника» – ниже всякого снисходительного вкуса.
Последовательно настаивая на том, что «такова уж была судьба Чернышевского, что всё обращалось против него»,15505 Набоков оставляет читателя по меньшей мере в недоумении – каким же образом удалость такому человеку заслужить признанный многими, слишком многими (и надолго!) ореол вождя, мыслителя. борца, общественного деятеля и, наконец, мученика, то есть, в самом деле, по мнению этих многих, «праведника», пострадавшего за «народное дело». Подробно останавливаясь на описании «возни» Чернышевского с перпетуум-мобиле, педалируя внимание на уличении его в разного рода проявлениях «смеси невежественности и рассудительности», пеняя ему, что у него «глаза, как у крота, а белые, слепые руки движутся в другой плоскости»,15516 – словом, избыточно, входя в мельчайшие детали, пытаясь доказать безнадёжную во всём бездарность Чернышевского, автор то ли не замечает, что его аргументы бьют мимо главной цели, то ли целенаправленно отвлекает от неё внимание, загодя обещав нам «тонкую ткань обмана» хитроумного «творца-заговорщика».
Ведь тот контингент людей, которые тянулись к Чернышевскому, вряд ли ждал от него ловкой, крестьянской или специальной, профессиональной технической сноровки в обращении со всякими «снарядами» – не его это был профиль и не их интерес. Точно так же вряд ли мешали кому-либо его очки – вполне ожидаемая принадлежность людей читающих, образованных, думающих. И уж точно от него, «семинариста», не ожидалось изысканного слога аристократа. Не это было важно его окружению – таким же, как он, «семинаристам» или вовсе «кухаркиным детям». А важно было то, что он «человек – прямой и твёрдый, как дубовый ствол, “самый честнейший из честнейших” (выражение жены)», – что признаёт и автор.15521 И при таких-то качествах – ещё и соболезнующий, сочувствующий, жаждущий действия, готовый рисковать собой, своим благополучием, вплоть до жертвенности во имя всеобщего блага, – он не мог не импонировать тем «мещанского» происхождения и нарастающего социального недовольства общественным группам, которые получили собирательное название «разночинцев» и система ценностей которых аристократу Набокову была чужда и непонятна. «Все на одной высокой и не совсем верной ноте» кажутся ему всегдашние просьбы и молодого Чернышевского – в письмах родителям, и в письмах его из Сибири – жене и сыновьям: «денег вдосталь, денег не посылайте», хотя из дневников известно, что порой он очень нуждался, в молодости умудряясь ещё и помогать своему другу Лободовскому.15532 В том, как это излагается автором, чувствуется высокомерное снисхождение к подобного рода заверениям как к некоей надуманной, экзальтированной позе, в то время как на самом деле это было искренним выражением всё той же потребности в жертвенности, понятной не только близким, но и единомышленникам из разночинцев.
«Всё, к чему он ни прикоснётся, разваливается»,15543 – общий, основополагающий тезис биографа, доказательства которого, язвительностью не щадя даже сугубо личных сторон жизни и характера Чернышевского, тем не менее, опять-таки, никоим образом не касаются ответа на главный вопрос: каким образом столь нелепый во всех отношениях человек оказался символом демократического движения в Российской империи 1860-х годов. Страницами, не стесняясь мелочных придирок к проявлениям самомалейших отклонений от его, авторского, аристократического вкуса и такта (мещанскому вкусу матери Чернышевского понравился в Петербурге хрусталь, и она унижалась до того, что ходила на поклон к профессорам филологического факультета, «дабы их задобрить»; сын же из почтительности называл её «оне», а на дорогу она купила – и вовсе смешно – огромную репу),15551 – Набоков пользуется любыми способами унизить своего героя. Жанру легкодоступной пародии здесь есть где разгуляться, тем более, что молодой, одинокий, робкий провинциал, впервые оказавшийся в северной и так не похожей на всю остальную Россию столице, уже сам по себе невольно карикатурен на этом фоне. А если ещё слегка передёрнуть и приписать свадьбу лучшего друга Лободовского к 19 мая 1848 года (вместо 16-го, как значилось в дневнике), дабы пришлась она точно на тот же день, шестнадцать лет спустя, когда состоится гражданская казнь Чернышевского,15562 – тем более неумолимой предстанет предречённая ему судьба. «Совпадение годин, картотека дат. Так их сортирует судьба в предвидении нужд исследователя: похвальная экономия сил», – торжествующе заключает довольный собой исследователь.15573
Рефлексии Чернышевского по поводу своей великодушной радости на свадьбе Лободовского (ведь и сам был неравнодушен к его невесте) – и вовсе доказательство нездоровой рассудочности его сердца.15584 Или: «Чернышевский плакал охотно и часто. “Выкатилось три слезы”, – с характерной точностью заносит он в дневник», – и с характерной неточностью цитирует автор (в дневнике написано: «…выкатились 3-4 слезы»), ещё и сочувствуя бедному читателю, который должен «мучиться невольною мыслью» насчёт возможности или невозможности непарного числа слёз.15595 Примеры такого рода можно продолжать: «тема слёз» оказалась очень увлекательной, а главное, легко поддающейся трактовке на гоголевский, гротескный манер.
Не отличаются «изящностью» и понятия Чернышевского о любви и дружбе: и здесь он страдает тем же серьёзным «пороком» – рассудочного, лицемерного их толкования: так, будучи влюблённым в молодую жену Лободовского, он воображает, что в случае болезни и смерти друга он благородно возьмёт на себя обязанности её мужа, – доказательство проницательности биографа, считающего такой тип мышления имеющим «утилитарную основу. Ведь иначе сердечных волнений не объяснить ограниченными средствами топорного материализма, которым он уже безнадёжно прельстился».15606 Иначе объяснить можно: двадцатилетнему сыну православного священника пристало чувствовать греховным своё влечение к жене друга – вот он и придумал себе пристойную сублимацию: если случится с Лободовским скоротечная чахотка (частое в те поры заболевание), он не оставит одинокой обездоленную молодую вдову. Топорный материализм здесь ни при чём.
Отметив в скобках, что слог Чернышевского – «слог, необыкновенно схожий с говорком нынешнего литературного типа простака-мещанина»,15611 повествователь очень близко подходит к необходимому обобщающему выводу: этот слог, видимо, был присущ определённой, в своё время сложившейся социальной среде, к которой принадлежал и Чернышевский, и следы его обнаруживаются даже у современного рассказчика «простака-мещанина». Однако, верный стоящему за ним подлинному сочинителю, писателю Сирину, обобщений не любившему, – он так и остаётся при своём мнении, упорно видя в косноязычии Чернышевского его исключительно персональный изъян. То же относится и к описанию метода, посредством которого вырабатывалось отношение Чернышевского «к понятию прекрасного». Логика Набокова такова: в поисках идеала женской красоты двадцатилетний Чернышевский, будучи близоруким, испытывал дефицит в «добыче живых особей, необходимых для сравнения» с Надеждой Егоровной, и потому обратился к «препаратам женской красоты, т.е. к женским портретам».15622 Отсюда делается вывод, что «понятие искусства с самого начала стало для него … чем-то прикладным и подсобным», чему виной, в свою очередь, объявляется загодя заготовленный Чернышевским для такого своего восприятия «близорукий материализм», опытным путём доказывающий превосходство красоты Надежды Егоровны, «т.е. жизни, над красотой всех других “женских головок,” т.е. искусства (искусства!)».15633
Восклицательный знак, как явствует из последующего изложения, обозначает тот возмутительный факт, что вчерашний провинциал-семинарист, а нынешний уже студент-петербуржец не успел освоить безупречный вкус рассказчика/автора, равно имевших аристократическое воспитание и получивших всестороннее образование, в том числе и по части живописи, и уж точно не прельстившихся бы счесть за высокое искусство выставленные в витринах Юнкера и Дациаро «поэтические картинки»15644 (гравюры и литографии в витринах художественных лавок на Невском проспекте)15655 и, тем более, «сличать черты» на картинках и «в жизни», находя притом «жизнь милее (а значит, лучше) живописи».15666 Эта «сорная идея» происходит, к тому же, из ложного понимания Чернышевским понятия «чистого искусства», – что само по себе справедливо, – несправедливо лишь требовать от Чернышевского понимания того, что не было заложено в его воспитании и образовании.
Более того: нисколько не удивительно, что новые жизненные обстоятельства подсказывали ему как нечто актуальное скорее «честное описание современного быта, гражданскую горечь, задушевные стишки»,15671 нежели неотложное постижение шедевров истинного искусства. Последнее могло бы случиться разве что с гениальным self-made’ом, (каковым Чернышевский не был), к тому же имеющим выраженное к искусству призвание, – но это не значит, что он был вовсе и во всех отношениях абсолютно бездарен.
Магистерская диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности», была написана, если верить источнику, в самом деле, «прямо набело», однако не «в три ночи», как значится в тексте, а за три с половиной недели, и была защищена 10 мая 1855 года, с последующим утверждением всеми инстанциями, кроме министра народного просвещения, который надолго задержал утверждение диплома, полученного Чернышевским лишь 11 февраля 1959 года, когда (со ссылкой на Стеклова, – сообщает Долинин) «он потерял всякий интерес к учёной карьере».15682
Всё потешает биографа-аристократа в дневнике его незадачливого героя из разночинцев: «…что сердце как-то чудно билось от первой страницы Мишле, от взглядов Гизо, от теории и языка социалистов, от мысли о Надежде Егоровне, и всё это вместе»,15693 – хотя что же удивительного в том, что крайне чувствительный от природы юноша, недавний семинарист, впервые знакомясь с трудами известного немецкого философа-гегельянца Карла Людвига Мишле или знаменитого французского историка и политического деятеля Франсуа Пьера Гийома Гизо и, тем более, спекулятивно-утопическими «теорией и языком социалистов», мог испытывать нечто вроде культурного шока. Понятно также, что естественное для этого возраста состояние влюблённости уравновешенности тоже не добавляло.15704
Автор, однако, беспощаден: и если штудирующий сложные для него тексты молодой человек надумает вдруг навестить своего друга (о жене которого он тайно воздыхает), то сочинитель отправит его срочно «лететь» туда в ненастный октябрьский вечер, и непременно по маршруту, специально для этого проложенному, – мимо воняющих «кислой вонью шорных и каретных лавок» и, разумеется, «проворным аллюром бедных гоголевских героев».15715 Так бедный Николай Гаврилович в момент оказывается разжалован из псевдо-евангельского второго Христа в весьма правдоподобного Акакия Акакиевича.15721
«Многопланная» маргинальная личность со всеми её треволнениями – исключительно благодарный материал для обладающего «многопланным» мышлением литератора: посредством балансирования то ли на грани, то ли за гранью пародии её можно подгонять под желаемые темы и образы, тем более, если без стеснения манипулировать таким деликатным источником, как дневник, которому пишущий поверяет свои самые сокровенные, не предназначенные постороннему глазу, сомнения души и разума, о «слоге» нимало не заботясь, – не это находится в фокусе его внимания. Глаз же биографа, напротив, устроен так, что он, не перенося неуклюжести «слога» (то есть, собственно, «формы» излагаемого), игнорирует то обстоятельство, что за неумелой «формой» порой кроется немаловажное «содержание». С другой стороны, не всякое «содержание» дневниковых записок без ведома и согласия автора достойно выставлять напоказ читателю. Например, чего проще, оглядываясь с почти вековой временной дистанции, высмеять бессонницу двадцатилетнего Чернышевского, озабоченного тем, удастся ли его другу «достаточно образовать жену, чтобы она ему служила помощницей, и, – продолжает Годунов/Набоков на одном дыхании, – не следует ли для оживления его чувств послать, например, анонимное письмо, которое разожгло бы в муже ревность».15732 На самом деле это два, совершенно разных случая. В первом, как легко догадаться, пусть в самой неуклюжей форме, – затронуты вопросы женской эмансипации, каковые витали в атмосфере того времени и той социальной среды и имели далеко идущие последствия в жизни российского общества. Во втором случае, никак с первым не связанном, Чернышевскому язвительно припоминается год назад промелькнувшая у него и тогда же им самим немедленно забракованная идея послать своему другу подмётное, для разжигания его ревности, письмо.15743
Эта насмешливо-морализаторская поза рассказчика, побуждающая его донести до сведения читателя давние и нереализованные намерения несостоявшегося интригана, явно пришлась ему по вкусу, и он тут же, повторно, применил её к случаю на сей раз из общественной сферы: в «студентском дневнике» Чернышевского он выискал идею «напечатать фальшивый манифест (об отмене рекрутства), чтобы обманом раззадорить мужиков; сам тут же окстился, – зная, как диалектик и как христианин, что внутренняя гнильца разъедает созданное строение и что благая цель, оправдывая дурные средства, только выдаёт роковое с ними родство».15754 Что порочная идея тут же была отброшена, биографа, однако, не удовлетворило, и он не прочь специально указать читателю на этот мимолётный эпизод, видимо, как на свидетельство неустойчивости морально-этических качеств столь значимой в памяти потомков исторической личности, даже и в возрасте двадцати двух лет обязанной быть совершенной, не подверженной и минутному соблазну.
Неприглядны и бытовые привычки героя: «Какой он был бедный, грязный и безалаберный, как далёк от соблазнов роскоши… Внимание!»15761 – призывают читателя, – и со вкусом, подробно описывается, «как изобретательный Николай Гаврилович» штопает свои старые панталоны, крася нитки чернилами и попутно испортив кляксами чужую книжку. Отсюда, в скобках, но почти пафосно, следует вывод, фактически возводящий чернила в ранг особой, отдельной темы: «…чернила, в сущности, были природной стихией Чернышевского, который буквально, буквально купался в них». «Чернилами же… – начинает было развиваться тема, – он мазал трещины на обуви, когда не хватало ваксы»,15772 – однако, как оказалось, даже на этот, всего лишь второй пример нетривиального применения чернил «властителем дум» его собственной изобретательности не хватило. «Эта деталь, – уличает Набокова Долинин, – взята не из дневника Н.Г., а из русской литературы ХIХ века» и перечисляет ряд персонажей из произведений Достоевского, Чехова, Бунина, практиковавших, из-за бедности, этот приём. Правда, замаскировать дырку в сапоге, завернув ступню в чёрный галстук, бедный студент Чернышевский хоть однажды, но догадался всё-таки сам (новые взял с собой, чтобы переобуться на экзамен), без литературной подсказки своего биографа.15783 «Бил стаканы, всё пачкал, всё портил: любовь к вещественности без взаимности», – продолжается неустанная бомбардировка читателя в стремлении убедить его в полной непригодности будущего кумира разночинной интеллигенции к какому бы то ни было практическому делу.
Делается запрос информации из каторжного будущего – ответ всё тот же: неумение что-либо делать своими руками, «но при этом постоянно лез помогать ближнему». Наконец, из всей этой, мягко говоря, не вполне приглядной комбинаторики источников и литературных реминисценций следует вывод биографа: «Мы уже видели мельком, как пихали на улице бестолково летящего юношу»,15794 – вывод, возвращающий нас на предыдущую страницу, где этот юноша, названный своим подлинным именем-отчеством – Николай Гаврилович – «летел проворным аллюром бедных гоголевских героев». Таким образом, сомнений нет: алхимией крепкого раствора пародийно-карикатурного жанра с эффектом минимизации масштаба фигуры и доведения до нелепости её облика автор силится втиснуть реальную историческую личность – Н.Г. Чернышевского – в рамки небезызвестного персонажа русской литературы, так называемого «маленького человека», на гоголевский, преимущественно, манер.
Напомним: модель «упражнения в стрельбе» старшего Годунова-Чердынцева, которую собирался воспроизвести в биографии своего антигероя Годунов-младший, предполагала не отстрел чужеродного окружения, а всего лишь его отпугивание, «чтобы не приставали». Писатель Сирин, похоже, поначалу надеялся реализовать задачу подобную: «отстреляться» от постоянных нападок эмигрантской критики, в которой ему слышались, среди прочего, и отзвуки идей Чернышевского, повинного в заражении эстетической чистоты русской литературы «материалистической» и «гражданственной» порчей. Проблема, однако, оказалась в том, что заняться биографией известного в России исторического лица – это не бабочек ловить в Тибете, игнорируя обитателей «грязного городишка» Лхасы. Чернышевский – исключительно симптоматичная для российской истории фигура, и пытаться лишить её этого контекста посредством гротеска, сводящего её к одной лишь пасквильной неприглядности, – значит обойти стороной подлинную трагедию русского народа, пленника огромной империи, в которой он оказался на непреодолимо далёкой социальной дистанции от центральной власти, и пренебрежимо малочисленной культурной элиты.
Полуграмотному и нетерпеливому посреднику-разночинцу, легко поддающемуся трагикомической интерпретации под насмешливым взглядом изысканного аристократа, представителю межеумочной, маргинальной среды, которая пыталась взять на себя функцию руководства социальными преобразованиями, – всем им, разночинцам, пекущимся о «народе», не хватило терпения и умения, чтобы постепенно, учась культуре компромисса, навести грамотные мосты между властью и этим «народом», – и всё рухнуло в тартарары вторичного одичания, революции.
«Вступает тема кондитерских»,15801 – почти торжественно объявляется читателю, и он становится свидетелем того, как, с бездумным кощунством, она обращается в безответственный фарс. Ибо случайное упоминание в романе «Что делать?» о кондитерской писатель Сирин, всласть издеваясь над объявившим в крепости голодовку Чернышевским, назвал «невольным воплем желудочной лирики».15812 «Нашего же героя юность была кондитерскими околдована... – ёрничает он, – журналами, господа, журналами, вот чем! Он пробовал разные, – где газет побольше, где попроще, да повольнее».15823 Презиравшему «газетное мышление» Фёдору подобное увлечение кажется всего лишь очередным проявлением сумасбродства его героя: подумать только! – кондитерские Чернышевский посещал всего-навсего ради чтения иностранной прессы. Однако, чем больше рассказчик гонится за эффектом гротеска, тем вернее ему изменяет вкус, – и тем безнадёжнее мелеет до бессмыслицы содержательность повествования.
Когда 23-24 февраля 1848 года в Париже произошла революция, она «произвела на Чернышевского сильнейшее действие»,15831 и именно это событие побуждало его теперь посещать кондитерские, где он мог, не тратя денег на газеты и журналы, читать зарубежную прессу. С конца мая, когда он начал вести дневник, в нём появились заметки, свидетельствующие о том, что он пытался разобраться в характере и взаимодействии различных общественных и политических течений и определить своё место в существующем раскладе сил: «…всё более утверждаюсь в правилах социалистов».15842 При некоторых незначительных колебаниях эта позиция оказалась устойчивой, и 15 мая 1850 года в письме из Петербурга своему другу М.И. Михайлову Чернышевский косноязычно, но уверенно подводит итог своим поискам политического самоопределения: «С самого февраля 1848 года и до настоящей минуты всё более и более вовлекаюсь в политику и всё твёрже и твёрже делаюсь в ультра-социалистском образе мыслей… Года полтора я только и дела делал, что читал газеты, и выдавалось часто по нескольку месяцев таких, что я каждый день бывал у Вольфа или где-нибудь в другой кондитерской».15853 Таков был на самом деле «чёрный уголок», как нелестно отозвался автор о теме кондитерских, из которой выделившему её автору только и хотелось, что «поскорее вылезти».15864 На самом же деле, именно в этом «уголке» черпал будущий «властитель дум» значительную часть информации для формирования своих общественно-политических взглядов.
Интимный дневник, который Чернышевский завёл в Саратове зимой 1853 года, когда познакомился с девятнадцатилетней дочкой доктора Васильева, Ольгой Сократовной, Набоков, в отличие от Стеклова, назвавшего его «ликующим гимном любви», полагает относящимся скорее к жанру «добросовестнейшего доклада», который он сам, однако, излагает не вполне добросовестно. «Здесь, – поясняет Долинин, – Набоков откровенно неточен». Проект любовного объяснения не был, как уверяет Набоков, «в точности приведён в исполнение», – напротив, «Н.Г. намеревался сказать, что по разным причинам он не может “связывать себя семейством”, но неожиданно для самого себя сделал Ольге Сократовне предложение, которое она приняла». Что же касается всех остальных рассуждений на этот счёт, то они, вместе «со сметой брачного быта», следуют в дневнике через две недели после объяснения, а не до него, и не содержат опасений относительно возможного, в подражание Жорж Санд, ношения молодой женой мужского платья; наоборот, женихом предлагается инициатива когда-нибудь вместе с ней подурачиться таким образом в Петербурге, на Невском.15871
То обстоятельство, что Чернышевский, поддавшись чувству, нечаянно переступил через своё решение в брак не вступать, никак не повлияло на его готовность принимать практическое участие в ожидаемых им революционных событиях и платить за это самую высокую цену. «У меня такой образ мыслей, – пишет он в дневнике, – что я должен с минуты на минуту ждать, что явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость, Бог знает, на сколько времени… Кроме того, у нас скоро будет бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нём».15882 Из этой тирады Набоков цитирует только её концовку: «Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьём, ни резня». Потому и предполагалось, среди прочего, отказаться от семейной жизни, что «раньше или позже я непременно попадусь», о чём Чернышевский, «ради пущей честности» (непременный, не без издёвки, комментарий Набокова) и рассказал невесте.15893
Чернышевский окажется безошибочным для себя пророком: неизбывная жажда жертвенного служения общественному благу настойчиво искала себе выход, – причём в таком виде и в таких свойственных личности её носителя проявлениях, что он не мог не «попасться». Сценарий же, ведущий к роковой ловушке, кажется нелепым и «хрустально ясно» видим через призму набоковской пародии. Свидетельство тому, несколько лет спустя, – история с разбирательством изъятых при аресте Чернышевского двух тетрадей его интимного дневника. Она поистине кажется дурным продолжением «шуточных церемоний, которыми густо украшались саратовские вечера»; их описание «занимает почётнейшее место в дневнике и, – проницательно отмечает биограф, – особенно важно для понимания многого в судьбе Николая Гавриловича».15904
Подобно тому, как в Саратове, женихом, Чернышевский был «охоч до дурачеств», он и узником в крепости затеял некие «игры», никак, однако, адекватно не соотносимые с тем, чем он играл на этот раз, – и позаимствуем у Набокова уместное здесь его замечание в скобках: «(всё это до жути не смешно)».15915
Не смешно, что, сидя в крепости, Чернышевский начал с властями предержащими игру, подобную саратовской шутовской дуэли палками. Воспользовавшись тем, что его «зашифрованный домашним способом» дневник разбирали «люди, видимо, неумелые»,15921 и слово, купированное до «дзрья», было прочитано как «друзья», что меняло смысл фразы на противоположный, – он всерьёз посчитал это достаточным для обоснования своего алиби. Ведь если первоначальный смысл фразы: «…подозрения против меня будут весьма сильными», сменился, из-за неправильной расшифровки, на «у меня весьма сильные друзья», – очевидно, что речь здесь идёт не о нём, так как у него, у Чернышевского, никаких влиятельных друзей в то время не было, и, следовательно, здесь фигурирует всего лишь некий литературный персонаж, к которому он сам не имеет ни малейшего отношения. И достаточно по пунктам, в письменной форме донести до сенатской следственной комиссии, что дневник – это не что иное как черновые материалы к будущим романам, «вольная игра фантазии над фактами», чтобы представить убедительные доказательства его полной невиновности.15932 В подтверждение этой версии в сенат посылались специально написанные страницы, выдаваемые за дополнительные к дневнику черновики, и вымышленный Набоковым критик Страннолюбский «прямо полагает, что это и толкнуло Чернышевского писать в крепости “Что делать?”» – в уверенности, что описание всяких «домашних игр» будет понято как всего лишь «фантазия», потому что «не станет же солидный человек… («горе в том, – поясняет читателю Годунов/Набоков, – что в казённых кругах его и не считали солидным человеком, а именно буфоном, и как раз в ш у т о в с т в е его журнальных приёмов усматривали бесовское проникновение вредоносных идей)»15943 (разрядка в тексте – Э.Г.).








